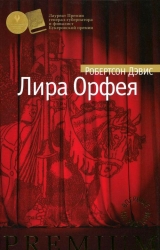
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
3
Встреча между Фондом Корниша и родителями Шнак состоялась в конце мая в гостиной пентхауса. Все согласились, что встречу лучше провести, хотя знали, что никакого толку от нее не будет. Прошло два месяца с тех пор, как фонд принял решение поддержать Шнак в ее работе по воскрешению, воплощению и облачению в новые одежды «Артура Британского» по записям Гофмана. Конечно, уже давно пора было встретиться со Шнакенбургами, но Артур слишком плохо себя чувствовал, и у него не было сил. Сейчас, в конце мая, он пошел на поправку, но был еще бледен и быстро уставал.
Кроме Артура и Марии, присутствовал только Даркур – Холлиер сказал, что ему нечего привнести в эту встречу, а Герант Пауэлл был слишком занят близящимся началом Стратфордского театрального фестиваля и не мог ни на что отвлекаться. Шнакенбургов просили прийти в половине девятого, и они явились точно в срок.
Родители Шнак оказались вовсе не ничтожествами, каких представил себе Даркур по рассказу Уинтерсена. Элиас Шнакенбург был не очень высокий, но очень худой, отчего казался высоким; на нем был приличный серый костюм и темный галстук. Седые волосы уже начали редеть. Серьезное лицо носило отпечаток достоинства, какого Даркур не ожидал: этот часовщик был мастером своего дела и никому не слугой. Жена была такая же седая и худая, в фетровой шляпе, слишком теплой для мая, и серых нитяных перчатках.
Артур рассказал им про замысел фонда и объяснил, что фонд желает поддержать молодую женщину, которая, по-видимому, подает большие надежды, а ее проект будит воображение. Директора фонда полагают, что реализация проекта будет связана со значительными расходами. Поэтому руководство фонда, хотя ни в коем случае не считает Шнакенбургов ответственными за успех проекта, сочло необходимым известить родителей Хюльды о происходящем.
– Если вы не считаете нас ответственными, мистер Корниш, то чего вы от нас хотите? – спросил отец.
– Попросту доброго отношения. Согласия на проект. Мы не хотим, чтобы казалось, будто мы пытаемся действовать без вашего ведома.
– Вы думаете, что Хюльде не безразлично наше согласие или наши сомнения?
– Мы не знаем. Мы полагали, что ей хотелось бы заручиться вашим одобрением.
– Нет. Наше согласие, наш отказ – все это ничего не будет для нее значить.
– То есть вы считаете ее полностью независимой?
– Разве мы можем так считать? Она – наша дочь, и мы до сих пор не отказались от мысли, что мы за нее ответственны, мы продолжаем ее горячо любить. Мы считаем, что обязаны ее оберегать – что бы там ни говорил закон. Оберегать, пока она не выйдет замуж. Мы ее не отвергали. Она заставила нас почувствовать, что это она нас отвергла.
Он говорил с легким немецким акцентом, но очень правильно построенными фразами.
Миссис Шнакенбург беззвучно заплакала. Мария побежала за стаканом воды, в то же время думая: «Какой смысл добавлять воду к слезам?» Даркур решил, что нора вмешаться.
– Уинтерсен, заведующий кафедрой, говорил, что у вас с дочерью напряженные отношения. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем в это вмешиваться. Но мы должны поступать определенным образом, не становясь ни на чью сторону в личных конфликтах.
– Это, конечно, очень по-деловому и по правилам, но мы здесь говорим не о делах. Мы чувствуем, что потеряли дочь, наше единственное дитя. И этот проект, который вы так любезно устраиваете, сделает только хуже.
– Ваша дочь еще очень молода. Возможно, вы вскоре помиритесь. И конечно, я могу вас заверить, что мы – мистер и миссис Корниш и я – готовы помочь всем, чем можем.
– Вы очень добры. Желаете нам добра. Но вы не те люди, кто может тут что-то поделать. Хюльда нашла себе других советчиков. Не таких, как вы. Вовсе не таких.
– Может быть, если вы нам расскажете, это как-то поможет? – спросила Мария.
Она сидела рядом с миссис Шнакенбург и держала ее за руку. Мать молчала, но отец, повздыхав, продолжал рассказ:
– Мы виним себя. Нужно, чтобы вы это поняли. Возможно, мы были чересчур строги, хотя и непреднамеренно. Видите ли, мы тверды в вере. Мы очень строгие лютеране. Мы и Хюльду так воспитывали. Никогда не позволяли ей все подряд, как сейчас многим детям позволяют. Я виню себя. Мать всегда была добра к ней. Я не проявил должного понимания, когда она решила идти в университет.
– Вы возражали? – спросил Даркур.
– Не совсем так. Я просто не видел смысла. Я хотел, чтобы она окончила секретарские курсы, устроилась на работу, была счастлива, нашла хорошего жениха, вышла замуж… дети… Вы понимаете.
– Вы не видели ее музыкального дара?
– О да. Это было ясно еще в ее детстве. Но ведь она могла и музыкой заниматься. Мы платили за уроки, пока это не стало слишком дорого. Мы ведь люди небогатые. Мы подумали, что она может принести свой музыкальный дар церкви. Руководить хором, играть на органе. В церкви для этого всегда есть место. Но разве можно построить на музыке целую жизнь? Мы сочли, что нет.
– Вы не думали, что музыка может стать профессией? Завкафедрой говорит, что у вашей дочери задатки композитора.
– Да… я знаю. Он и мне это говорил. Но вы бы захотели, чтобы ваша дочь… единственная дочь… вела такую жизнь?
Вы хоть что-то хорошее слыхали об этом образе жизни? Что там за люди? Судя по тому, что я слышал, – нежелательные элементы. Конечно, господин Уинтерсен, кажется, достойный человек. Но он преподаватель, верно? Это что-то надежное. Я пытался настоять на своем, но, похоже, времена родителей, настаивающих на своем, давно прошли.
Даркур знал тысячи таких историй.
– Значит, ваша дочь взбунтовалась? Но ведь все дети бунтуют. Это необходимо…
– Почему необходимо? – В голосе Шнакенбурга впервые прозвучала воинственная нотка.
– Чтобы найти себя. Любовью можно задушить, вы согласны?
– Разве Божья любовь душит человека? Подлинного христианина – никогда.
– Я имел в виду родительскую любовь. Даже любовь добрейших, самотверженнейших родителей.
– Любовь родителей – это воплощение Божьей любви в жизни ребенка. Мы молились вместе с ней. Просили Бога даровать ей смиренное сердце.
– Понятно. И что было дальше?
Пауза.
– Я не могу вам рассказать. Не хочу повторять все, что она говорила. Не знаю, где она набралась таких слов. Впрочем, знаю; в наше время их можно услышать где угодно. Но я думал, что девушка, получившая такое воспитание, закрывает слух для подобной грязи.
– И она ушла из дома?
– Да; вышла в чем была, после нескольких месяцев, которые я не согласился бы пережить вновь ни за какие деньги. У кого-нибудь из вас есть дети?
Все покачали головой.
– Тогда вы не можете знать, через что прошли мы с матерью. Она нам не пишет, не звонит. Но мы, конечно, знаем, что с ней происходит, потому что я навожу справки. Да, я признаю, что она хорошо окончила университет. Но какой ценой? Мы иногда ее видим – тайком, чтобы она не заметила, – и мое сердце болит при виде ее. Я боюсь, что она пала.
– Что вы имеете в виду?
– Что я могу иметь в виду? Я боюсь, что она ведет аморальный образ жизни. Иначе откуда она берет деньги?
– Знаете, студенты работают. Они зарабатывают вполне законными способами. Я знаю множество студентов, которые сами оплачивают свою учебу; это по силам только молодым и сильным существам – работать и одновременно с этим учиться. Такие люди заслуживают уважения, мистер Шнакенбург.
– Вы ее видели. Кто даст ей работу, когда она в таком виде?
– Она худая как палка, – произнесла миссис Шнакенбург. Это была ее единственная реплика за всю беседу.
– Вы действительно не хотите, чтобы мы дали ей этот шанс? – спросила Мария.
– Сказать вам честно, миссис Корниш, – не хотим. Но что мы можем поделать? По закону она совершеннолетняя. Мы люди бедные, а вы богатые. У вас нет детей, так что вы не знаете, какую боль они приносят. Надеюсь, ради вашего же блага, что это и дальше так будет. У вас есть разные идеи про всякую музыку, искусство и прочее; у нас ничего этого нет, и нам ничего этого не надо. Мы не можем с вами сражаться. Мир скажет, что мы стоим у Хюльды на пути. Но мир для нас не главное. Для нас важнее другие вещи. Мы разбиты. Не думайте, что мы этого не знаем.
– Мы, конечно же, не хотим, чтобы вы считали себя разбитыми или думали, что это мы вас разбили, – сказал Артур. – Мне бы хотелось, чтобы вы попробовали взглянуть на ситуацию с нашей точки зрения. Мы искренне хотим предоставить вашей дочери тот шанс, которого заслуживает ее талант.
– Я знаю, вы хотите добра. Когда я сказал, что мы разбиты, я имел в виду, что мы проиграли одно сражение. Но мы тоже дали Хюльде кое-что, знаете ли. Дали ей источник всякой истинной силы. И мы молимся… молимся каждую ночь, иногда по целому часу… о том, чтобы она вернулась к нам, пока еще не поздно. Господня милость неисчерпаема, но если грешник пинает Господа в лицо, то Он рано или поздно обойдется с ним сурово. Мы приведем нашу девочку обратно к Богу, если это вообще можно вымолить.
– Значит, вы не отчаиваетесь, – сказала Мария.
– Разумеется, нет. Отчаяние – тяжелейший грех. Оно ставит под вопрос милость и всемогущество Бога. Мы не отчаиваемся. Но мы всего лишь люди, мы слабы. Мы не можем не испытывать боли.
Разговор зашел в тупик. Они обменялись еще несколькими репликами – Шнакенбург был неизменно вежлив, но не уступил ни на волосок, – и чета Шнакенбургов удалилась.
В комнате повисло тяжелое молчание. Артур и Мария, кажется, сильно пали духом, но Даркур был в хорошем настроении. Он подошел к бару в углу и принялся смешивать напитки, которые им показалось невежливо употреблять при Шнакенбургах, наверняка противниках алкоголя. При этом он мурлыкал себе под нос:
Древнюю и вечно новую
Быль поведай мне опять
О невидимом и чаемом,
Чтоб надеяться и ждать,
Чтоб небесной славе Божией
И любви Его сиять.
– Симон, подобные шутки неуместны, – заметила Мария.
– Я просто хотел вас подбодрить. Отчего вы оба такие унылые?
– Я чувствую себя полным дерьмом, – ответил Артур. – Бесчувственный богач, бездетный, одержимый мирской суетой, в погоне за своими прихотями отбирает у бедняков их единственную отраду.
– Она сама себя отобрала задолго до того, как мы вообще о ней услышали, – заметил Даркур.
– Ты же знаешь, о чем я. Тирания привилегированных богачей.
– Артур, ты еще не совсем здоров. И беззащитен перед тонкой психологической атакой. Именно ей ты подвергся. Этот Шнакенбург знает все приемы, чтобы заставить людей чувствовать себя полным дерьмом, если они не разделяют его личный взгляд на вещи. Это месть униженного и оскорбленного. Ты не имеешь морального нрава пинать бездомную собаку, зато она имеет право тебя укусить. Это одна из неустранимых несправедливостей общества. Не обращай внимания. Иди вперед, как шел.
– Симон, ты меня удивляешь. Этот человек говорил от глубокого, искреннего религиозного чувства. Мы можем не разделять это чувство, но обязаны его уважать.
– Слушай, Артур, специалист по религии здесь я. Не бери в голову.
– Ты ритуалист, адепт высокой церкви, и презираешь их простоту. Я не знала, что ты такой сноб, – гневно произнесла Мария.
– А ты в глубине души так и осталась суеверной цыганской девчонкой, и стоит кому-нибудь упомянуть Бога, как ты моментально размякаешь. Я не презираю ничьей простоты. Но я вижу, когда притворная простота – способ добиться власти.
– Какая же власть у этого человека? – спросил Артур.
– Например, он может сделать так, что ты почувствуешь себя полным дерьмом, – отпарировал Даркур.
– Симон, ты не прав, – сказала Мария. – Он говорил о Боге с такой уверенностью и с таким доверием. Я почувствовала себя легкомысленной дурой.
– Дети, послушайте старого аббата Даркура и перестаньте себя грызть. Я видел сотни таких людей и разговаривал с ними. Да, у них есть глубина и твердость веры, но купленные ценой безрадостного отношения к жизни, нежелания знать. Все, что эти люди требуют у Бога, – некий эквивалент духовной минимальной зарплаты, а в обмен они готовы отдать всю радость жизни – которую тоже сотворил Бог, позвольте вам напомнить. Я зову таких верующих «Друзья Минимума». Господь, неисправимый шутник, послал им дочь, которая хочет войти в ряды Друзей Максимума, и вы в силах помочь ей. Вера ее родителей – как крохотная свеча, горящая в ночи; ваш Фонд Корниша – назовем его из скромности сорокаваттной лампочкой, которая освещает Шнак путь к лучшей жизни. Не следует выключать лампочку из-за того, что свеча кажется такой жалкой и слабой. Да, Шнак сидит в яме. На нее страшно смотреть. Она – маленькая злобная тварь. Но единственный путь для нее – вперед, а не назад к хорошей работе, хорошему мужу, как две капли воды похожему на папочку, и детям, рожденным в том же рабстве. Отец Шнакенбург – крепкий орешек. Вам тоже надо быть крепкими.
– Симон, я и не знал, что ты стоик, – сказал Артур.
– Я не стоик. Я нечто очень немодное в наше время: оптимист. Дайте девочке шанс.
– Конечно дадим. Мы уже обязались. Пути назад нет. Но мне не нравится думать, что я попираю слабых.
– Ах, Артур! Какой ты сентиментальный болван! Неужели ты не видишь? Шнакенбургу необходимо, чтобы его попирали! Это нужно ему как воздух! В великой предвыборной гонке жизни он баллотируется на пост мученика, и ты ему помогаешь. Да, у него есть глубокая и твердая вера. А что у тебя? Ты баллотируешься на пост мецената, великого покровителя искусств. Это достаточный источник уверенности и убеждения в своей правоте. Так что тебя гложет?
– Деньги, наверно, – сказала Мария.
– Конечно деньги! Вы оба страдаете чувством вины, которое наше общество навязывает богачам. Не поддавайтесь! Докажите, что деньги могут творить добро.
– Клянусь Богом, ты и вправду оптимист, – сказал Артур.
– Уже неплохо для начала. Присоединяйтесь ко мне, вступайте в ряды оптимистов, и со временем вы сможете разделить со мной веру во многие другие вещи. Я вам никогда о них не говорил: если работа священника меня чему и научила, так это тому, что проповедовать беднякам во много раз легче, чем богатым. Богачи слишком перегружены чувством вины и слишком упрямы.
– Мы не упрямы! Мы сочувствуем Шнакенбургам. А ты, аббат Даркур, насмехаешься над ними и нас тоже подстрекаешь. Ты англиканин! Обрядовер! Надутый тупой профессор! Омерзительно!
– Это не аргумент, а всего лишь ворох оскорблений. Я даже не снизойду до того, чтобы тебя простить. Я участвовал в подобных сценах столько раз, что вы и представить себе не можете. Зависть заурядных родителей к одаренному ребенку! Для меня это не ново. Удары ниже пояса – потому что у собеседника банковский счет пожирнее твоего, а значит, ты добродетельней! Любимое орудие бедняков-фарисеев. Они используют отвратительный вариант веры, чтобы обрести статус, недоступный для неверующих: рассказывают вам «древнюю и вечно новую» сказку и ждут, что вы сломаетесь. И вы ломаетесь. Настоящая вера, друзья мои, – сторонница эволюций и революций; именно таким должен стать ваш Фонд Корниша, или он останется ничем.
– Симон, из тебя вышел бы отличный проповедник, – заметила Мария.
– Я никогда не искал такого рода работы; она раздувает эго и может привести к гибели.
– Мне лично стало намного лучше. Не знаю, как Артуру.
– Симон, ты хороший друг, – сказал Артур. – Прости, что я тебе нахамил. Я беру назад «надутого» и «тупого». Но то, что ты профессор, – это правда. Давай забудем про Шнакенбургов, насколько получится. Как там книга про дядю Фрэнка? Продвигается?
– Да, кажется, наконец сдвинулась с мертвой точки. По-моему, я вышел на след.
– Отлично. Ты ведь знаешь, мы хотим, чтобы книга получилась. Я шучу на эту тему, но ты понимаешь… Мы тебе доверяем.
– Спасибо. Я продвигаюсь. Кстати, я тут исчезну на неделю или около того. Отправляюсь на охоту.
– Какая охота? Сейчас не сезон.
– Только не на мою дичь. Мой сезон как раз начался.
Даркур допил то, что оставалось у него в стакане, и ушел, напевая:
О невидимом и чаемом,
Чтоб надеяться и ждать,
Чтоб небесной славе Божией
И любви Его сиять…
Но в голосе сквозила ирония.
– Старый аббат – истинный друг, – сказал Артур.
– Я его люблю.
– Платонически, надеюсь.
– Конечно. Как ты можешь сомневаться?
– Если дело касается любви, я готов сомневаться в чем угодно. Я не могу воспринимать тебя как должное.
– Можешь, вообще-то.
– Кстати, ты мне так и не сказала, что мамуся наворожила Симону, пока я был в больнице.
– По сути – только то, что в жизни каждый должен получить свою порцию шишек.
– Я, кажется, уже выбрал свою норму шишек. Шишек и свинок. Но мне уже лучше наконец-то. Сегодня будем спать вместе.
– Ой, Артур, как хорошо! А тебе можно?
– Учение Даркура об оптимизме. Давай попробуем.
И они попробовали.
4
Комната в квартире на Парк-авеню превосходила великолепием все, что Даркур когда-либо видел. Это была работа гениального декоратора – настолько гениального, что ему удалось превратить комнату скромных размеров в нью-йоркской квартире в залу большого особняка или даже небольшого дворца где-нибудь в Европе. Панели с росписью гризайль, несомненно, происходили из дворца, но их подогнали по размеру так, словно они изначально находились тут. Обстановка была элегантная, но удобная, какой не бывает во дворцах; в комнате хватало современной мебели, на которой можно было спокойно сидеть, не опасаясь, что изнашиваешь ценный антиквариат. Картины на стенах выбирал явно не дизайнер интерьеров – они говорили о цельном, личном вкусе; некоторые были некрасивы, но декоратор повесил их так, чтобы они смотрелись наиболее выгодно. Целые столы были нагружены безделушками – то, что в журналах по дизайну интерьера называют «изящным мусором», – но этот мусор, несомненно, принадлежал владельцам комнаты. На изящном антикварном дамском письменном столике стояли фотографии цвета сепии; они были вставлены в рамки с гербами, явно принадлежащими людям, чьи лица выцветали на фотографиях. Красивый, но не легкомысленный письменный стол указывал на то, что в этой комнате занимаются делами. Горничная в элегантном форменном платье попросила Даркура присесть и сказала, что княгиня сейчас выйдет.
Княгиня вошла очень тихо. Ей было, видимо, за пятьдесят, но выглядела она гораздо моложе: дама великой красоты, но не профессиональная светская красавица; Даркур не встречал женщин изысканнее.
– Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать, профессор Даркур. Меня задержал скучный телефонный звонок.
Она говорила деликатно, с ноткой веселья в голосе. Английский выговор графини был идеален, – возможно, у нее была в детстве английская гувернантка? Но оставался легкий намек на акцент, словно родным языком княгини был другой. Может быть, французский? Немецкий?
– Большое спасибо, что приехали. Ваше письмо меня очень заинтересовало. Вы хотели спросить об этом рисунке?
– Да, княгиня, если можно. Княгиня, правильно? Я увидел его в журнале, и он приковал мой взгляд. Разумеется, как и было задумано.
– Мне очень приятно это слышать. Разумеется, по моему замыслу рисунок должен привлекать внимание. Вы не поверите, скольких трудов мне стоило убедить рекламщиков, что это будет именно так. Они очень шаблонно мыслят, вы не находите? «Ах, кто будет смотреть на старомодную картинку?» – сказали они. «Любой, кто устал от крикливых, вульгарных девиц на прочей рекламе», – ответила я. «Но в этом году такая мода», – сказали они. «Но то, что я предлагаю, относится не только к этому году. Оно живет дольше. Я обращаюсь к людям, кругозор которых не ограничен одним годом». Они не хотели слушать. Мне пришлось настаивать.
– А теперь они убедились, что вы были правы?
– Теперь они утверждают, что это была с самого начала их идея. Ах, профессор, вы не знаете рекламщиков.
– Зато я знаю людей. Я верю тому, что вы рассказываете. Они, конечно же, поняли, кто изображен на рисунке?
– Голова девушки, семнадцатый век. Да, они это знают.
– А девушку они не узнали?
– Как они могли ее узнать?
– Ну, глаза-то у них есть. Я узнал эту девушку, как только вы вошли в комнату, княгиня.
– В самом деле? У вас острый глаз. Может быть, она моя прапрапрапрабабушка. Этот рисунок из фамильной коллекции.
– Княгиня, с вашего позволения, я буду говорить откровенно. Я видел подготовительные эскизы к этому рисунку.
– В самом деле? Где же, позвольте узнать?
– В собрании моего друга, одаренного художника, которому особенно хорошо удавалось подражание стилю минувших веков. Он оставил множество рисунков – копировал их из обширных коллекций подобных вещей. Другие рисунки он делал с натуры, насколько я мог понять из пометок на них. В его коллекции я нашел пять набросков девичьей головы, которые превратились в принадлежащий вам рисунок, опубликованный для рекламы.
– Где сейчас эти наброски?
– В Канадской национальной галерее. Мой друг завещал галерее все свои рисунки и картины.
– Кто-нибудь, кроме вас, заметил это поразительное сходство?
– Пока нет. Вы же знаете, как работают галереи. У них залежи вещей, еще не внесенных в каталог. Я увидел эти рисунки, когда готовил коллекцию моего друга к передаче в галерею. Я был его исполнителем по завещанию. Возможно, пройдут годы, пока этим рисункам кто-нибудь уделит серьезное внимание.
– Как звали этого художника?
– Фрэнсис Корниш.
Княгиня, которую, кажется, забавлял весь этот разговор, рассмеялась:
– Le beau ténébreux! [16]16
Мрачный красавец (фр.).
[Закрыть]
– Прошу прощения?
– Так мы его прозвали, я и моя гувернантка. Он учил меня тригонометрии. Он был такой красивый, серьезный и правильный, а я жаждала, чтобы он отшвырнул карандаш, заключил меня в объятия, осыпал поцелуями мои пылающие губы и воскликнул: «Бежим со мной! Я унесу тебя в свой полуразрушенный замок в горах, и там мы сольемся воедино и будем любить друг друга, пока звезды не сойдут с небес, чтобы подивиться нашей любви!» Мне было пятнадцать лет. Le beau ténébreux! Что с ним стало?
– Он умер около двух лет назад. Как я уже сказал, я был одним из исполнителей по завещанию.
– Он занимался своей работой?
– Он был собирателем и ценителем искусства. Он был очень богат.
– Значит, он отошел от дел?
– Нет-нет, он очень активно занимался собирательством.
– Я имею в виду его профессию.
– Профессию?
– Вижу, вы ничего не знаете о его ремесле.
– О каком ремесле вы говорите? Я знаю, что он изучал живопись.
Княгиня снова музыкально рассмеялась.
– Простите, княгиня, но я вас не понимаю.
– Прошу меня извинить. Я просто вспомнила le beau ténébreux и его живописные этюды. Но настоящая его работа была другая.
Даркур сиял от восторга: наконец-то! Чем же занимался Фрэнсис Корниш все эти годы, о которых не осталось никаких записей? Княгиня знает. Пора говорить начистоту.
– Я надеюсь, вы мне расскажете, в чем заключалась его настоящая работа. Видите ли, я решил написать биографию своего старого друга и обнаружил длительный период, примерно с тридцать седьмого по сорок пятый год, о котором почти нет информации. Я знаю, что в сорок пятом году он вошел в комиссию, которая работала над возвращением законным владельцам всей огромной массы картин и скульптур, перемещенных во время войны. Все, что вы можете рассказать об этом неизвестном мне периоде, будет чрезвычайно полезно. Вот, например, этот ваш портрет: он заставляет думать, что вы были знакомы несколько ближе, чем просто преподаватель тригонометрии и его ученица.
– Вы так думаете?
– Я кое-что знаю об изобразительном искусстве. Рисунок безошибочно выдает чувство художника к модели.
– Ах, профессор Даркур! Вы ужасный льстец.
«Что да, то да, – подумал Даркур, – и надеюсь, мне удастся охмурить эту тщеславную женщину». Но тщеславная женщина продолжала:
– Тем не менее, мне кажется, с вашей стороны негалантно было намекать, что я могу помнить тридцать седьмой год и тем более – что я в этом году могла уже изучать тригонометрию. Надеюсь, что хотя бы моя внешность не дает оснований для этого.
«Черт! Ей, выходит, лет шестьдесят пять; вот это я ляпнул. У меня всегда было плохо с математикой».
– Уверяю вас, княгиня, что мне ничего подобного даже в голову не приходило.
– Вы сами еще не стары, профессор, и не знаете, что значит время для женщин. Мы пытаемся защититься от него, используя множество полезных орудий. Таких, например, как моя линия косметических средств.
– О да; я желаю вам всяческих успехов.
– Разве вы можете желать мне успеха, если собираетесь разоблачить мой особый знак превосходства, мой рисунок семнадцатого века, как подделку? Но, я полагаю, у вас нет другого выхода, если вы хотите, чтобы ваша книга о le beau ténébreux была правдивой и полной.
– Она не будет правдивой и полной, если вы не расскажете мне, что делал Фрэнсис Корниш в эти годы, о которых я ничего не знаю. И уверяю вас, что я даже не думал упоминать о вашем рисунке.
– Если вы о нем не напишете, кто-нибудь другой напишет. И это может меня погубить. Производство косметики и без того достаточно неоднозначный бизнес, не хватало еще намеков на его связь с подделкой картин.
– Нет-нет, я никогда ни словом о нем не обмолвлюсь.
– Пока эти наброски хранятся в вашей Национальной галерее, опасность будет велика.
– Да, это, к несчастью, так.
– Профессор Даркур, – княгиня явно кокетничала, – если бы вы знали то, что знаете сейчас, о моем рисунке и о том, как я его использую, вы бы отправили те пять набросков в Национальную галерею?
– Если бы я знал, что вы храните ключ к самой интересной части жизни Фрэнсиса Корниша, – очень сомневаюсь.
– А теперь они останутся там навеки?
– Понимаете ли, княгиня, это – государственное имущество. Оно принадлежит канадскому народу.
– Думаете, для канадского народа они когда-нибудь станут очень важны? Индейцы, эскимосы, ньюфаундлендские рыбаки и хлеборобы станут в очередь, чтобы на них посмотреть?
– Боюсь, что я вас не понимаю.
– Если эти рисунки будут у меня в руках, я расскажу вам о Фрэнсисе Корнише такие вещи, которые станут сердцем вашей книги. Рисунки вдохновят меня и освежат мою память.
– А если их у вас не будет?
– Тогда, профессор Даркур, ничего не выйдет.








