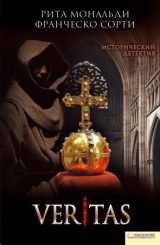
Текст книги "Veritas"
Автор книги: Рита Мональди
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 54 страниц)
На пороге своего двадцатого дня рождения Собачий Нос чувствовал себя ненужным и пустым. Товарищи детских лет осмеяли его, унизили, изнасиловали. Единственные друзья, которые были у него на всем белом сйете, любили использовать его, потому что он был самым низеньким и самым уродливым в их группе. У Собачьего Носа была только одна возможность: нужно было повернуть острие копья против обидчиков. Он был низшим извращенцем – чтобы спастись, ему нужно было превратить это в величайшую добродетель. В самую трудную, самую опасную.
– Он перестал переодеваться женщиной и перешел к переодеванию в солдата. Так он становился другим, тем, кем он, вероятно, никогда не хотел быть. Однако он был вынужден сделать это, чтобы больше не быть Собачьим Носом и Мадам Л'Ансьен. Он не захотел принести духовную присягу? Что ж, он принесет воинскую: Собачий Нос стал жрецом войны.
Он попросил Людовика XIV позволить ему командовать полком. Король, который презирал его, отказал. Тогда Евгений бежал из Франции и перешел к врагу. Он поступил на службу Австрии, где получил командование и солдат, которых так хотел. С этого момента война стала его религией, причем единственной.
Он хотел стать безжалостным и жестоким – более мужественным, чем настоящий мужчина. Никто не должен был узнать, каков он на самом деле. Он перестал писать личные письма, совершенно.
– Многие перехватывали его письма, но все были разочарованы. Его корреспонденция касалась исключительно политических и военных вопросов. Евгению неведомы чувства, человеческие отношения, страсти. Ведом ему только долг.
И долг, в его понимании, был прост: убить как можно больше врагов. С этого момента он отвергал в войне какие бы то ни было перемирия, в мире он искал сражения. Чтобы добиться перевода на самый опасный фронт, чтобы получить достаточно оружия и денег для своих армий, он не боялся вступать в жаркие споры с императором: сначала с Леопольдом, затем с его сыном, Иосифом Победоносным.
И так со временем произошло превращение. Жрец войны стал капитаном смерти. Когда он командовал, сражение продолжалось до последней капли крови. И уже никто, а меньше всего он сам, не связывал его имя с любовью и миром. Он познакомился с миром в Отель-де-Суассон и на собственном теле узнал, что он ведет к пороку.
Любовниц женского пола у него не было; если они и появлялись, то он пользовался этим для того, чтобы пустить пыль в глаза. На самом деле он совершенно не испытывал отвращения к женщинам, однако у капитана смерти в голове было другое. Тем временем его юношеские склонности были забыты. Старым товарищам по извращенным играм это было только на руку.
Годы шли, и тысячи раз свистели над его головой пушечные ядра, он видел, как солдаты мерли, словно мухи, горели соратники, матери и отцы оплакивали смерть своих сыновей, видел, как гибли целые народы. Однако если появлялась возможность заключить мир или, по меньшей мере, установить перемирие, он противился изо всех сил. Капитан смерти должен был удушить остатки Мадам Л'Ансьен в грязи окопов.
Иногда ему удавалось заманить в свою палатку молодого солдата, несшего ночную вахту, и насладиться мимолетным интимом. Только в такие краткие мгновения Евгений уже не знал, кто он: капитан смерти, жрец войны, Собачий Нос или Мадам Л'Ансьен? Однако едва на следующий день он снова надевал начищенные до блеска сапоги, как все возвращалось на круги своя.
– Теперь тебе известна истинная причина, почему Евгений Савойский до конца будет противиться миру, – заключил Атто, которого неприятное объяснение почти полностью лишило сил. – В определенном смысле я пытался объяснить тебе это еще в первый день, когда мы только встретились. Теперь перед тобой действительно полная картина. Евгений не знает, как обращаться с миром. Что он может делать без своего обшитого галунами камзола? В одночасье он снова станет тем, кем был: Мадам Л'Ансьен. Он ненавидит мир, потому что боится его. Он сражается не против Людовика XIV, а против себя самого. И эта войнам еще идет полным ходом.
– Значит, новая стратегия Иосифа, то есть мир с папой и венгерскими повстанцами, разделение Испании с Францией…
– …могла толкнуть Евгения на радикальные меры, – опередил меня аббат. – Собачий Нос принимает решение убить молодого полководца, который вытеснил его со сцены в Ландау. Кроме того, император помешал ему стяжать военную славу в Испании, и, наконец, именно он может однажды вынудить его остаться в Вене и перестать сражаться, то есть снова стать Мадам Л'Ансьен.
– Однако кое-чего я по-прежнему не понимаю: у нас слишком много виновных. Англия и Голландия, брат Карл, иезуиты, бывшие министры и Евгений. Кто из них нанес удар?
– Я тоже не вижу этого отчетливо. Потому что только Англия и Голландия точно заинтересованы в смерти великого дофина. Какой прок от этого остальным, я не понимаю. Нужно не спускать глаз с турок и выяснить, какие цели на самом деле преследует дервиш, когда играет с головами своих ближних.
– О, кстати! Полчаса назад я должен был встретиться с Угонио! – воскликнул я, когда взгляд мой упал на богато украшенный фасад дома напротив, на вершине которого красовались роскошные золотые с синим часы. Они показывали девять часов тридцать минут.
* * *
Сестра обеспокоенно стучала в дверь моей квартиры: человек, который спрашивал меня у ворот, уже приходил ровно в девять часов. Она никогда прежде не видела его и была крайне взволнована: Клоридии не было, ее срочно вызвали во дворец принца Евгения. У жены камергера начались схватки. Поэтому молодая монахиня попросила странного посетителя прийти позднее.
Поскольку тот и во второй раз отказался назвать себя, я спросил монахиню, как он выглядит, и краткого описания оказалось достаточно, чтобы понять, о ком идет речь.
Тщетно пытаясь изъясниться на своем жалком немецком языке, я попросил Симониса, который как раз вернулся с малышом с работы, объяснить сестре, что нет никаких причин волноваться. Она может спокойно впустить страшное существо, потому что речь идет об известной мне и совершенно безвредной личности, несмотря на его необычную внешность. Затем я послал малыша поиграть в крестовом ходе.
– Я представляю вашей грандиозности мои нижайшие восхваления, наряду с причмокиваниями и прочей галантереей. – Угонио подошел ко мне с раболепными жестами, голос его был приглушенным и прокуренным.
Тут он увидел, что здесь еще и Атто, и продолжил рассыпаться в помпезных приветствиях:
– Я с удовольствием визирую, что господин аббатус пребывает в превосходнейшем отдохновении. И дабы быть скорее лекарем, чем лицемером, перегружаю я вашей возвышенности с достойнейшими признаниями за такую магнитудость.
Он увидел, что Атто слеп, и выразил сожаление, изобразив на своем лице крайнюю обеспокоенность.
– Я тоже сразу узнал тебя, – ответил аббат и тут же поднес к носу платок, чтобы защититься от ужасной вони, исходившей от плаща осквернителя святынь.
Через плечо у Угонио висел грязный и древний джутовый мешок, в котором, как можно было предположить, находилось что-то отвратительное.
– Покончим с болтовней, – строго приказал я ему. – Какие новости ты принес?
Новости очень положительные, заявил осквернитель святынь. Как он и обещал во время нашей прошлой встречи, теперь он свободен и волен объяснить мне природу его таинственных взаимоотношений с Кицебером.
– Так говори же.
– Я должен был передать ему обман бесконечной редкости и ценности.
– Это мы уже знаем, – ледяным тоном ответил я, – это человеческая голова.
Казалось, осквернитель святынь замер: как мы узнали об этом? А потом негромко хрюкнул, словно в подтверждение моих слов. Обстоятельства, которые он изложил и которые я в дальнейшем вынужден передать с максимальной точностью, звучали весьма странно и невероятно, хотя позднее, когда я провел некоторое расследование, полностью подтвердились.
Рассказ его начался с 1683 года, времени последней, самой знаменитой осады Вены турками.
Жил тогда в Турции великий визирь, Кара-Мустафа-паша. который желал напасть на столицу империи. Он предложил этот поход султану, сам возглавил войска и потерпел сокрушительное поражение. На нем лежала вся ответственность; утром после поражения судьба его была решена.
Прежде чем отправиться на войну, Кара-Мустафа, уверенный в победе, пообещал султану в подарок голову кардинала Коллонича, который в те времена был в Вене одним из самых влиятельных сторонников войны с турками. Чтобы заручиться божественной поддержкой Мохаммеда, великий визирь, кроме всего прочего, перед началом кампании приказал построить в Белграде роскошную мечеть.
После поражения оказалось, что султан не забыл об обещании своего подданного и счел очень забавным повернуть это против него с поистине варварским сарказмом.
– Он влил ему злую, очень отвратительную и омерзительную шутку, – злорадно ликовал Угонио.
25 декабря, в день рождения нашей Святой земли, а значит, в очень важный для кардинала Коллонича день (и это была лишь первая из ужасных насмешек судьбы), в час пополудни высокие сановники из придворного совета султана вошли в дом Кара-Мустафы в Белграде. Впереди шел ага янычар в сопровождении нескольких сильных мужчин. Кара-Мустафа удивленно спросил, почему они утруждаются, посещая его в такой час, и не случилось ли чего серьезного. Посреди группы сановников он увидел строгое лицо Капигибачи, церемониймейстера султана, и заключил, что сановники принесли приказ от его повелителя. И действительно, ага янычар объявил ему, что султан издал декрет. Когда он показал его, на Кара-Мустафу обрушились четверо берсерков.
Великого визиря связали веревкой, а затем обезглавили – ему был уготован тот самый конец (вот и вторая насмешка), который предназначался кардиналу Коллоничу. Согласно древнему турецкому обычаю с головы потом содрали кожу и плоть. Султану принесли начиненную ватой и травами кожу лица, чтобы тот убедился в смерти своего визиря. Череп без плоти, но вместе с телом и веревкой был похоронен (а вот вам и третья насмешка злой судьбы) в построенной по приказу Кара-Мустафы мечети – в назидание подданным Блистательной Порты, которые не справились с выполнением своих обещаний.
– А потом султан настоял на очень странной и досадной непредусмотрительности, – заявил вонючий плут.
Султан, конечно, не мог предугадать, что в 1688 году, пятью годами позже, Белград попадет в руки христиан. После ожесточенных боев под командованием курфюрста Баварского и герцога Лотарингского императорские войска смогли наконец взять город штурмом и подчинить себе. Поскольку отцы-иезуиты были первыми, кто после победы затянул «Те Deum», мечеть Кара-Мустафы передали двум иезуитам, чтобы те превратили ее в католическую церковь. То были исповедник герцога Лотарингского, отец Алоизий Браун, и отец-миссионер Франц Саверий Берингсхофен.
Однажды ночью из мечети раздались жуткие звуки, словно кто-то бил киркой по стене или разбивал предметы. Браун и Берингсхофен поспешно вызвали группу вооруженных мужчин, чтобы те выяснили, кто это в такое время ходит по зданию и не привидения ли это. Размахивая перед собой кадилами и фонарями, оба отца, дрожа от страха, вошли вместе с солдатами в мечеть, сопровождаемые другими вооруженными людьми, и обнаружили, что вовсе не привидения потревожили ночной покой, а люди из плоти и крови. То были семеро мушкетеров, они добровольно вступили в христианскую армию, только что отвоевавшую Белград. Мушкетеры испуганно пояснили, что храбро сражались во время нападения на город, некоторые из них даже были ранены, однако при разделе добычи им ничего не досталось. Зима на пороге, а у них не было достаточно денег, чтобы купить себе даже теплую одежду. От одного приятеля они узнали, что в этой мечети погребен Кара-Мустафа, вместе с множеством очень дорогих предметов, среди которых была и роскошная зимняя одежда, которая пришлась бы очень кстати семерым мушкетерам. Поэтому они, не колеблясь, вломились в мечеть, где вскрыли гроб великого визиря.
Опасаясь, что оба иезуита могут рассердиться на них из-за тайного проникновения в мечеть, которая теперь по праву принадлежала обществу Иисуса, семеро мушкетеров предложили отдать иезуитам все, что нашли в гробу Кара-Мустафы, включая странный предмет: его голову.
С этими словами Угонио покопался в своем грязном джутовой мешке и вынул оттуда нечто размером с дыню, завернутое в серый платок. Когда он снял платок, мы все невольно отступили, даже аббат.
То была человеческая голова, покрытая слоем серебра. Однако черты лица проступали отчетливо: высокий лоб, длинный крючковатый нос, как у некоторых евреев, узкие глаза, следы бороды на щеках и мрачное турецкое выражение лица, которое насильственная смерть превратила в отчаянное.
– Так значит, это… – с сомнением пробормотал я.
– …голова Кара-Мустафы, – с ужасом произнес Атто, догадавшийся, что именно вынул из мешка осквернитель святынь.
– Так это и есть та голова, которую хотел от тебя Кицебер! – воскликнул я.
Угонио протянул мне находку, которую я осмотрел со смесью любопытства, отвращения и трепета, втайне благодарный осквернителю святынь за то, что тот не захотел выпускать ее из рук.
В этом лице под серебряной оболочкой, в этом выражении страдания, в этих измученных, искаженных чертах была заключена вся трагедия последней осады Вены: безрассудный план завоевания Кара-Мустафы, кровавая битва, окончательное поражение османов, трагическая смерть великого визиря, жаждавшего поставить христианство на колени. Сколько убитых таилось за одной-единственной морщиной этого искаженного лица? Сколько тысяч миль марша к полю битвы видело оно? Сколько слез вдов, раненых и сирот сгустилось в одной слезе умирающего Кара-Мустафы? Серебряная патина, которая должна была защитить остатки человеческой плоти, превратила его в памятник бренности земной.
Краем глаза я украдкой глядел на Атто, который, потрясенный, как и я, слушал рассказ, впрочем, защищенный щитом своих очков для слепых. Я видел, как подобные допросы проводил он много лет назад! А теперь я задавал вопросы: я был не только человеком зажиточным, но и отмеченным определенным житейским опытом. Старый Атто, подумал я со сладко-горькой смесью гордости, мстительности и сочувствия, был в том возрасте, когда даже самые храбрые солдаты авангарда становятся обычными вояками.
Однако я отбросил в сторону размышления и вернулся к реальности.
– Почему ты так боялся рассказать нам эту историю? – спросил я Угонио. – С чего ты взял, что Кицебер может причинить тебе вред?
– Чтобы уменьшить размышления, чтобы не умножать сомнения, я торжественно поклялся ничего не разбалтывать о делишке, которое поручил мне дервиш. Османцы желают голову великого визионара очень ярким и страстным образом. Они вверяют, что он прогоняет всяческие ненапасти. Он должен помочь им собрать сильное, упрямое и жестокое войско и разрушить Вену в разнообычных монстричествах и позорствах.
Так я с удивлением узнал, что турки, очевидно, полагают, что смогут получить от головы мертвеца то, с чем не справился живой. Что поразило меня еще больше, так это новая картина, образовавшаяся после разоблачений Угонио. Когда моя Клоридия подслушала во дворце Евгения, как Кицебер требовал чью-то голову, речь шла не о преступлении, а о том, чтобы достать голову Кара-Мустафы. Дервиш поручил это задание Угонио, поскольку осквернитель святынь обладал многолетним опытом в торговле реликвиями и предметами, опускаемыми в могилу с покойниками, однако убийства от него он никогда не требовал.
А я-то полагал, что в опасности самая жизнь императора!
Тем временем осквернитель святынь закончил свою историю. Оба иезуита привезли голову Кара-Мустафы в Вену, где она была передана кардиналу Коллоничу. 17 сентября 1689 года кардинал приказал положить голову в гражданский арсенал. С тех пор прошло двадцать два года.
– И как, черт возьми, ты добрался до головы Кара-Мустафы Откуда ты узнал, где ее искать? – спросил Атто.
– Сначала я устроил подробнейшие изыскания, а затем – самое мошенническое и пронырливое изъятие, – пояснил Угонио.
Значит, осквернителю святынь не только удалось узнать, что голова Кара-Мустафы находится в гражданском арсенале, он еще и сумел украсть ее. Но разве я не видел, как он проводил в Риме несколько подобных поразительных операций?
Угонио, как он сам признался с плохо скрываемой гордостью заработал себе в Вене что-то вроде доброго имени среди коллекционеров в этой области. Так же, как и в Риме, городе папы, торговля реликвиями святых представляла собой оживленный рынок, здесь, в городе императора, все, связанное с обеими осадами, пользовалось огромной популярностью, особенно снаряды османских пушек. Осквернитель святынь перечислил ряд популярных маленьких трофеев, которых все так страстно желали, а также камень весом в семьдесят девять фунтов, которым выстрелили в 1683 году с Леопольдинзель и который, украшенный соответствующей памятной надписью, находился в фасаде Нойштадтского двора, пассаже неподалеку, он вел из Прессгассе к Кребсгассе. Или же три пушечных ядра диаметром почти в полклафтера, [86]86
Мера длины.
[Закрыть]тоже вмурованные в стены дома с памятным камнем в местечке неподалеку, Зиверинге, и теперь его называют Дом с тремя пулями. Или известный Золотой шар, которым выстрелили турки 6 августа 1683 года и который до сих пор находится во фронтоне углового здания на маленькой площади Ам Хоф, гостинице, принадлежащей советнику по внешним делам и урегулированию беспорядков Михаэлю Мотцу. Он приказал позолотить шар и дал гостинице имя «У Золотого Шара». Еще одно турецкое ядро можно видеть в стене зала пивной «У Золотого Дракона» в Штайндльгассе. И подвал Эстерхази [87]87
Старинный род венгерских магнатов.
[Закрыть]в Хаархофе полон реликвий времен турецкой войны, а люди, защищавшие город в 1683 году, по вечерам любили пропустить там стаканчик доброго вина. Не говоря уже о драгоценных памятках, оставленных великим польским королем Собеским, который 13 сентября 1683 года в честь победы над турками лично прочел «Те Deum» в часовне Святого Лорето. И наконец, заключил Угонио, у которого от жадности текли слюни изо рта, реликвия всех реликвий: в романской часовне Шоттенкирхе находится самая старая статуя Девы Марии Вены, ей добрых четыре сотни лет, и говорят, что она в первые дни осады 1683 года чудесным образом потушила вспыхнувший пожар.
Все это, как легко было догадаться, может стать следующими жертвами жадности осквернителя святынь. Слушая страстный перечень Угонио, я только вздыхал про себя.
Ведь я снова блуждал в потемках. Голова, выходит, принадлежала Кара-Мустафе; ритуалы Кицебера служили для исцеления; аббат Мелани, несчастный старик, казался жалкой копией себя самого, жить которой осталось недолго. А император был болен, и великий дофин тоже!
Если это имело значение для Атто, то и меня это тоже тревожило. Теперь, когда аббат исповедался мне в том, что уже не играет роли на шахматной доске Европы, я мог наконец вздохнуть с облегчением. Я уже не опасался, что меня потащат на эшафот из-за обвинения в государственной измене. Или нет, напротив, вдруг сказал я себе, снова оказавшись в затруднительном положении: кто-то ведь убил Данило, Христо и Драгомира, товарищей Симониса по университету! Хотя болгарин и румын, как сказал аббат, были подданными Блистательной Порты, но даже он сам вчера вечером не хотел исключать того, что между тремя убийствами может быть связь.
Очевидно для меня было одно: мы все еще не выяснили, что скрывалось за произнесенными на латыни словами аги. Предложение могло быть не таким незначительным, как предполагалось во время аудиенции во дворце принца. С тех пор умерла трое, и все жертвы занимались поиском информации о Золотом яблоке. Более того, Христо успел поведать своему товарищу Симонису, что, по его мнению, разгадка кроется в словах «soli soli soli» и это имеет какое-то отношение к шахматному мату: «шах и мат, король повержен» – эти слова были в записке, спрятанной в шахматной доске. Но что это означает? Может быть, стоит начать поиски сначала, оттолкнувшись на этот раз от шахмат? Уже умерли три студента, императору плохо – времени у нас почти не было. Путь, который указал нам болгарин, похоже, на самом деле был тупиком.
Хотя аббат считал удивительные рассказы о Золотом яблоке легендами, не имевшими под собой никаких оснований (а как можно было доказать, что он не прав?), они были единственным следом, который мог помочь нам расшифровать слова аги. Нам нужна была идея.
Я принес драгоценную связку ключей Угонио, и тот тут же невольно попытался схватить ее своей когтистой рукой, а из уст его вырвалась ругань, смешанная со злобным смехом.
– Пока нет, – заявил я, убирая звенящую связку.
Осквернитель святынь уставился на меня своими кроваво-красными глазами.
– Скажи мне, что ты собираешься делать ближайшие несколько часов.
– Я должен втереться во дворецех Евгения, – ответил он, не отводя глаз от связки ключей, – чтобы передать дервишцу голову великого визионара.
– Как только ты отдашь дервишу голову Кара-Мустафы, тебе будет уже нечего бояться?
Осквернитель святынь ничего не ответил, что можно было расценить как согласие.
– Хорошо. Если ты действительно хочешь вернуть эти ключи, то тебе остается сделать один маленький шаг. Совершенно ясно, что произошло досадное недоразумение. Нашего прежнего соглашения больше нет. Мы полагали, что имеем дело с приготовлениями к убийству, вместо этого речь шла об обычной археологической миссии: поиски головы Кара-Мустафы. Понимаешь, нам пришлось очень долго ждать, чтобы узнать, что ты не можешь нам сказать ничего важного. Это заблуждение требует серьезной компенсации. Я верну тебе ключи, если ты выяснишь, что говорится в надписи на вершине собора Святого Стефана, где когда-то было Золотое яблоко! – сказал я, поскольку вспомнил, что Угонио уже обрабатывал дьякона собора, дабы получить у него соответствующую информацию. – Мне очень жаль, но только тогда счет будет покрыт.
Сначала Угонио отреагировал очень бурным протестом («Это неверная, предательская и грязная ложь!» – кричал он, аж подпрыгивая), однако осознав, что мы с Атто непреклонны, а Симонис силен, он постепенно угомонился и издавал только глухое ворчание. У него не было выбора – мы пустили в ход все средства. На самом деле мы никогда не донесли бы на него. После всех убийств, которые произошли в нашем окружении, мы с Атто боялись городской стражи не меньше, чем он. Но этого он знать не мог, он лишь хотел, чтобы его оставили в покое.
– Я знаю слова дословно и со всеми подробностями! – вдруг воскликнул Угонио, с решительным выражением лица поднимая голову, чтобы уставиться на свои любимые ключи.
– Ах, вот как? – недоверчиво переспросил я.
– Нам только это и нужно, – присоединился к разговору молчавший до сих пор Мелани. – Скажи, от кого тебе это известно?
– Я… меня информатировали. Переврал мне слова… э… секретариус бургомисла.
– Секретарь бургомистра? Когда же это, скажи на милость?
– Будучи скорее отцом, чем отцеубийцей, было это два года назад, шесть четвертей, тринадцать дюймов и полпятилетия, и это была очень достойнейшая и очень доверительная тайна, – быстро ответил он, положив руку на сердце, словно для клятвы.
– Ну, если ты так говоришь… Вчера, правда, ты этих слов еще не знал. Так как же они звучат?
– Э… хм… Quis ротит аигеит, – начал осквернитель святынь, вытянув вперед указательный палец и приняв серьезный вид, будто декламируя речь Цицерона, – de mulłiis cognorauisti… etiam Viennam multorum turcarum… talis melamangiaturpater nosteramen.
Прежде чем слова превратились в несвязное бормотание, Угонио запнулся, словно не мог точно вспомнить.
– Можешь повторить? – спросил аббат Мелани, озадаченный этим бестолковым набором слов.
Угонио глубоко вздохнул, словно вынужден был задерживать дыхание три дня.
– Quis ротит аигеит, de multiis ignoravisti… – начал он.
– Сначала ты говорил cognoravisti,a не ignoravisti.
Угонио обнажил желтые зубы в скабрезной ухмылке, молившей о снисхождении и капле чувства юмора.
– Если я слишком истомляюсь, то перепамятовываю иногда.
– Наверное, ты забыл также, что архангел Михаил написал всего семь слов. Ты сам говорил мне, помнишь? – сказал я.
– Хм… да…
– Довольно, Угонио, – перебил я его, – я вижу, что с тобой иначе нельзя.
Я поднялся и открыл шкаф, где держал некоторые из своих инструментов для чистки труб. Я взял большие щипцы и сделал вид, что ломаю связку ключей.
– Не-е-ет! – закричал осквернитель святынь и хотел броситься на меня, но его тут же удержали сильные руки Симониса.
– Оставь свою смешную ложь при себе, – заявил я Угонио. – Я должен знать, написано ли там, наверху, где когда-то находилось Золотое яблоко, что-то или нет, и если да, то что. Если ты мне не поможешь, я выброшу твои драгоценные ключи в Дунай, один за другим.
– Ну, как угодно. Как насчет сегодня вечером?
– Так быстро? Смотри, если ты опять решишь обмануть меня.
После того как он доставит голову дервишу, с жадной ухмылкой заявил Угонио, у него еще есть «срочнейшие и деликатнейшие» дела. Наверное, опять его грязные делишки. Но потом, со значением подчеркнул он, он целиком и полностью посвятит себя посланию архангела Михаила. У него назначена встреча с дьяконом из собора Святого Стефана, и он полагает, что сразу после нее сможет вернуться к нам с новостями.
– Ах да, – вспомнил я, – собиратель реликвий. Не надувай его слишком сильно, иначе не видать нам откровения архангела.
– А тебе – твоих ключей, – рассмеялся Симонис.
Мы договорились встретиться в монастыре в час вечери, то есть в семь часов. Потому что позже, заявил я Угонио, я буду находиться на репетиции оратории «Святой Алексий» в императорской капелле.
Угонио тысячекратно заверил нас в том, что будет на месте вовремя: своими «делами» он и минуты не может заниматься без любимой связки ключей, в противном случае ему грозит финансовое разорение. Он стар и устал, жаловался он, и нужно позаботиться о достаточном количестве средств на последние дни.
Он немного успокоился, когда я торжественно поклялся на Библии, что буду хранить его ключи как зеницу ока.
Спрятав отрезанную голову в свой отвратительный джутовый мешок, Угонио покинул наши покои. В качестве последнего привета он оставил все тот же прогорклый запах плесени, который распространял еще тогда, когда я наткнулся на его серую, как пепел, фигуру, в мрачных катакомбах подземного Рима двадцать восемь лет назад.
Когда комната освободилась от его омерзительно пахнущего присутствия, я отпер шкаф, который использовал в качестве тайника для связки ключей. Я как раз собирался положить ее на место, когда увидел, что на пол упала записка с причудливыми каракулями. Я поднял ее.
То был кусок бумаги, которая, очевидно, была прикреплена к связке ключей, и я, должно быть, нечаянно оторвал ее. Я развернул записку.
– Вы только посмотрите, – прошептал я.
– Что там такое? – спросил Атто.
То была памятка. Первые строки касались прошедших дней:
Четрг – купечк вымогат
Пятца – молодая бослжнца надув
Субота – вдреча в суде: врть бзазрния свести
Воскресе – фльшивмонет принести
Понеделк – врнуть слепому сиротинушке отнтые вщи, тлько за мнеты
Вторк – прйтись в церкв: свщеника пдкупить
По записям легко было догадаться о предосудительных деяниях осквернителя святынь: вымогательство у купцов, обман молодой послушницы, лжесвидетельство в суде, фальшивомонетничество, возвращение предметов, которые он когда-то отнял у слепого сироты, с требованием за них выкупа, ограбление церкви, ради которого он подкупил священника. То есть обычные гнусности, которыми занималось это существо из подземного мира. А что же написано в записке на сегодняшний день?
Срда – отрзаня глва Хюсейн-паши для дервиша
Так я и думал! Голова, которую Угонио собирался подсунуть дервишу, была (по крайней мере, для османов) не драгоценной головой Кара-Мустафы, а головой некоего Хусейн-паши. О ком бы ни шла речь, это была явно не та голова, которую хотел дервиш. Значит, несмотря на свои магические искусства, Кицебер станет жертвой обмана простого осквернителя святынь.
Когда я прочел записку Мелани, тот изумился не меньше моего. Но как же велико было его удивление, когда в конце этого перечня я громким голосом прочел еще две записи (первая из них была на латыни), которые, вне всякого сомнения, относились к одной хорошо известной нам особе:
Срда псле плудня – Al. Ursinum. Двое пвешных
Потом: дьякон из Штеффль
Это было уже слишком. Я бросил записку в руки Мелани, словно тот мог разгадать ее (и действительно, он, быть может, из-за невыполнимого, но сильного желания прочесть ее, с удивительным проворством поймал листок).
Затем я бросился к двери и на улицу, чтобы нагнать осквернителя святынь. Слишком поздно: выбежав на Химмельпфортгассе, я обнаружил, что Угонио и след простыл. Я побежал до Кернтнерштрассе, вернулся и обежал прилегающие к ней улицы: ничего.
Вернувшись в монастырь, я пояснил аббату Мелани, что должна была означать та запись.
– Al. Ursinum? Конечно, это же очевидно.
Угонио очень разнервничался, когда я отнял у него связку ключей. Потому что вместе с ней он потерял и свой ежедневник, из которого становилось ясно, что голова, которую он собирался передать Кицеберу, принадлежала не Кара-Мустафе, а другой личности. Дервиш грозился отомстить Угонио, если он не сохранит его поручение в тайне. Страшно подумать даже, что будет, если он обнаружит обман.
Однако именно слово «Ursinum» вызвало у нас наибольшие опасения. Оно могло означать не что иное, как латинизированное имя кастрата Гаэтано Орсини. А буквы «AI.» были наверняка сокращением «Святого Алексия», названия оратории, в которой Орсини исполнял роль протагониста. Не столь однозначными, но вовсе не несущественными были личности обоих повешенных.
Что, черт побери, у Угонио за дела с Орсини? Что общего у пронырливого мошенника и известного тенора, друга Камиллы де Росси, более того, близкого друга императора? Неужели у них тайная договоренность?
Может быть, Орсини тоже всего лишь коллекционирует реликвии, сказал я себе, а Угонио должен был с ним встретиться, чтобы продать несколько «редких экземпляров». Но если это так, то почему же осквернитель святынь так ломался, лишь бы не сказать нам этого? С жадным выражением лица он описал нам свое следующее, после доставки головы Кицеберу, дело как «срочнейшее и деликатнейшее». Если ему нечего было скрывать, то он сказал бы нам, с кем у него встреча. А незадолго до этого я сказал ему, что каждый вечер отправляюсь в императорскую капеллу на репетицию «Святого Алексия» – значит, он знает, что я знаком с Орсини!








