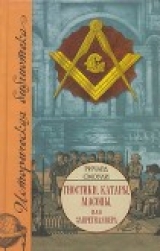
Текст книги "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера"
Автор книги: Ричард Смоули
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Обозначенное таким образом различие достаточно очевидно, но понимали его далеко не всегда. Возможно, даже на самом раннем этапе христианства люди его не осознавали. Вероятно, это была основная причина разногласий между гностиками и протоортодоксальными христианами в первом и втором веках нашей эры. Гностики во главу угла ставили внутреннее озарение; освобождение в час смерти могло казаться им отклонением от подлинной цели духовных поисков. Для протокатоликов же эта забота о гносисе виделась опасным уклонением от того, что они считали единственным важным моментом. Тысячу лет спустя эти противоречия (или взаимное непонимание) продолжали присутствовать. Католики считали катаров опасными еретиками с их акцентируемым консоламентумом — очевидно, бессмысленным, поскольку таинства церкви являли собой все необходимое и достаточное для спасения. Катары же говорили своим последователям, что одного лишь крещения водой недостаточно для подлинного пробуждения.
Куртуазная любовь
Еще одним феноменом, ассоциирующимся с катарами, стала l’amour courtois, или куртуазная любовь, прославленная в поэзии трубадуров, средневековых провансальских поэтов, посвящавших свои стихи любовной теме. Эта ассоциация может показаться странной. Не вполне ясно, что могло быть общего у этой версии романтической любви и катаризма, который был настолько непреклонен в своем презрении к мирским вещам. В своей классической работе «Любовь в Западном мире» Дени де Ружмон пишет по этому поводу так:
«С одной стороны, катарская ересь и феномен куртуазной любви развились одновременно в двенадцатом веке, также они совпали и пространственно, обнаружившись на юге Франции. Можно предположить [sic] эти два течения совершенно никак не были связаны друг с другом? Не войти им друг с другом ни в какие отношения – было бы самым странно! Но с другой стороны, если мерить иной мерой, то какая может обнаруживаться связь между мрачными катарами, чьи аскетические установления заставляли их избегать всяческих контактов с противоположным полом, и яркими трубадурами, всегда радостными, готовыми к любому безумству, обращавшими любовь, весну, рассвет, цветущие сады и образ Дамы в песню?»
Словосочетание куртуазная любовь должно заставить нас предположить, что оно возникло в аристократических дворах той эпохи [10]10
«Куртуазная любовь» по-английски – «courtly love». «Этимологическое» значение английского и соответствующего французского словосочетаний – «придворная любовь». Но английское слово «court», как и французское «cour», переводится не только как «двор», но и как «суд».
[Закрыть]. Но слово «court» (cour по-французски; прилагательное от него – courtois) может указывать не на двор короля, а на имевшие место в двенадцатом веке «суды любви», которые издавали установления и выносили решения по «сердечным вопросам». Председательствовали на них высокородные дамы. Элеонора Аквитанская, жена французского короля Людовика VII, а позднее английского короля Генриха II, возглавляла подобный суд. Один такой суд был под началом графини Шампанской. В 1174 году он издал замечательное постановление:
«Мы заявляем и утверждаем., что любовь не может распространять свои права на двух женатых людей. Ведь настоящие влюбленные предоставляют все друг другу обоюдно и свободно, их не понуждают к тому никакие мотивы необходимости, тогда как муж и жена связаны своим долгом подчинять свои воли друг другу и ни в чем друг другу не отказывать.
Да пребудет это судебное решение, вынесенное с великой осторожностью и после совета со многими другими дамами, для вас неизменной и неколебимой истиной».
Эрменгарда, виконтесса Нарбоннская, высказала следующее мнение: «Чувства, существующие у женатой пары, и подлинная любовь, разделяемая любовниками, по своей природе совершенно отличны друг от друга, и источники их коренятся в совершенно разных движениях [души]».
Итак, мы знаем две вещи о куртуазной любви: женщины заложили ее установления, и она не имела ничего общего с браком. По сути, она исключала брак. Третье условие – столь же важное: любовники не должны были иметь сексуальных отношений.
Нельзя сказать, что куртуазная любовь была всегда совершенно свободна от чувственности. В своей классической форме она подразумевала постепенное нарастание интимности, начинавшейся со взгляда, затем следовал переход к беседе с возлюбленной, потом касание ее руки, затем поцелуй. В конце она могла дойти до assais, или «испытания», которое нельзя было назвать вполне целомудренным. Влюбленный мог видеть свою даму обнаженной, обнимать ее и ласкать – такой контакт мог привести к оргазму обоих партнеров. Но настоящее проникновение не допускалось. (Вне всякого сомнения, это правило нарушалось не раз, как это вообще зачастую бывает с правилами.)
Хотя эти факты и вызывают некоторое смущение, они помещают данный любопытный феномен в более резкий фокус. Обязательства между партнерами были сердечного свойства: они определялись свободным образом, а не были результатом контракта, навязанного обществом. Поскольку половые отношения запрещались, эта любовь не могла дать рождение детям. Следовательно, она не угрожала сущностному базису классического брака, строящемуся на следующих принципах: пара обеспечивает стабильный домашний очаг (во всех смыслах этого слова) для своего потомства, женщине гарантируется определенная поддержка со стороны ее мужа, а муж уверен в том, что дети – его собственные. Наконец, в отличие от брака, в котором в Средние века муж главенствовал, в куртуазной любви мужчина по отношению к la dame de ses pensées – «даме своих помыслов» – выступал смиренным просителем. Одно из наставлений трактата четырнадцатого века о куртуазной любви, «De arte amandi» («Об искусстве любви»), увещевает мужчин-любовников: «Всегда относитесь внимательно ко всем повелениям дам».
Но разве может куртуазная любовь быть как-то связана с «мрачными катарами, чьи аскетические установления заставляли их избегать всяческих контактов с противоположным полом», как их определил де Ружмон? Прежде всего куртуазная любовь – это прямая противоположность сексуальной жизни, дозволяемой католической церковью, которая мирилась с сексом лишь как средством произведения на свет потомства (отсюда ее запреты на аборты и контроль за рождаемостью). Как замечает Фредерик Шпигельберг, «католическому подходу, заключающемуся в том, что секс допустим, если существует шанс произведения на свет потомства, – в противном же случае он не допускаем – был противопоставлен прямо противоположный подход манихейских пророков, заявлявших, что секс допустим лишь в том случае, если будут приняты меры по предотвращению возможности появления на свет потомства».
Возможно, у добрых людей было еще что-то на уме. Поэзия трубадуров изобилует восхвалениями «Дамы», чья мучительная недоступность порождает любовное томление и страсть, обретающие самые разнообразные художественные формы. Иногда благоговение балансирует на грани кощунственного. «Одной лишь ею я спасусь!» – восклицает Гильом де Пуатье, первый среди трубадуров. В других стихах поэт обещает хранить тайну Дамы, как если бы речь шла о чем-то связанном с религиозной верой. Стихи трубадуров проникнуты замечательной двусмысленностью в вопросе о природе этой Дамы – является ли она женщиной из плоти и крови, которой поклялся в верности ее обожатель, или же она представляет собой нечто высшее.
Для того чтобы понять, что мог символизировать образ Дамы, давайте вернемся к замечанию Деода Роше относительно консоламентума, призванного соединять душу с духом. По своей сути данный ритуал представлял собой мистический брак между душой и трансцендентной самостью, или истинным «Я», от которого до сей поры душа – ординарный уровень сознания – была отсечена. Трубадуры в своих сетованиях по поводу этой потерянной Дамы могли аллегорически выражать стремление к этому высшему «Я».
Эта идея указывает на один очень важный факт, касающийся духовного пути. В предыдущей главе я высказал мысль о том, что люди – создания, способные видеть свое тело как нечто иное. Но еще более интересно то, что мы и собственную персону способны видеть как нечто иное. Парадоксальным образом мы ощущаем наиболее первичное для нас самих, единственное, что имеет право сказать «Я», как нечто едва уловимое, отдаленное, даже несуществующее. В притче Христа это временно отсутствующий господин (Мф 24:45–51). Для гностиков это жемчужина на дне моря; для трубадуров это la dame de ses pensées, манящая, бесконечно далекая, но побуждающая претендента на ее руку устремляться ввысь к ее горней натуре.
Куртуазная любовь заключала в себе то, что современная психология называет проекцией. Воображение влюбленного смешивает его собственную «горнюю природу» с образом далекой Дамы, один лишь взгляд которой повергает его в пароксизмы восторга. По-видимому, некоторые из исповедовавших эту загадочную форму любви не отдавали себе отчета в возможности присутствия такого разграничения. Вне всякого сомнения, адепты катаризма и величайшие из числа трубадуров осознавали символическое значение образа Дамы, но также очевидно, что многие влюбленные приравнивали ее к реальным дамам из плоти и крови.
Если трубадуры были уклончивы в определении подлинной природы Дамы, то их поэтические наследники, среди них самый знаменитый – Данте, говорили о сути дела открыто. Мы могли бы определить всю литературную карьеру Данте как движение от «земного» чувства любви в отношении Беатриче, представлявшей собой реальную девушку, которую он впервые заприметил в возрасте девяти лет, до тех пределов, где она выступает для него уже как персонификация божественной мудрости, ведущей поэта через небесные сферы, как это описано в его «Рае». Но две эти ипостаси Беатриче неразрывно связаны между собой с самого начала. В своей автобиографической повести «Vita Nuova» [11]11
Новая жизнь (um.).
[Закрыть] Данте вспоминает:
«В это мгновение – говорю по истине – дух жизни, обитающий, в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении. И, дрожа, он произнес следующие слова: «Esse deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi» [12]12
Вот пришел Бог сильнее меня, дабы повелевать мною (лат.).
[Закрыть]».
Данте и Беатриче никогда не соединяли свои линии судеб. Подобно трубадуру Данте довольствуется тем, что восхищается ею на расстоянии; Беатриче умирает в раннем возрасте. И при этом есть что-то чудесное в тех вспышках любви, которые Данте испытывает, просто приветствуя ее на улице:
«Когда она появлялась где-либо, благодаря надежде на ее чудесное приветствие у меня не было больше врагов, но пламя милосердия охватывало меня, заставляя прощать всем меня оскорбившим. И если кто-либо о чем-либо спрашивал меня, ответ мой был единственным – «любовь», а на лице моем отражалось смирение».
Заметьте, что Данте не жалуется по поводу невозможности воспользоваться благосклонностью Беатриче, но самый мимолетный ее взгляд приводит его в радость, граничащую с религиозным экстазом. Нечто внутри его самого преобразовывало вожделение в чувство преклонения. Это тоже являлось сущностной чертой куртуазной любви. Эта любовь не всегда все же исключала физический контакт, и тут основной акцент делался на преобразовании естественного влечения, а не на достижении само собой разумеющейся цели. И это не являлось вопросом чистой техники. Предполагалось, что возвышение сексуальной энергии до уровня высокой эмоциональной силы будет происходить спонтанно, благодаря естественной деятельности сердца.
Если поиски возможности подобного преображения покажутся нам сегодня достаточно странными, то надо вспомнить, каков был религиозный фон исторической жизни Европы того времени. Катары и католики расходились между собой по многим вопросам, но их взгляды на сексуальную жизнь были замечательным образом схожи: они считали ее злом. По мнению катаров с их манихейским наследием, секс приводил к тому, что искры Света удерживались в заточении во Тьме материи, тогда как для католиков он представлял собой прискорбную необходимость, позволявшую человеческому роду сохраняться в этом падшем мире. Исходя из разных мотиваций, обе религиозные группы стремились поставить во главу угла идеал поведения, предполагавший отсутствие проявлений сексуальной природы человека в отличие от демонстрации более чистого начала в нем.
По мнению Дени де Ружмона, представленному в его книге «Любовь в Западном мире», куртуазная любовь явилась прародителем романтической любви – какой она нам известна сегодня. Куртуазная любовь, определяющаяся принципиальной недоступностью возлюбленного, служила тем источником вдохновения, благодаря которому были созданы трагические сказания о Тристане и Изольде, истории о Ланцелоте и Гиневре в романах об Артуре. Позднее этот же импульс найдет свое выражение в трагедиях Шекспира, Корнеля и Тасина и достигнет своего апогея в произведениях романтиков, возвеличивавших обреченную страсть. «От желания к смерти через страсть — этот путь избрал для себя европейский романтизм; и мы все избираем этот путь до той степени, до которой мы можем это себе позволить, – конечно, бессознательно – имеется в виду целый набор обыкновений и манер, символика которого была разработана в лоне куртуазного мистицизма», – пишет де Ружмон.
Несомненно, де Ружмон преувеличивает суть дела. Романтическая любовь, по-видимому, может считаться универсальной. Во многих культурах, находящихся в стороне от магистрального западного пути, присутствует эта меланхолическая тональность, порождаемая сплетением любви и фатальности. Тем не менее де Ружмон, по-видимому, прав в одном отношении. Величайшие любовные истории, родившиеся на Западе, повествуют именно об обреченной любви. Тристан и Изольда не замыкают этот цикл, так же как не замыкают его истории, где фигурируют Элоиза и Абеляр, Ромео и Джульетта, Живаго и Лара и еще множество других великих любовных пар, представленных в истории и литературе. Де Ружмон утверждает, что это торжество трагического привело к повсеместной неудовлетворенности более однообразной, но и более стабильной подосновой семейной жизни, в результате чего, по его словам, ныне брак покоится на весьма шатком фундаменте.
Едва ли можно утверждать, что все сложности современных любовных отношений восходят к результатам деятельности трубадуров или их литературных наследников. Наши современные болевые точки – точно так же, как и проблемы минувших эпох, – по-видимому, отсылают нас к чему-то более глубокому в пространстве человеческой природы, проявляющемуся, например, в той неудовлетворенности, что проступает в нас в самые непредсказуемые моменты и по самым произвольным мотивам, – побуждая нас презирать знакомое и тосковать по далекому. Это далеко не новая конфликтная ситуация, она в изобилии порождала и самое лучшее, и самое худшее в человеческой жизни в целом и в любви в частности.
Крестовый поход против альбигойцев
Движение катаров на Западе достигло своего полноводного уровня примерно в начале тринадцатого века. Начало его заката может быть отнесено ко времени восхождения Иннокентия III на папский престол в 1198 году. Более чем какой-либо папа до или после него, Иннокентий III был захвачен идеей консолидации власти, как светской, так и духовной: вся его папская деятельность сводилась к попыткам возвысить свою власть над властью рядовых земных монархов. Прилагая все усилия для создания глобальной теократии, он вознамерился уничтожить дуалистические ереси, угрожавшие религиозному единству Европы.
В 1199 году Иннокентий послал миссию, состоявшую из цистерцианских монахов, в Лангедок – вести проповеди, направленные против катаризма. В последующие годы был направлен еще ряд миссий, возглавляемых клириками, в числе которых находился и Доминик Гусман, основатель доминиканского ордена. Вообще истоки образования ордена восходят к усилиям Доминика по обращению еретиков Лангедока в те голы. Иннокентий также потребовал от французской аристократии подавления катаров, но многие представители знати Лангедока – в первую очередь Раймунд VI, граф Тулузский, – отказались повиноваться. В 1207 году Иннокентий отлучил Раймунда от церкви. В следующем году, когда в Лангедоке был убит папский легат, Иннокентий организовал крестовый поход против катаров, обычно именуемый крестовым походом против альбигойцев (поскольку катары также были известны под именем альбигойцев).
Потребовалось бы слишком много времени для вникания в хитросплетения этой войны, сопровождавшиеся полной сменой ролей ряда ее участников. Некоторые монархи и аристократы, включая самого Раймунда, находили для себя целесообразным переходить на чужую сторону в критические моменты. Но по сути, действовали две основные силы. Католическая церковь вознамерилась уничтожить своего религиозного противника, а аристократы Северной Франции собирались использовать этот предлог для того, чтобы взять в свои руки власть над Лангедоком. Естественно, крестовый поход вскоре вышел за рамки выданного ему мандата на дозволенный уровень жестокости, и сам Иннокентий вынужден был напомнить крестоносцам об истинной цели войны, которую они вели. Борьба, то усиливаясь, то затихая, продолжалась до 1229 года, когда был заключен парижский мир между Раймундом VII (сыном Раймунда VI, умершего в 1222 году) и королем Франции Людовиком IX. По этому соглашению Раймунд уступал значительную часть своих территорий Людовику и церкви. Более того, его дочь была обязана выйти замуж за одного из братьев короля, а после их смерти принадлежавшие им территории становились частью Французского королевства. С политической точки зрения основным результатом крестового похода против альбигойцев явилась консолидация Французского королевства под властью династии Капетингов [13]13
Капетинги – третья по счету династия французских королей, представители прямой линии которой правили королевством с 987 по 1328 год.
[Закрыть].
Крестовый поход не уничтожил саму ересь. Значительное число parfaits было захвачено в плен и сожжено, но преследования были недостаточно систематическими, чтобы уничтожить их полностью. В период между 1227 и 1235 годами папа Григорий IX издал ряд указов, в соответствии с которыми учреждался институт инквизиции – персонал ее составляли преимущественно члены двух монашеских орденов: францисканского и доминиканского. В отличие от прежних судов, достаточно бессистемно руководимых местными епископами, управление инквизицией осуществлялось ab apostolica sede, «с апостольского престола», то есть папством. Результатами такого шага должны были стать огромное повышение эффективности репрессий и их централизация.
Определяющим моментом в разгроме катаров явился захват их крепости Монсегюр, находящейся у подножия Пиренеев. После заключения парижского мира катарские епископы сочли целесообразным ретироваться туда, подальше от Италии и Северной Франции. После того как в мае 1242 года в Монсегюре были убиты два разъездных инквизитора, французские войска взяли цитадель штурмом.
Почти неприступное положение Монсегюра сделало его осаду длительной и сложной – нападавшим не удавалось полностью отрезать замок от внешнего мира. Но шли месяцы, положение катаров и их защитников постепенно ухудшалось, и аристократы, защищавшие замок, начали вести переговоры с осаждающими. Совершенным в Монсегюре был предоставлен выбор: либо отречься от своих убеждений, либо быть сожженными у столбов. Они выбрали мученичество, и в марте 1244 года более двухсот избранных из числа катаров отправились в огонь с песнопениями. Но до того как участь группы была окончательно решена, трем или четырем parfaits удалось осуществить дерзкий побег. Легенда гласит, что они захватили с собой таинственные «катарские сокровища», которые так никогда и не нашли. Даже не ясно, включали ли сокровища золото и бриллианты, или же это были тексты, некий свод учений. Время от времени в оккультной среде Европы проходит очередная волна слухов о катарских сокровищах.
Падение Монсегюра, конечно, не положило конец катарскому движению, которое переместило свою штаб-квартиру в область Ломбардию в Северной Италии, где постоянная борьба между папой и императором Священной Римской империи затрудняла атаки церкви на еретиков. Но продолжительные десятилетия преследований сломали хребет катаризму, а растущая эффективность деятельности инквизиции ускорила его кончину. Катаризму все же удалось просуществовать до четырнадцатого века, но на этом этапе он уже исчезает из истории.
Тайная ересь Иеронима Босха
Остались ли после катаров наследники в последующие века? Подобных свидетельств не так много, ведь столь ожесточенно преследуемая секта вынуждена была заметать свои следы. Самая необычайная информация о сохранении наследия катаров в эпоху Ренессанса представлена в недавно вышедшей книге Линды Харрис «Тайная ересь Иеронима Босха».
Странные, мрачные и при этом неотразимые полотна Босха знакомы каждому, кто освоил базовый курс истории искусства. Современные специалисты обычно считают его образы продуктами его собственного воображения. Они определяют Босха как далекого прародителя сюрреализма двадцатого века. Но возможно, за его странной образностью скрывается нечто иное.
В эпоху Босха – ранний период Ренессанса – европейская живопись использовала богатый и сложный символический язык. Собака символизировала верность; лютня с порванной струной символизировала смертную долю. Как и любая другая форма языка, эта система образов была для всех понятна, и при этом она предоставляла большие возможности для индивидуального самовыражения. По утверждению Харрис, в символическом языке Босха явно видна его верность катарской ереси.
Босх родился где-то между 1450 и 1460 годами в городе Схертогенбос в Брабанте, провинции современных Нидерландов, находящейся вблизи бельгийской границы; он прожил там всю свою жизнь. Босх происходил из семьи художников. Внешне он вел обычное буржуазное существование, считался уважаемым в обществе гражданином и католиком с хорошей репутацией. Босх являлся членом благочестивой ассоциации «Братство Богоматери». Единственным в его жизни событием, выходящим за рамки ординарного, не считая самих его полотен, была поездка, которую около 1500 года он совершил в Венецию, где, по-видимому, встречался с такими художниками, как Джорджоне и Леонардо да Винчи, – в работах обоих прослеживаются определенные следы влияния Босха (как и в его работах видно влияние вышеуказанных итальянских мастеров). Он умер около 1520 года.
Какие же существуют свидетельства о том, имел ли Босх отношение к катарам? Художник, известный нам под именем Босх (от названия города Схертогенбос), начал пользоваться этой фамилией лишь с 1500-х годов. До этого он использовал свою родовую фамилию ван Акен. Последнее позволяет заключить, что его семья прибыла из германского города Аахен. Аахен находился вблизи Кёльна, где, как мы это уже видели, возникла первая известная катарская община. Более того, самое раннее упоминание о прародителе Босхов относится к 1271 году – в летописях Схертогенбоса говорится о торговце шерстью по имени ван Акен, заключавшем сделки с Англией. Катары часто занимались торговлей одеждой. Возможно, семейство ван Акен покинуло Германию в середине тринадцатого века, стремясь избежать растущей волны преследований катаров, – Нидерланды оказались более толерантными. Тут, по словам Харрис, семья могла продолжать тайно практиковать катаризм на протяжении последующих двух сотен лет.
Все эти свидетельства, конечно, можно рассматривать лишь очень условно. Самый сильный аргумент в пользу наличия тайных еретических устремлений Босха дает нам символизм его полотен, в свете католической доктрины кажущийся странным и необъяснимым, но вполне понятный с точки зрения катаров. Харрис очень детально описывает символическую систему Босха, нам же будет достаточно двух довольно простых примеров.
На заднем плане центральной части триптиха Босха «Поклонение волхвов», находящегося в Прадо, мы видим крошечную фигурку человека, ведущего осла с обезьяной, восседающей на нем. Рядом находится статуя, напоминающая греческого бога. Эта статуя увенчивает колонну, стоящую на маленьком холме.
Харрис считает, что это тонкая, но вполне определенная насмешка над традиционной образной системой библейского эпизода «Бегство в Египет». Большинство живописных изображений этого эпизода, взятого из Евангелия от Матфея, представляют Иосифа, сопровождающего Марию, вместе с младенцем Иисусом сидящую на осле. Часто их изображают проезжающими мимо поверженных идолов Египта, которые пали в присутствии истинного Бога. У Босха явлена прямо противоположная образность. Это обезьяна, а не Святая Дева едет на осле, а идол стоит на своей колонне непотревоженный.
Трудно объяснить, как такой образный ряд мог выйти из-под руки благочестивого католика, тем более члена «Братства Богоматери». Но вспомните, что богомилы и их преемники, отвергая доктрину о человеческой природе Христа, насмехались над образом Пресвятой Девы. Крошечная деталь на картине Босха вполне укладывается в эту систему дуалистических верований.
На этой картине есть и другие детали, свидетельствующие в пользу такого взгляда. Также и на других полотнах Босха присутствуют элементы, указывающие еще более явным образом на наличие катарского влияния. На странной картине, называющейся «Операция по удалению камня», изображен сидящий в кресле придурковатого вида крестьянин, череп его в области макушки вскрыт человеком, облаченным в священническое одеяние, на голове у священника надета воронка. Рядом с крестьянином стоит монах в черной рясе, держащий кувшин. Чуть в стороне находится женщина с книгой на голове, она взирает на сцену с отрешенной меланхолией.
В соответствии со стандартной символикой того времени эта сцена изображает извлечение камня глупости, но в данном случае из головы извлекается не камень, а цветок. В соответствии с интерпретацией Харрис, два человека, совершающие операцию, – члены католического священства, и извлекают они не глупость, а цветок человеческого духовного потенциала. Атрибуты этих двух шарлатанов – воронка и кувшин – отсылают к фальшивому католическому крещению водой. Но самое удивительное – это книга на голове женщины, ведь, как мы уже видели, консоламентум осуществлялся возложением книги Нового Завета на голову инициата. Эта деталь должна указывать на нее как на адепта веры катаров, взирающего на безрассудство двух шарлатанов, представляющих католический клир, которые уничтожают духовный потенциал ничего не подозревающего простака.
Интерпретации Харрис этих и других картин извлекают бездну смысла из того, что могло бы показаться лишь эксцентричными, произвольно взятыми деталями. Но могло ли семейство Босха сохранять катарскую веру на протяжении двух веков, не будучи разоблаченным, и могли сам Босх иметь верования, которые шли совершенно вразрез с его внешней деятельностью, не выдавая себя?
В обоих случаях ответ будет «да». В лоне семейных традиций еретические религиозные верования могут передаваться из поколения в поколение на протяжении длительного периода времени, как мы это видим на примере марранов, евреев Испании эпохи Возрождения, которые из рода в род втайне практиковали свою религию, внешне выставляя себя католиками. В несколько более дискуссионном порядке можно заметить, что имели место формы язычества и «древней религии», как утверждают, сохранявшиеся в отдельных семейных традициях на протяжении долгих веков преследований.
Что касается способности Босха вести такое двуличное существование, то она станет более понятной, если мы вспомним, что он жил в той среде, названной Полом Джонсоном в «Истории христианства» «тоталитарным обществом». Недавние примеры существования тоталитарных обществ показывают, что члены их часто доходят до крайних степеней утаивания и всевозможных хитростей, чтобы защитить себя. А с учетом сферы идейного влияния, технологических ограничений той эпохи и политической ситуации разъединенности Европы христианский мир времен Босха можно определить не просто как тоталитарное общество, но как замечательно успешное тоталитарное общество. Ни одно фашистское или коммунистическое государство в двадцатом веке не было способно осуществлять такой масштабный контроль за населением – и это на протяжении веков, а не десятилетий. Современному американцу трудно представить, каково это – на протяжении всей жизни лицемерно выказывать приверженность ценностям, прямо противоположным тем, к которым лежит сердце, а это было частым явлением. Во многих уголках мира люди и сегодня вынуждены поступать так же.
Даже если Босх и другие, подобные ему, продолжали практиковать катаризм секретно, они являлись последними наследниками умирающей традиции. Великая дуалистическая ересь, начавшаяся с Мани более чем за тысячу лет до описываемого здесь периода, в итоге угасла с началом новой эпохи. Мы определяем это по тому простому факту, что, когда в Европе в шестнадцатом-семнадцатом веках появляется религиозная терпимость, никаких доселе скрытых катаров на политической арене не появилось. К тому времени все они уже исчезли – скорее всего были поглощены либо католицизмом, либо десятками протестантских сект, возникших после Реформации.
И все же катарское наследие запечатлелось в памяти и легендах. Parfaits, сожженные в Монсегюре, которых раньше поносили как еретиков, ныне прославляются как мученики за дело религиозной свободы. Трубадуры чествуются как подвижники, возродившие традицию божественного женского начала и век мужского доминирования. Катарское влияние, возможно, дошло до нас даже посредством повседневного языка. Французы часто говорят о le bon Dieu, «добром Боге». Возможно, эта фраза, ныне воспринимаемая как нечто само собой разумеющееся, родилась очень давно из представления, что есть «добрый Бог», которого следует отличать от другого Бога, являющеюся злым? Может быть, это избитое выражение является окаменелостью катарской теологии, сохраняющейся в янтаре повседневной речи.







