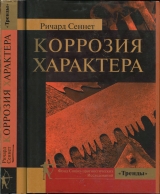
Текст книги "Коррозия характера"
Автор книги: Ричард Сеннетт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Другой вариант понимания системы власти, описанный Харрисоном, призван показать, что сам по себе вызов старому бюрократическому порядку еще не означает, что институциональной структуры будет «меньше». Структура остается под воздействием сил, которые понуждают подразделения или индивидов к достижению определенных целей; что остается открытым, так это вопрос – как это сделать, но верхушка этих гибких организаций редко дает ответы. Руководство больше принимает во внимание свои собственные требования, нежели необходимость проектирования системы, при которой эти требования могут быть реализованы. «Концентрация без централизации» – это способ передачи управления командованием в структуре, которая больше не обладает четкостью пирамидальных связей, – институциональная структура стала более запутанной, а не более простой. Вот почему само понятие «дебюрократизация» является как вводящим в заблуждение, так и непродуктивным. В современных организациях, которые осуществляют эту «концентрацию без централизации», доминирование, идущее сверху, – столь же сильно, сколь и бесформенно.
Чтобы понять, каким образом три элемента гибкого режима соединяются вместе, нужно понять организацию времени на рабочем месте. Гибкие организации сегодня экспериментируют с различными расписаниями времени, названного «флекс-тайм», что означает «гибкое время». Вместо фиксированных смен, неменя-ющихся месяцами, рабочий день становится своего рода мозаикой из людей, работающих по отличным друг от друга, более индивидуализированным графикам, как в офисе Жаннет. Эта мозаика рабочего времени кажется весьма далекой от монотонной организации труда на булавочной фабрике. Действительно, она выглядит как освобождение рабочего времени, как истинный трофей, полученный в результате атаки современной организации на стандартизованную рутину. Однако реалии «флекс-тайм» весьма отличны от такой оценки.
«Флекс-тайм» возникло в результате нового притока женщин в мир труда. Женщин из бедных слоев, подобных Флавии, на производстве всегда было больше, чем женщин из буржуазной среды. За время жизни последнего поколения, как мы заметили, значительное число женщин влилось в ряды работников, по типу труда относящихся к среднему классу. Это происходит в США, Европе и Японии, и эти женщины не покидали категорию «рабочей силы» даже после рождения детей; они присоединились к тем женщинам, которые уже работали в сфере услуг низшего уровня, а также на заводах и фабриках. В 1960 году приблизительно 30 % американских женщин принадлежали к категории «оплачиваемой рабочей силы», а 70 % – нет; к 1990 году почти 60 % американских женщин уже относились к «оплачиваемой рабочей силе» и только 40 % к этому разряду не принадлежали. В развитых экономиках мира к 1990 году приблизительно на 50 % профессиональная и техническая рабочая сила состояла из женщин, и большинство из них работало полный рабочий день[47]47
Данные по занятости взяты из книги Мануэля Кастельса, «Сетевое общество», т. 1. Оксфорд, 1997, стр. 162–163. Данные по гендеру и по доходу – из «Тенденции в уровне неравенства заработной платы и доходов в Соединенных Штатах», доклада Девида Карда, представленного на конференции Совета по проблемам работы, 1997.
[Закрыть]. Необходимость, а также личное желание работать способствовали развитию этого вида труда; стандарт жизни среднего класса сегодня вообще требует зарплаты двух взрослых людей. Эти работающие женщины нуждались, однако, в более гибкой организации рабочего времени; трудятся представительницы всех классов общества, но многие из них работают неполный рабочий день, поскольку матерями они остаются по полной программе. (Посмотрите, пожалуйста, таблицу 5.)
Вхождение все большего числа женщин из среднего класса в сферу труда, таким образом, подстегнуло большие инновации в создании гибкого графика как полного рабочего дня, так и частичной занятости. На данный момент эти изменения уже пересекли гендерные границы, поэтому мужчины тоже имеют более «пластичные» рабочие графики. «Флекс-тайм» сегодня осуществляется несколькими способами. Самый простой, так или иначе используемый приблизительно семьюдесятью процентами американских корпораций, – это полная рабочая неделя, но работнику предоставляется возможность самому определять, когда во время рабочего дня он (или она) появится на фабрике или в офисе. Другой способ использует примерно 20 % компаний: они разрешают работать по так называемому спрессованному рабочему графику, когда служащий выполняет нагрузку на полную рабочую неделю, например, за четыре дня. Работа на дому – этот вариант используют примерно в 16 % компаний, особенно те, кто занят оказанием услуг, продажами, а также технические работники. Такая организация труда стала возможной в основном благодаря развитию коммуникационной системы интранета – внутренних сетей. В США белые мужчины и женщины из среднего класса сегодня имеют больше возможностей работать по гибкому графику, чем работники фабрик или, например, испаноязычные рабочие. «Флекс-тайм» остается привилегией; работа по вечерам или ночью – это все еще удел представителей менее привилегированных классов. (Смотрите, пожалуйста, таблицу 6.)
Этот факт свидетельствует о том, что «флекс-тайм», обещает, как кажется, большую свободу, чем та, которая была у рабочего, впрягшегося в ярмо рутины смитовской булавочной фабрики; на самом же деле, и это «гибкое время» вплетено в новую ткань контроля. «Флекс-тайм» не похоже на календарь праздников, от которого рабочие знали, что ожидать; несравнимо оно и с простой суммой рабочих часов, которую корпорация может установить для своих работников низшего уровня. Гибкое расписание времени – это скорее привилегия, которая даруется служащим-фаворитам, – отмечает аналитик менеджмента Лотта Бейлин, – чем право работника; это награда, которая распределяется неравно и строго нормируется. Вот так сейчас обстоит дело в Америке, а другие страны движутся по американской колее[48]48
См. Лотте Бейлин, «Ломая схему: мужчины, женщины и время на новом рабочем месте». Нью-Йорк, 1993.
[Закрыть].
Если «флекс-тайм» – награда служащему, то он попадает в еще большую зависимость от данного учреждения. Возьмем самое гибкое из «флекс-таймов» – работу на дому. Эта «награда» вызывает наибольшую озабоченность у работодателей. Они боятся потерять контроль над своими отсутствующими работниками и подозревают, что те, кто остается дома, злоупотребляют своей свободой[49]49
См. Женевьева Каповски, «Радость гибкости» // Менеджмент Ревью (Американская ассоциация менеджмента). Март 1996, стр. 12–18.
[Закрыть]. Как результат этого, появилась новая должность «начальник контроля», призванный регулировать рабочие процессы тех, кто трудится вне офиса. Людей могут попросить регулярно звонить в офис или их могут контролировать посредством корпоративной локальной сети, чтобы осуществлять мониторинг отсутствующего работника; электронная почта часто открывается супервайзерами. Пока еще совсем мало организаций, которые в полной мере предлагают систему «гибкого времени» своим работникам: «Вот задание! Выполняйте его любым способом, каким пожелаете, но до тех пор, пока вы его хорошо делаете». Это и есть модель «Тагверк», упомянутая выше. Работник, который действует в режиме «гибкого времени», контролирует место своего труда, но не получает большего контроля над самим трудовым процессом. На сегодняшний день целый ряд исследователей полагает, что надзор над трудовым процессом в действительности зачастую жестче для тех, кто трудится вне офиса, чем для тех, кто работает в нем[50]50
Джереми Рифкин, «Конец работы». Нью-Йорк, 1995.
[Закрыть].
Таким образом, рабочие «меняют» один тип подчинения власти, осуществляемой «лицом к лицу», на другой тип подчинения, который осуществляется посредством электроники. С этим типом власти столкнулась, например, Жанетт, когда после переезда на Восток она нашла более «гибкое» рабочее место. Микроменеджмент времени продолжает осуществляться даже тогда, когда время кажется нерегулируемым по контрасту с «пороками» смитовской булавочной фабрики или фордизмом. «Метрическая логика» времени Дэниэля Белла переместилась от часового циферблата к компьютерному экрану. Работа физически децентрализована, но власть над рабочим стала более непосредственной. Работа на дому – отдаленный островок этого нового режима.
Итак, силы, «сгибающие» людей к переменам, – это переизобретение бюрократии, гибкая специализация продукции, концентрация без централизации. Впечатление, что этот «мятеж» помогает обрести новую свободу, обманчиво. Время в организациях и время для индивида оказалось освобожденным от цепей, приковывающих его к железной клетке прошлого, но вместе с тем оно подверглось новому – сверху донизу – контролю и надзору. Время гибкости стало временем новой власти. Гибкость дает толчок беспорядку, но никак не свободе от стесняющих факторов.
Смитовская версия «гибкости», имеющая свои корни в эпохе Просвещения, воображала, что она обогатит людей как нравственно, так и материально; его «гибкий» индивид был способен на неожиданные порывы сочувствия другим людям. Совсем другая структура характера возникает у тех, кто осуществляет власть внутри современного сложного режима. Они свободны, но это – аморальная свобода.
В течение последних нескольких лет я ездил на зимние встречи деловых и политических лидеров, которые проходят на швейцарском курорте Давос. Вы добираетесь до деревни по узкой дороге в Альпах. Сам Давос простирается вдоль одной главной улицы, которая состоит из отелей, магазинов и лыжных шале. Томас Манн местом действия для своего романа «Волшебная гора» выбрал именно Давос, где в огромном отеле, который когда-то был санаторием для туберкулезных больных, разыгрывается действие. В течение одной недели Всемирного Экономического Форума Давос становится скорее «пристанищем» власти, чем здоровья.
Вдоль главной улицы змея лимузинов, извиваясь, ползет к конференц-залу, у которого уже находятся охрана, полицейские собаки и металлодетекторы. Каждому из двух тысяч человек, которые прибывают в эту деревню, необходим электронный значок безопасности, чтобы пройти в зал, но значок «делает» больше, чем просто отсеивает возможных возмутителей спокойствия. Он имеет электронный код, который позволяет обладателю значка читать и направлять послания по сложной компьютерной системе и таким образом устраивать встречи и совершать сделки – прямо в кофейнях, на лыжных склонах или за великолепными обедами, на которых, однако, планы просто посидеть и поговорить зачастую нарушаются под прессом бизнеса.
В Давосе много внимания уделяется глобальному экономическому потеплению: конференц-центр наполнен бывшими коммунистами, которые превозносят ценности свободной торговли и безудержного потребительства. Язык общения – английский, что подчеркивает доминирующую роль Америки в новом капитализме, и большинство людей здесь говорят по-английски превосходно. Всемирный Экономический Форум напоминает скорее королевский двор, чем конференцию. Монархи здесь – это главы больших банков или международных корпораций, и они хорошо умеют слушать. «Придворные» говорят гладко и тихим голосом, повышая его только тогда, когда дело касается займов или когда нужно совершить сделку. Давос стоит бизнесменам (большинство из них – мужчины) кучу денег, и потому сюда приезжают только «топ-люди». Но атмосфера «двора», даже в этом снежном Версале, инфицирована неким страхом – страхом «оказаться вне круга».
Некий вид фамильной ожесточенности заставлял меня снова и снова приезжать в Давос в качестве наблюдателя. Дело в том, что большая часть моей семьи принадлежала к американским левым. Мой отец и дядя принимали участие в гражданской войне в Испании. Там они сначала сражались против фашистов, но к концу войны они воевали и с коммунистами. Разочарование, которое последовало вслед за сражением, стало по большей части историей американского левого движения. Мое собственное поколение должно было отказаться от своих надежд, которые вдохновляли нас в 1968 году, когда революция, казалось, находилась рядом, прямо за углом. Но многие из нас закончили тревожным отдыхом в этой туманной зоне слева от центра, где высокопарные слова значат больше, чем действия.
И здесь, на лыжных склонах Швейцарии, одетые как будто для спорта, собрались победители. Я почерпнул одну вещь из моего прошлого: будет фатально относиться к ним только как к изменникам. В то время как люди моего круга пребывают в состоянии некоей пассивной подозрительности по отношению к существующей реальности, «двор» Давоса наполнен энергией. Это-то и говорит в пользу огромных изменений, которыми отмечено наше время: новые технологии, транснациональные экономики и атака на жесткие бюрократии. Совсем немногие, из встреченных мною в Давосе, начинали жизнь богатыми или могущественными, такими, какими они стали сейчас. Здесь королевство «достигателей», и многими из своих достижений они обязаны применению гибкости.
«Давосский человек» наиболее публично воплощен в Билле Гейтсе, вездесущем председателе компании «Майкрософт Корпорейшн». Он появился здесь недавно и, как это делают все главные ораторы на этой встрече, – одновременно и живьем, и крупным планом на огромном телевизионном экране. Было слышно некое бормотание в зале некоторых специалистов, пока говорила гигантская голова: они считают качество продукции «Майкрософт» заурядным. Но для большинства управленцев Гейтс – героическая фигура, и не только потому, что он построил огромный бизнес буквально с нуля. Он – истинное олицетворение гибкого магната, что и было продемонстрировано совсем недавно, когда он обнаружил, что не предвидел возможностей Интернета. Гейтс тут же развернул свое гигантское дело на 180 градусов, перенаправив свой бизнес-фокус на реализацию новых рыночных возможностей.
Когда я был ребенком, у меня была подборка книжек под названием «Моя маленькая ленинская библиотечка», где в графическом изображении были представлены характеры капиталистов, которые «сделали себя сами». Особенно отталкивающей была картинка, изображавшая Джона Рокфеллера-старшего в виде слона, который давит несчастных рабочих своими огромными ногами, а хоботом хватает локомотивы и нефтяные вышки. «Давосский человек» может быть безжалостным и жадным, но только одних этих животных качеств недостаточно, чтобы считать их чертами характера технологических «магнатов», венчурных капиталистов и экспертов по реинженированию компаний, которые собрались здесь.
Гейтс, например, кажется, свободен от одержимости цепляться за что-либо. Его продукты яростно врываются на рынок и так же быстро исчезают, в то время как Рокфеллер хотел владеть нефтяными вышками, зданиями, машинами и железными дорогами вечно. Отсутствие долговременных привязок, похоже, – это фирменный знак отношения Гейтса к работе: он говорил о необходимости позиционировать себя в сети возможностей, а не впадать в паралич, зацикливаясь на какой-то одной конкретной работе. По общим отзывам, он безжалостный конкурент, и свидетельства его жадности общеизвестны; так, он пожертвовал на благотворительные цели, или общественное благо, совершенно мизерную долю своих миллиардов. Но его предрасположенность к гибкости проявляется в его стремлении разрушать то, что он сделал, реагируя на требования конкретного момента, – у него есть такая способность: если уж не отдавать, то и не держаться.
Это отсутствие привязанности ко времени сопряжено со второй характерной чертой гибкости – терпимостью к фрагментации. Когда в прошлом году Гейтс выступал со своей лекцией, он дал своеобразный совет. Он сообщил присутствующим в зале, что рост технологического бизнеса является беспорядочным, отмечен бесчисленными экспериментами, сопровождается ошибочными поворотами и противоречиями. Другие американские специалисты делали акцент на том же самом в беседах со своими «рейнско-европейскими» коллегами, которые, похоже, застряв на своих старых формалистских путях, хотят сконструировать связную «технологическую политику» для своих компаний или для своих стран. Роста, говорили американцы, не достичь таким аккуратным, бюрократически планируемым способом.
Это, может быть, не больше, чем экономическая необходимость, которая сегодня заставляет капиталиста сразу преследовать множество целей – в одно и то же время. Такие целесообразные реальности требуют, однако, особенной силы характера от того, кто себя уверенно чувствует в беспорядке жизни, кто процветает посреди всеобщего расстройства. Рико, как мы видели, эмоционально переживал свои социальные перемещения, которые сопровождали его успех. Подлинные победители не страдают от фрагментации жизни. Напротив, их стимулирует то, что они должны «воевать» на многих различных фронтах одновременно; это часть энергии необратимых перемен.
Способность не держаться за свое прошлое, уверенное принятие фрагментации жизни – вот две главные черты характера, которые проявляются в Давосе у людей, чувствующих себя как дома в этом новом капитализме. Это черты характера, которые поощряют спонтанность, но здесь, «на горе», такая спонтанность является, в лучшем случае, этически нейтральной. Те же самые черты характера, которые дают толчок спонтанности, становятся в большей степени саморазрушительными для тех, кто в системе гибкого режима находится «внизу». Эти три элемента гибкой власти подвергают коррозии характеры более заурядных служащих, которые пытаются играть по этим же правилам. По крайней мере, это то, что я обнаружил, спустившись с «волшебной горы» и вернувшись в Бостон.
Глава 4
Неясность
Спустя год после нашего разговора с Рико я вернулся в бостонскую пекарню, где 25 лет назад, проводя исследования для своей книги «Скрытые раны класса», интервьюировал группу пекарей. В тот раз я приехал, чтобы задать вопросы об их восприятии классов в Америке. Почти так же, как все американцы, они сказали мне, что принадлежат к среднему классу; номинально идея социального класса мало что для них значила. Европейцы же, начиная с де Токвилля и далее, склонны были принимать номинальное за реальное; некоторые из них умозаключили, что мы, американцы, действительно являемся бесклассовым обществом, по крайней мере, в наших манерах и убеждениях – демократия потребителей. Другие, подобно Симоне де Бовуар, придерживались точки зрения, что мы безнадежно запутались в том, что касается наших реальных различий.
Те, кого я интервьюировал четверть века назад, не были слепы: у них было достаточно четкое определение социального класса, хотя и не в европейском его понимании. Понятие «класс», подразумевало, прежде всего, личностную оценку самого себя и обстоятельств. При таком подходе между людьми можно провести очень четкие разграничения; завсегдатаи американских ресторанов «быстрой еды», например, обращаются с теми, кто обслуживает их, с безразличием и грубостью, которые рассматривались бы как оскорбительные и неприемлемые в каком-нибудь английском пабе или французском кафе. Массы представляются недостойными того, чтобы воспринимать их как человеческие существа, и имеет значение только то, насколько люди выделяются из этой массы. Американская одержимость индивидуализмом выражается в потребности в статусе на следующих условиях: индивид хочет, чтобы его уважали таким, каков он есть. Понятие «класс» в Америке интерпретируется, как вопрос характера личности. И поэтому, когда 80 % из группы пекарей говорят: «Я – средний класс», настоящий вопрос, на который они отвечают, это – не вопрос: «Насколько вы богаты?» или «Насколько вы могущественны?», но – «Как вы сами себя оцениваете?». И ответ таков: «Я достаточно хорош».
Объективный критерий социального положения как такового европейцы рассчитывают, оперируя понятием экономического класса, американцы же большей частью оценивают социальное положение, опираясь на понятия расы и этнической принадлежности. В то время, когда я в первый раз интервьюировал бостонских пекарей, пекарня носила итальянское название и выпекала итальянские хлебобулочные изделия, но большинство пекарей были греками. Эти греки были сыновьями пекарей, которые работали на ту же самую фирму. Для этих греков-американцев, слово «черный» был синонимом слова «бедный», и слово «бедный» стало посредством некой алхимии, которая трансформировала объективное социальное положение человека в личностную категорию, смысловым знаком понятия «деградировавший». Людей, которых я интервьюировал в то время, приводила в ярость мысль, что элита, а именно доктора, юристы, профессора и другие привилегированные белые, больше сочувствовала этим предположительно «ленивым черным иждивенцам», чем «борьбе за выживание усердно работающих и независимо мыслящих американцев», принадлежащих к среднему классу. Расовая ненависть, таким образом, подрывала плохо развитое классовое сознание.
Греческое происхождение пекарей, опять-таки, помогало им измерять свое собственное, относительно низкое, положение на социальной лестнице. Греки много извлекли из того факта, что управляющие пекарней были коренными итальянцами. Многие бостонские итальянцы были так же бедны, как и представители других этнических групп, но в этих «других» эмигрантских общинах полагали, что те итальянцы, которые высоко поднялись в обществе, получали помощь от мафии. Пекарей волновала проблема социальной мобильности и движения вверх, но при этом они боялись, что их дети, все больше и больше становясь американцами, утратят свои греческие корни. Эти пекари были некими бостонскими «англо-саксонскими протестантами», которые смотрели на такую же, как они, эмигрантскую Америку сверху вниз, и, возможно, это была реалистическая оценка.
Традиционный марксистский подход к вопросу о классовом сознании базируется на оценке трудового процесса, особенно на том, как рабочие относятся друг к другу в процессе своей работы. Связывало работников пекарни их самосознание. Эта пекарня в некотором отношении больше напоминала бумажную фабрику Дидро, нежели булавочную фабрику Смита. Выпечка хлеба была настоящим балетным упражнением, которое требовало долгих лет тренировки, чтобы делать все правильно. Пекарня была наполнена шумом, запахом закваски, который смешивался с запахом человеческого пота. Руки пекаря постоянно находились в движении, «нырянии» из муки в воду и – обратно. Мастера определяли, готов ли хлеб, лишь поглядев на него и понюхав его. Поэтому они очень гордились своим ремеслом, но все-таки мужчины говорили, что они не получают удовольствия от своей работы, и я им верил. У печей они часто обжигались; примитивная мешалка для теста вызывала растяжение мышц. Кроме того, это была ночная работа, и эти мужчины, у которых семья занимала главное место в жизни, редко видели свои семьи в течение рабочей недели.
Но мне казалось, когда я наблюдал, как они бьются, что этническая солидарность, возникшая из их принадлежности к грекам, помогла им солидаризироваться и в этой трудной работе. Для них быть хорошим работником означало быть хорошим греком. Знак равенства между хорошей работой и хорошим греком имел конкретный, а не абстрактный смысл. Пекари должны были тесно кооперироваться, чтобы координировать разнообразные операции по выпечке хлеба. Когда двое из них, братья, которые были алкоголиками, приходили на работу в стельку пьяными, остальные резко осуждали их, говорили, что они разрушают свои семьи, которые из-за этого теряют свой престиж в общине, ведь все греки жили вместе. Не быть хорошим греком считалось большим позором, и такое осуждение укрепляло трудовую дисциплину.
Как и у Энрико, у греческих пекарей в итальянской пекарне был свой набор «бюрократических» руководящих указаний, как организовать свой жизненный опыт на длительный срок. Пекарские рабочие места перешли к ним от их отцов через местный профсоюз, который также строго структурировал зарплату, привилегии и пенсии. Конечно, ясность в этом мире пекарей требовала неких фикций. Первый владелец пекарни был очень бедным евреем, который кое-что сделал из этого бизнеса, а затем продал его средней организации, которая наняла менеджеров с итальянскими фамилиями, но дела заладились просто благодаря постановке знака равенства между боссом и мафией. Профсоюз, который организовывал их жизни, был фактически в развале, некоторым из его деятелей грозили тюремные сроки за коррупцию, взяточничество, пенсионный фонд был почти разграблен. И все же пекари говорили мне, что эти коррумпированные профсоюзные чиновники понимали их нужды.
Существовало несколько способов, которыми некая группа рабочих делала для себя понятным на более личностном языке «ситуации, которые европеец стал бы прочитывать» в понятиях класса. Раса как бы «отмерла», а этнос как бы «измерял» соответствие понятию «мы». Характер рабочих выражался в их труде, в их действиях, которые были достойны уважения, в их согласованной и честной совместной работе с другими пекарями. И это было возможно, потому что они принадлежали к одной и той же общине.
Когда я вернулся на фабрику после встречи и разговора с Рико, я был поражен тем, как все изменилось.
Гигантское пищевое объединение сейчас владеет этим бизнесом, но это не массовое производство. Эта пекарня работает по принципам гибкой специализации Пьоре и Сейбла, используя сложнейшие механизмы, меняющие свои конфигурации машины. Так, в какой-нибудь из дней пекари могут произвести тысячу французских булок, а на следующий – уже тысячу других изделий, в зависимости от сиюминутной рыночной потребности. В пекарне больше не пахнет потом и потрясающе прохладно там, откуда рабочие часто выбегали на улицу, спасаясь от жары. Сейчас под успокаивающим светом флуоресцентных ламп все кажется странно тихим.
С социальной точки зрения, это больше не греческий цех. Все мужчины, которых я знавал, вышли на пенсию. Теперь здесь работают пекарями несколько молодых итальянцев, вместе с ними трудятся два вьетнамца, стареющий и некомпетентный «англо-саксонский» белый хиппи, а также несколько личностей неопределенной этнической принадлежности. Более того, в коллективе цеха уже не только мужчины; среди итальянцев – есть девушка, которой едва минуло 18 лет, и еще есть женщина, у которой двое взрослых детей. Рабочие приходят и уходят в течение всего дня, пекарня – это запутанная паутина расписаний неполного рабочего дня для женщин и даже для некоторых мужчин; старая ночная смена заменена на гораздо более гибкое рабочее время. Сила профсоюза пекарей «выветрилась» из этого цеха, и как результат – молодые люди больше не защищены профсоюзными договорами, они работают на основе личного контракта, а также по гибкому расписанию. Но самое потрясающее, если вспомнить те предрассудки, которые царили в старой пекарне, это то, что бригадир здесь – чернокожий.
С позиций прошлого, все эти изменения должны выглядеть весьма запутанными. Такая «окрошка» из этнической принадлежности, пола и расы, конечно, делает весьма затруднительным чтение этого текста старым методом. Хотя при этом характерная для Америки предрасположенность переводить классовые характеристики в личностные термины статуса все еще превалирует. По-настоящему новым для меня в этой пекарне был потрясающий парадокс: на таком высокотехнологичном, «гибком» предприятии, где все выглядит уютно-дружелюбным, рабочие чувствовали себя личностно приниженными самим способом организации труда. В этом рае для пекарей такая реакция на свою работу непонятна даже им самим. Операционно все выглядит таким ясным, эмоционально же – таким непонятным и невнятным.
Компьютеризованная выпечка хлеба фундаментально изменила «балетно-физическое действо» на производственной площадке. Теперь пекари не имеют непосредственного контакта с материалом, с буханками хлеба: весь процесс отслеживается посредством экрана, который показывает, например, разного цвета хлеб, который берется из базы данных и соответствует определенной температуре и времени выпекания. Но лишь немногие пекари видят ту буханку хлеба, которую они произвели. Их рабочие экраны организованы в привычной системе «Уиндоуз» (Windows). Одним словом, сейчас доступно для обозрения намного больше видов хлеба, чем в прошлом: русские, итальянские, французские булки можно увидеть, просто нажав клавишу. Хлеб стал экранным образом.
Но в результате работы, организованной таким образом, пекари теперь действительно уже не знают, как выпекать хлеб. «Автоматизированный» хлеб не такое уж чудо технологического совершенства. Машины часто «рассказывают» ошибочную «историю» о булках, которые «вызревают» внутри них. Например, они зачастую ошибаются в определении так называемой «силы поднимающей закваски» или действительного цвета хлеба. Рабочие могут «поиграть» с экраном, чтобы устранить кое-что из этих дефектов; но чего они не могут, так это привести в порядок машины, или – что куда важнее! – испечь хлеб вручную, если вдруг все машины разом выйдут из строя. Руки работников, зависящих от компьютерной программы, перестали быть «умными». Работа перестала быть для них ясной, в смысле настоящего понимания того, что они делают.
Гибкие графики в пекарне до известной степени сглаживают трудности такого типа работы. Рабочие часто уходят домой, когда из печи идет брак. Я отнюдь не хочу сказать, что рабочие безответственны, просто на них лежат и иные обязанности и другие востребованности, например, дети, за которыми нужно присмотреть, или другая работа, куда они должны прибыть вовремя.
Когда вы имеете дело с компьютеризованными выпечками, которые пошли в брак, легче выбросить испорченные булки, перепрограммировать компьютер и начать все заново. В те давние дни я видел очень мало хлебных отходов на полу цеха, теперь же каждый день огромные пластиковые контейнеры наполняются горами почерневших буханок сожженного хлеба. Контейнеры для мусора, похоже, стали некими символами того, что случилось с искусством хлебопечения. Нет серьезной причины романтизировать эту утрату человеческого ремесла, хотя как повар-любитель я обнаружил, что хлеб, которому удается благополучно пройти весь производственный цикл, – отменного качества, и это мнение, очевидно, разделяется многими жителями Бостона, так как пекарня стала популярной и доходной.
Согласно старому марксистскому представлению о классе, рабочие должны чувствовать себя «отчужденными» от производства из-за этой потери ремесла; они должны гневно поносить отупляющие их ум и чувства условия труда. Но единственный человек, которого я смог найти в пекарне, соответствовавший этому описанию, был не кто иной, как чернокожий бригадир, стоявший на самой низшей ступеньке управленческой лестницы.
Родни Эвертс, как я буду его называть, был родом с Ямайки, приехал в Бостон, когда ему было всего 10 лет. Он проделал свой путь наверх в старомодной манере: вначале – ученик, затем – квалифицированный мастер-пекарь и наконец – бригадир. Эта траектория движения вверх – итог двадцатилетнего сражения. Его навязали прежнему руководству в контексте программы по установлению расового равенства. Он испытал на себе всю каждодневную холодность старых греков, но проделал свой путь наверх, благодаря своим решимости и квалификации. «Следы» сражений видны на его теле: он ужасно толст, у него огромный излишек веса, так как от волнения у него разыгрывается аппетит. Поэтому наш разговор сначала вращался вокруг диет и различных заквасочных культур. Родни Эвертс приветствовал и смену управления, как освобождение, поскольку новая национальная компания была менее расистской по своему характеру, и технологические изменения, так как для него это уменьшало риск сердечного приступа. Он был рад и тому, что большинство греков уволилось, и тому, что взяли на работу представителей разных языковых групп. Он ответственен по положению за подбор большинства людей в цехе. Но в то же время он злится, наблюдая, как «слепо» рабочие трудятся, хотя и понимает, что низкий уровень солидарности и мастерства – это не их вина. Большинство людей, которых он выбирает, остаются в пекарне самое большее два года; особенно быстро уходят молодые рабочие, не члены профсоюза. Его раздражает, что компания отдает предпочтение вот этим не членам профсоюза: Эвертс убежден, что если бы им лучше платили, они бы оставались подольше. И еще его злит, что компания использует систему гибкого расписания как приманку для низкооплачиваемых работников. Он хотел бы, чтобы его люди находились в цехе в одно и то же время, чтобы справляться с возникающими проблемами вместе и в наилучшем виде. Переполненные браком контейнеры приводят его в ярость.








