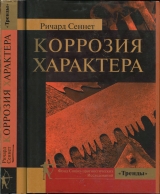
Текст книги "Коррозия характера"
Автор книги: Ричард Сеннетт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
В конце XV века поэт Томас Хоклиф в своей поэме «Правление князей» восклицал: «Увы, где эта неизменность мира?». Еще раньше этот возглас звучал и у Гомера, и у Иеремии в Ветхом Завете[9]9
Цит. у Рэя Пали, «После успеха». Кембридж (Великобритания), 1995, стр. 163–164.
[Закрыть]. На протяжении почти всей своей истории люди принимали как должное тот факт, что их жизни могут претерпеть неожиданные метаморфозы из-за войн, мора или других несчастий, и поэтому, чтобы выжить, они должны были импровизировать. Наши родители и деды были полны тревоги и опасений в 1940 году, пережив Великую Депрессию и стоя лицом к лицу с гнетущей перспективой мировой войны.
Что отличает неопределенность сегодняшнего дня? То, что эта неопределенность существует без наличия какого-либо угрожающего исторического катаклизма, эта неопределенность как бы вплетена в повседневную деятельность энергичного капитализма. Нестабильность ныне воспринимается как норма, предприниматель у Шумпетера выступает в качестве идеального «Повседневного Человека». Возможно, коррозия характера – это неизбежное следствие этой нестабильности. Девиз «Ничего долгосрочного!» дезориентирует действия, рассчитанные на длительный период, ослабляет связи доверия и причастности и отлучает волю от поведения.
Я думаю, что Рико знает, что он одновременно и преуспевший, и запутавшийся человек. Гибкое поведение, которое принесло ему успех, ослабляет его собственный характер способами, для которых не существует эффективных противоядий. Если он, Рико, и есть тот самый «Повседневный Человек» для нашего времени, то его всеобщность определяется именно этой дилеммой преуспеяния и сомнения.
Глава 2
Рутина
Существуют веские основания, объясняющие, почему Рико сражается, чтобы придать смысл времени, в котором он живет. Современное общество подняло мятеж против рутины бюрократического времени, которое может парализовать производство, или правительство, или другие институты. Проблема Рико заключается в том, что же делать с самим собой, когда этот мятеж против рутины увенчается успехом.
Хотя на заре промышленного капитализма не было столь очевидно, что рутина представляет собой зло. В середине XVIII века казалось, что повторяющийся труд может вести в два явно различных направления: одно – положительное и плодотворное, другое – разрушительное. Позитивная сторона рутины была описана Дидро в его великой «Энциклопедии», публиковавшейся с 1751 по 1772 год; негативная сторона регулируемого рабочего времени была в высшей степени драматично изображена в труде Адама Смита «Богатство наций», опубликованном в 1776 году. Дидро верил, что рутина в работе может быть подобна любой другой форме механического заучивания, необходимого «учителя». Смит же полагал, что рутина отупляет мозг. Сегодня общество на стороне Смита. Дидро высказал предположение, что мы могли бы потерять, приняв сторону его оппонента.
Самые ударные статьи в «Энциклопедии» Дидро, обращенные к его благовоспитанной аудитории, были посвящены повседневной жизни – это были статьи о промышленности, различных ремеслах, сельском хозяйстве. Их сопровождала серия гравюр, которые наглядно показывали, как сделать стул или точильный камень. Рисунок середины XVIII века отмечен элегантностью линии, но большинство художников использовали эту элегантность, чтобы изобразить сцены аристократического досуга или ландшафт; иллюстраторы же «Энциклопедии» поставили эту элегантность на службу повседневному труду, изобразив молотки, печатные станки, молоты для забивания свай. Главным, как в тексте, так и в рисунках, было утверждение изначального достоинства труда[10]10
История этих гравюр – обычное для XVIII века воровство. Дидро и его соредактор Д’Аламбер украли многие из них у ранних художников, таких, как Ремур, и у современников, например, Патэ. См. Джон Лоу. «Энциклопедия». Нью-Йорк, 1971, стр. 85–90.
[Закрыть].
Исключительные достоинства рутины изображаются в пятом томе «Энциклопедии», в серии гравюр, показывающих действующую бумажную фабрику в Ла Англэ, в 50 милях к югу от Парижа, рядом с городом Мотанжи. Она спроектирована наподобие дворца – с главным корпусом, соединенным под двумя прямыми углами с крыльями меньшего размера; снаружи мы видим цветники и аллеи вокруг фабрики. Они выглядят так, как могли бы выглядеть на территории загородного дома аристократа.
Окружающая обстановка этой образцовой фабрики – столь приятная нашему взору – на самом деле драматизирует великую трансформацию труда, которая началась во времена Дидро: ведь здесь жилище отделяется от места работы. До середины XVIII века домашнее хозяйство служило в качестве физического центра экономики. В сельской местности семьи производили большую часть вещей, которые сами же и потребляли; в городах, вроде Парижа или Лондона, ремесленное производство также сосредоточивалось в семейных жилищах. В доме булочника, например, ремесленники, подмастерья и ученики, а также биологическая семья самого пекаря – все «принимали пищу вместе, и пищей обеспечивались все вместе, так как предполагалось, что все спят и живут в этом доме», – пишет историк Герберт Эплбаум. Далее он отмечает: «стоимость выпечки хлеба… включала в себя стоимость жилья, питания и одежды всех, кто работал на хозяина. Зарплата в денежном выражении была только частью этой стоимости»[11]11
Херберт Эплбаум, «Концепция работы». Олбани, 1992, стр. 340.
[Закрыть]. Антрополог Даниэль Дефер называет это «домашней экономикой», вместо рабства заработной платы здесь царило неразделимое сочетание крова и подчинения воле хозяина.
Дидро изображает в Ла Англэ новый порядок работы, отрезанной от дома. Фабрика не предоставляла рабочим жилья на своей территории; действительно, эта фабрика стала одной из первых во Франции, которая нанимала работников, живших вдалеке от места ее расположения, поэтому они должны были большей частью ездить на работу на лошадях, нежели ходить пешком. Эта фабрика была также одной из первых, которая стала выплачивать зарплату напрямую малолетним работникам, а не их родителям. Привлекательность, даже элегантность, внешнего вида бумажной фабрики предполагает, что гравер рассматривал это разделение работы и жилища в благоприятном свете.
В таком же свете показана фабрика и изнутри: везде царит порядок. На самом же деле приготовление бумажной массы в XVIII веке было грязной и зловонной операцией. Лохмотья, которые использовали для бумаги, часто снимали с трупов, затем это тряпье гнило в чанах в течение двух месяцев, чтобы отделилась масса от волокон. Но на гравюре в Ла Англэ на полах нет пятен, а рабочие не похожи на людей, которые борются с приступом тошноты. В изображении помещения, где мочало сбивают в пульпу специальным прессом, – это самая грязная из операций – люди вообще отсутствуют. На самом же деле в помещении, где осуществлялось самое изощренное разделение труда: пульпа вычерпывалась, затем прессовалась в тонкие листы – и три ремесленника действовали воистину с балетной координацией.
Секрет этого производственного порядка заключался в очень точных рутинных операциях. Ла Англэ была фабрикой, на которой все имело предназначенное ему место и где каждый знал, что нужно делать. Но для Дидро рутина такого вида не означала простое бесконечное механическое повторение некоей задачи. Школьный учитель, который настаивает, чтобы ученик запомнил 50 строчек стихотворения или поэмы, хочет, чтобы поэзия «складировалась» в мозгу ученика, а затем была воспроизведена, как по команде, и использована при оценке других поэм. В своем «Парадоксе об актере» Дидро постарался объяснить, как актер или актриса постепенно достигают глубины в постижении некоей роли, повторяя строчки текста снова и снова. Вот эти-то достоинства повторения он предполагал найти и в промышленном труде.
Производство бумаги – это не бездумная работа. Дидро верил – опять же по аналогии с искусством, – что повторяемые операции постоянно совершенствуются по мере того как рабочие научаются тому, как нужно манипулировать и изменять каждую стадию рабочего процесса. Если шире, то «ритм» работы – это значит, что, повторяя некую определенную операцию, рабочий находит возможность ускорить или замедлить ее, что-то изменить, «играть» с материалами, развивать новые навыки – точно так же, как музыкант овладевает темпом при исполнении того или иного музыкального произведения. Благодаря повторению и ритму рабочий может достичь, как говорил Дидро, «единения мысли и руки» в трудовой деятельности[12]12
Там же, стр. 379.
[Закрыть].
Конечно, это – идеал. Дидро предлагает доказательства наглядного и тонкого рода, чтобы сделать свою точку зрения убедительной. На бумажной фабрике маленькие мальчики, чьи обязанности заключались в том, чтобы резать вонючее тряпье, изображены работающими в отдельном помещении, без надзора взрослых. На разметке, сушке и других операциях мальчики, молодые женщины и здоровые крепкие мужчины работают бок о бок; здесь аудитория «Энциклопедии» в буквальном смысле видела равенство и братство. Что делает это изображение особенно визуально убедительным, так это выражение лиц рабочих. Неважно, сколь трудно дело, которым они занимаются, – лица рабочих спокойны и как бы отражают убежденность Дидро в том, что именно благодаря труду человеческие существа могут пребывать в мире с самими собой. «Давайте работать, без теоретизирования, – говорит Мартин в „Кандиде“ Вольтера. – Это единственный способ сделать жизнь выносимой». Хотя Дидро и был больше склонен к теоретизированию, но, как и Вольтер, верил, что благодаря овладению рутиной и ее ритмами, люди берут на себя контроль и умиротворяются.
Адаму Смиту эти изображения упорядоченной эволюции, братства и спокойствия представляются несбыточной мечтой. Рутина омертвляет дух. Рутина, по крайней мере та, какая была в нарождающемся капитализме, которому он был свидетелем, казалось, не допускала какую-либо связь между обыкновенным трудом и позитивной ролью повторения в «деланьи» искусства. Когда в 1776 году Адам Смит опубликовал «Богатство народов», его восприняли и продолжают воспринимать, как апостола этого нового капитализма. Это произошло из-за декларации, которую он сделал в начале своей книги в пользу свободного рынка. Но Смит больше, чем апостол экономической свободы: он полностью осознавал и темную сторону рынка. Это открылось ему, собственно, при рассмотрении рутинной организации времени в этом новом экономическом порядке.
«Богатство народов» основывается на одном великом озарении: Смит верил, что свободное обращение денег, товаров и труда потребует от людей выполнения все более специализированных задач. Рост свободных рынков сопровождается разделением труда в обществе. Мы легко поймем идею – метафору Смита о разделении труда, обратившись к пчелиному улью: по мере того, как улей увеличивается в размерах, каждая из его ячеек становится местом для некоего особого вида труда. Излагая формально, все цифровые параметры обмена – будет ли это величина денежного запаса или количество товаров на рынке – нераздельно связаны со специализацией производственных функций.
Собственный графический пример Адама Смита – фабрика по производству булавок и шпилек. (Не современных швейных иголок: булавки XVIII века были эквивалентами наших гвоздиков с широкими шляпками и маленьких гвоздиков, которые используются в столярном деле). Смит подсчитал, что изготовитель булавок, который все делает сам, может в лучшем случае произвести несколько сотен булавок в день. А на булавочной фабрике, действовавшей согласно новым принципам разделения труда, где изготовление булавок было разделено на составные части и каждый рабочий выполнял только одну из них, изготовитель булавок мог произвести более 16 тысяч штук в день[13]13
Адам Смит, «Богатство народов». Лондон, 1776. Цит. по изд. Лондон, 1961, т. 1, стр. 109–112.
[Закрыть]. Торговля, в которую вовлекается эта фабрика, в условиях свободного рынка будет только стимулировать потребность в булавках, что вызовет к жизни более крупные предприятия с еще более изощренным разделением труда.
Подобно бумажной фабрике Дидро, булавочная фабрика Адама Смита – это место для работы, но не место, где живут. Разделение дома и труда, говорил Смит, есть самое важное из всех видов современного разделения труда. И так же, как бумажная фабрика Дидро, булавочная фабрика Смита действует слаженно благодаря повторяющимся операциям, когда каждый рабочий выполняет только одну функцию. Булавочная фабрика Смита отличается от описания бумажной фабрики его видением относительно разрушительности такой организации рабочего времени с человеческой точки зрения.
Мир, в котором жил Адам Смит, конечно, давно уже был знаком с рутинными процедурами и расписаниями времени. Церковные колокола, начиная с VI века нашей эры, «размечали» дневное время на религиозные единицы; в период раннего Средневековья бенедиктинцы предприняли очень важный шаг, когда стали звонить в колокола, чтобы обозначить время не только для молитвы, но и для работы, и приема пищи. Ближе ко времени, в которое жил Смит, механические часы заменили церковные колокола, а к середине XVII века уже были широко распространены карманные часы. Теперь математически точное время можно было определить, где бы человек ни был, находился ли он в пределах видимости церкви или слышимости ее колоколов – это уже не имело значения. Время, таким образом, перестало зависеть от пространства. Но тут возникает вопрос: почему дальнейшее распространение этой регламентации времени оказалось для человека бедствием?
«Богатство наций» – очень солидная по объему книга, и пропагандисты новой экономики уже во времена Смита имели обыкновение обращаться лишь к ее драматическому и внушающему надежду началу. Но по мере чтения книги она становится все мрачнее и мрачнее; булавочная фабрика представляется все более зловещим местом. Смит признает, что разбивка заданий, связанных с производством булавок, на составные части обрекает каждого отдельного их изготовителя на отупляюще нудный день, когда час за часом проходят за выполнением одной и той же маленькой операции. В какой-то момент эта рутина становится саморазрушительной, потому что человеческие существа теряют контроль над своими собственными действиями. Отсутствие же ощущения времени означает, что люди умственно мертвеют.
Капитализм его времени, как полагал Смит, был в процессе пересечения великого «водораздела», когда «те, кто трудятся больше, получают меньше» при этом новом порядке. Он думает, прежде всего, о человеческих качествах, нежели о заработной плате[14]14
Там же, стр. 353.
[Закрыть]. В одном из своих самых мрачных пассажей из «Богатства наций» он пишет:
«С дальнейшим развитием разделения труда занятость все большего числа людей, которые живут трудом… оказывается привязанной к нескольким очень простым операциям, часто к одной или двум…
…Человек, чья целая жизнь потрачена на исполнение нескольких простых операций… обычно становится настолько тупым и невежественным, насколько это возможно для человеческого существа»[15]15
Там же, стр. 302–303.
[Закрыть].
Таким образом, промышленный рабочий не имеет понятия ни о том, что значит располагать собой, ни о том, что такое живая экспрессивность актера, который запомнил наизусть тысячу строк. Сравнение рабочего и актера, сделанное Дидро, является ложным, потому что рабочий не контролирует свою работу. Изготовитель булавок становится «тупым и невежественным» существом в процессе разделения труда; повторяющаяся природа его работы «усмирила» его. По этим причинам индустриальная рутина угрожает ослабить самые основы человеческого характера.
Если вот такой Адам Смит кажется до странности пессимистичным, то это происходит, возможно, только потому, что на самом деле он был более сложным мыслителем, чем пытается представить его капиталистическая идеология. В действительности, еще раньше, в работе «Теория моральных чувств», он утверждал высокую значимость взаимного сочувствия и способности отождествлять себя с нуждами других людей. Сочувствие, – доказывал он, – это спонтанное моральное чувство: оно проявляет себя как бы вдруг, когда мужчина или женщина неожиданно начинают понимать и воспринимать страдания или проблемы других людей. Однако разделение труда приглушает эти спонтанные вспышки; повторяющиеся операции, рутина подавляют проявления сочувствия. Конечно, Смит ставил знак равенства между ростом рынков, разделением труда и материальным прогрессом общества, но это не относилось к моральному прогрессу. И добродетели сочувствия раскрывают нечто, возможно, более тонкое относительно индивидуального характера человека.
Моральный центр Рико, как мы это видели, состоял в его решительном утверждении собственной воли; для Смита спонтанный взрыв сочувствия превосходит волю, как бы сметает человека в область эмоций, неподвластных его контролю, как, например, при неожиданном отождествлении себя с общественными бедами. Взрывы сочувствия – это царство спонтанного времени – толкают нас за пределы наших обычных моральных границ. В сочувствии нет ничего предсказуемого или рутинного.
Адам Смит отличался от своих современников тем, что делал акцент на этической важности таких взрывов эмоций. Большинство его современников рассматривало человеческий характер в его этическом аспекте так, будто у него было мало общего со спонтанным чувством или даже с человеческой волей. Джефферсон в своем «Билле об установлении религиозной свободы» (1779) утверждал, что «мнения и убеждения людей зависят не от их собственной воли, а непроизвольно следуют той очевидности, которая представлена нашему собственному сознанию»[16]16
Томас Джеферсон, «Сочинения», ред. Меррил Д. Питерсон. Нью-Йорк, 1984, стр. 346.
[Закрыть]. Становление характера начинается с исполнения человеком своего долга. Как говорил Джеймс Мэдисон в 1785 году, следование диктату совести «является также неотчуждаемым, потому что это право, данное людям, и это долг по отношению к Создателю»[17]17
Джеймс Мэдисон, цит. у Марвина Мейерса, «Мышление отца-основателя». Ганновер, 1981, стр. 7.
[Закрыть]. Природа и Бог предлагают – человек подчиняется.
Адам Смит говорит на «языке характера», который, возможно, ближе именно нашему времени. Характер, как это представляется ему, формируется историей и ее непредсказуемыми поворотами. Однажды установленная, рутина не позволяет многого совершить в своей личностной истории, поэтому, чтобы развить свой характер, человек должен вырваться из рутины. Это общее положение Смит специфицирует: он восславляет характер торговцев, полагая, что они действуют соответственно и как бы сочувственно меняющимся требованиям момента. В то же время он высказывает сожаление по поводу состояния характера промышленных рабочих, впрягшихся в ярмо рутины. Торговец, по его мнению, более полно задействован как человеческое существо.
Нас не должно удивлять, что Маркс внимательно изучал Адама Смита, хотя едва ли он разделял его восхищение торговлей и торговцами. Будучи молодым человеком, Маркс восхищался, по меньшей мере, его общей теорией спонтанности, изложенной в «Теории моральных чувств». С годами, став более зрелым и трезвым аналитиком, он сконцентрировался на изображении Смитом всех зол рутины и разделения труда, при котором рабочий не контролирует работу, – эти положения являются сущностными составными частями Марксового анализа товарного времени, времени как товара. Маркс добавил к изображенной Смитом рутине на булавочной фабрике в качестве контраста такую, более старую, практику организации труда, как немецкая система «Тагверк» (Tagwerk), при которой работнику платили за рабочий день. При такой практике он мог приспосабливаться к условиям окружающей его среды, трудясь по-разному в дни, когда шел дождь и когда дни были ясными, или организуя свои задания с учетом поставок. В такой работе присутствовал ритм, потому что работник сам контролировал ситуацию[18]18
См. великолепную дискуссию в работе Барбары Адам «Время и социальная теория». Филадельфия, 1990, стр. 112–113.
[Закрыть]. В противоположность этому, как напишет позже историк-марксист Э. П. Томпсон, при современном капитализме те, кто занят на производстве, «испытывают разницу между своим рабочим временем и так называемым собственным временем»[19]19
Эдвард Томпсон, «Время, рабочая дисциплина и индустриальный капитализм» // Прошлое и настоящее. 1967, вып. 36, стр. 61.
[Закрыть].
Опасения Адама Смита и Маркса по поводу рутинного времени транслировались в наш собственный век, воплотившись в феномен, который был назван «фордизмом». Это в «фордизме» мы можем с наибольшей полнотой документировать те мрачные предчувствия, которые были у Смита в отношении промышленного капитализма, что только еще начал развиваться в конце XVIII века, особенно в том месте, где этот будущий «фордизм» и сформировался.
Фабрику «Хайлэнд Парк», принадлежавшую «Форд Мотор Кампани» (Ford Motor Company), обычно рассматривали как лучшую иллюстрацию технологического разделения труда. Этот феномен имел место в 1910–1914 годах. Генри Форд в некоторых отношениях был гуманным работодателем: он платил рабочим хорошую заработную плату – по системе 5 долларов в день (что эквивалентно 120 долларам в день по курсу 1997 года) и включал их в план по разделу прибыли. Другое дело – технологические операции в цехах. Генри Форд полагал, что озабоченность качеством рабочей жизни – это «мечтания при луне»: 5 долларов в день – вполне приличное вознаграждение за скуку.
До того, как Форд создал эталонные фабрики наподобие «Хайлэнд Парк», автомобильная промышленность базировалась на мастерстве – высококвалифицированных рабочих, которые выполняли множество сложных операций, занимаясь, скажем, мотором или корпусом автомобиля в течение всего рабочего дня. Эти рабочие пользовались огромной степенью автономии, и автомобильная промышленность на самом деле представляла собой связку децентрализованных цехов. «Многие квалифицированные рабочие, – отмечает Стивен Мейер, – часто сами нанимали и увольняли своих собственных помощников, и платили последним определенную сумму из собственного кармана»[20]20
Стивен Мейер, «Пять долларов в день: менеджмент труда и социальный контроль в „Форд Мотор Компани“». Олбани, 1981, стр. 12.
[Закрыть]. Где-то около 1910 года режим труда работников булавочной фабрики проник и в автомобильную промышленность.
Поскольку «Форд Мотор» индустриализировал производственный процесс, он был склонен нанимать так называемых специальных рабочих, отдавая им предпочтение перед квалифицированными мастерами: специализированные рабочие выполняли ограниченные операции, которые не требовали мыслей или рассуждений. На заводе Форда «Хайлэнд Парк» большинство этих специализированных рабочих составляли недавние эмигранты, в то время как квалифицированные мастера были в основном из немцев и других, ранее приехавших в Америку людей. И менеджеры, и «коренные» американцы полагали, что у новых эмигрантов не хватает сообразительности, чтобы выполнять нечто большее, чем рутинные операции. К 1917 году 55 % рабочей силы составляли специализированные работники, еще 15 % – неквалифицированные уборщики и подметальщики, которые трудились по обеим сторонам сборочной линии, а число квалифицированных и технических работников составляло всего 15 %.[21]21
По-видимому, автор приводит не все сегменты рабочей силы. (Прим. переводчика.)
[Закрыть]
«Дешевым работникам нужны дорогие сборочные приспособления, – говорил Стерлинг Баннел, один из первых пропагандистов этих изменений, – а высококвалифицированным работникам нужно мало чего помимо их шкафчиков для инструментов»[22]22
Цит. у Дэвида Монтгомери, «Рабочий контроль в Америке: исследования по истории трудовых технологий и трудовых конфликтов». Кембридж (Великобритания), 1979, стр. 118.
[Закрыть]. Это понимание относительно использования сложных машин для облегчения человеческого труда послужило основанием тех опасений, которые испытывал Адам Смит. Например, промышленный психолог Фредерик Тейлор был убежден, что машинерия и индустриальная организация могут быть исключительно сложными на огромных предприятиях, но рабочим не обязательно считать эту сложность; на самом деле, писал он, чем меньше рабочие будут отвлекаться на понимание плана всего целого, тем эффективнее они будут выполнять свою собственную работу[23]23
Фредерик У. Тейлор, «Принципы научного менеджмента». Нью-Йорк, 1967.
[Закрыть]. Пресловутые исследования Тейлора, посвященные замерам времени на каждую операцию, проводились с использованием секундомера, когда с точностью до доли секунды измерялось, сколько рабочему нужно времени на установку фары или бампера. Менеджмент на основе этих измерений времени довел представление Смита о булавочной фабрике до садистской крайности. Однако Тейлор почти не сомневался в том, что его «подопытные кролики» покорно примут все эти измерения и манипуляции.
В действительности же, некоего покорного принятия этого рутинно-временного рабства, как естественного следствия из ситуации, не наблюдалось. Как отмечает Дэвид Нобл, «рабочие продемонстрировали богатый репертуар приемов того, как саботировать исследования, посвященные замерам затрат времени на операцию, и, как само собой разумеющееся, игнорировали методики и инструкции всякий раз, когда они им мешали или вступали в конфликт с их собственными интересами»[24]24
Дэвид Ф. Ноубэл, «Производительные силы: социальная история индустриальной автоматизации». Нью-Йорк, 1984, стр. 37.
[Закрыть]. Более того, «тупое и невежественное» существо Адама Смита стало испытывать депрессию на работе, что снизило его продуктивность. Эксперименты, подобные тем, которые проводились на заводе «Дженерал Электрик» в Хоторне, показали, что почти любое внимание, которое уделяют рабочим как «чувствующим» человеческим существам, повышает их производительность. Индустриальные психологи, такие как Элтон Мэйо, побуждали менеджеров выказывать больше внимания и заботливости по отношению к своим подчиненным и адаптировать практику психиатрического консультирования применительно к трудовой деятельности. И надо сказать, что эти индустриальные психологи, наподобие Мэйо, обладали ясным взором. Они знали, что могут только смягчить муки скуки, но не смогут убрать ее из этой железной клетки времени.
Муки, порожденные рутиной, достигли своей кульминации при поколении Энрико. В классическом исследовании 50-х годов «Работа и недовольные ею» Даниэль Белл задался целью проанализировать это царство рутины на другом автомобильном заводе компании «Дженерал Моторз» – в Уиллоу Ран, в штате Мичиган. «Соты» того улья, о котором писал Адам Смит, стали теперь поистине гигантскими: завод в Уиллоу Ран был структурой в две трети мили длиной и четверть мили шириной. Здесь имелись все материалы, необходимые для того, чтобы делать автомобили, – от стали до стеклянных блоков и кожаной обшивки. Все это было собрано под одной крышей, работа координировалась предельно дисциплинированной бюрократией, состоящей из аналитиков и менеджеров. Конечно, столь сложная организация могла функционировать только благодаря четким правилам, которые Белл назвал «инженерной рациональностью». Эта огромная, хорошо спроектированная клетка действовала на основе трех принципов; эти принципы – «логика размера, логика метрического времени и логика иерархии»[25]25
Дэниэл Белл, «Работа и недовольные ею» // «Конец идеологии». Кембридж (США), 1988, стр. 230.
[Закрыть].
Логика размера была простой: то, что больше, – то и эффективнее. Концентрирование всех элементов производства в одном месте, как на заводе в Уиллоу Ран, сохраняло энергию, позволяло экономить на транспортировке материалов и опутывало фабрику сетью «беловоротничковых офисов», занятых продажами и администрированием.
Логика иерархии была уже не столь простой. Макс Вебер утверждал, давая определение человеческой железной клетке, что «нет необходимости приводить специальные доводы в доказательство того, что военная дисциплина является идеальной моделью для современной капиталистической фабрики»[26]26
Макс Вебер, «Экономика и общество», т. 2, под ред. Гюнтера Рота и Клауса Виттиха. Беркли (США), 1978, стр. 1156.
[Закрыть]. В компаниях, подобных «Дженерал Моторз» в 50-х годах, Белл отметил наличие несколько иной модели контроля: «Суперструктура, которая организует и направляет производство… устраняет из цеха всю возможную мозговую работу; все сконцентрировано в определяющих график работы, а также планирующих и проектирующих отделах». В «архитектуре» это означало необходимость как можно дальше отодвинуть техников и менеджеров от пульсирующей машинерии заводов. Генералы производства, таким образом, утратили непосредственный физический контакт со своими войсками. Результат, однако, только усилил отупляющее воздействие рутины, так как «рабочий, пребывающий в самом низу и посвященный только в незначительные детали, был отчужден от возможности принимать какие-либо решения или внесения модификаций в продукт, который он же и производил»[27]27
Д. Белл, стр. 235.
[Закрыть].
Все эти пороки на заводе в Уиллоу Ран были следствием тейлористской логики «метрического времени». Повсюду на огромном заводе время калькулировалось поминутно для того, чтобы высшие менеджеры знали точно, что делал каждый работник в тот или иной момент. Белл, например, был поражен тем, как на заводе «Дженерал Моторз» «делят час на десять шестиминутных отрезков… и труд рабочего оплачивается по числу „десятин“ каждого часа, в которые он работает»[28]28
Там же, стр. 233.
[Закрыть]. Эта поминутная инженерия рабочего времени была привязана к очень длинным мерам времени работы всей корпорации. Оплата за выслугу лет была прекрасно подогнана к общему числу часов, которые мужчины или женщины проработали на «Дженерал Моторз». Любой работник мог с точностью до минуты рассчитать «выгоды» отпускного времени или отпуска по болезни. Микрометрия времени так же, как работниками физического труда на сборочной линии, управляла и низшими эшелонами «белых воротничков» из офисов, определяя их продвижение по службе или получаемые ими выгоды.
Однако когда на работу пришло поколение Энрико, метрики времени стали чем-то иным, нежели просто актом подавления и доминирования, который практиковал управленческий слой во имя гигантского индустриального роста организации. Интенсивные переговоры по поводу режима труда стали приоритетными для обеих сторон – как для объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, так и для менеджмента компании «Дженерал Моторз». Рядовые члены профсоюза уделяли пристальное, порой даже чрезвычайно пристальное, внимание цифрам, которые обсуждались на этих переговорах. Рутинизированное время стало, так сказать, ареной, на которой рабочие могли отстоять свои требования, ареной демонстрации силы.
Это был политический результат, которого Адам Смит не ожидал и не предвидел. Предпринимательские «бури», которые Шумпеттер образно назвал «созидательной деструкцией», показали, что идеализированный Смитом тип булавочной фабрики шел к банкротству на протяжении всего XIX века. Рациональность этого типа хорошо выглядела как чертеж на бумаге, но воплощенная в металл и камень могла просуществовать только несколько лет. Исходя из этого, рабочие, чтобы оградить себя от этих хаотических явлений, тоже попытались придать упорядоченность времени за счет сбережений в кассах взаимопомощи или закладных на дома, получаемых от строительных компаний. Сейчас мы едва ли расположены думать о распланированном времени, как о некоем личностном достижении, но, принимая во внимание стрессы, бумы и кризисы индустриального капитализма, оно часто становиться таковым. Инженерия рутинного времени, которая возникла на заводе Форда в Хайленд Парке, нашла свое логическое завершение на заводе «Дженерал Моторз» в Уиллоу Ран. Мы уже знаем, как из этого навязчивого, точно расписанного времени Энрико выкраивал благоприятный для себя нарратив своей жизни. Рутина может лишить значимости, но она же может и защитить; рутина может расчленить труд, но она же может и «сочинить» жизнь.
Тем не менее сущность опасений Смита стала очевидна и Дэниэлю Беллу, который пытался понять, почему рабочие не восстают против капитализма. При этом отметим, что Белл как бы остановился на полпути от дверей, ведущих в социалистическую веру. Он давно понял, что недовольство своей работой, даже тех, у кого ее содержание было выхолощено полностью, не ведет к восстанию: сопротивление рутине не порождает революцию. И все же Белл оставался хорошим сыном в социалистическом доме, так как он верил, что на расползающейся во всех направлениях фабрике в Уиллоу Ран он наблюдал сцены из трагедии.








