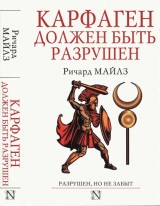
Текст книги "Карфаген должен быть разрушен"
Автор книги: Ричард Майлз
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Примечательный факт: в 146 году жертвой Рима стал еще один древнейший город. Римская армия Луция Муммия захватила, разграбила и почти полностью уничтожила Коринф, подавляя восстание Ахейского союза[355]355
Harris 1979, 240–244, считает, что дипломатический инцидент спровоцирован римским сенатом. Errington (1971, 236–240) указывает на неопытность и запальчивость нового руководства Ахейского союза.
[Закрыть]. Трагическая участь Коринфа доказывает лицемерие Рима, оправдывавшего варварское разрушение Карфагена опасениями, появившимися в связи с возрождением его могущества. Нет сомнений и в том, что желание погубить Карфаген вызывалось не только надуманной военной угрозой. Рим неплохо поживился на разрушении и грабеже двух богатейших городов древнего Средиземноморья. И в Карфагене, и в Коринфе интервенты разворовали все ценности, а уникальные произведения искусства вывезли в Рим. Сципион Эмилиан, желая найти хоть какое-то оправдание разбою, пригласил представителей греко-сицилийских городов приехать в Карфаген и заявить свои права на шедевры, украденные у них ранее карфагенянами{1228}. Как бы то ни было, распродажа рабов и присвоение карфагенских земель позволили и существенно пополнить государственную казну, и обогатиться самим римлянам[356]356
Хотя на протяжении двадцати лет после разрушения Карфагена римляне, очевидно, и не проводили крупномасштабные работы по освоению приобретенных земель, исследователи отмечают, что почти сразу же они начали землемерное обследование (Wightman 1980, 34–36).
[Закрыть].
Демонстративно и высокомерно изничтожив эти два города, Рим недвусмысленно предупреждал все остальные государства: любое сопротивление ему наказуемо, и никакие прошлые свидетельства величия ничего не значат в этом новом мироустройстве. Как написал Николас Перселл: «Устройство, переустройство, украшательство всегда были присущи деятельности правителей города. Столь же эффективным средством стало и разрушение… Уничтожением Карфагена и Коринфа в 146 году римляне умышленно сделали всем символическое предупреждение способом, выходившим за рамки военных традиций»{1229}. Участь, постигшая прежде Капую, была лишь прологом к полномасштабной средиземноморской драме[357]357
Параллели с Капуей проводили поздние писатели, в частности, Цицерон и Ливий (Cicero Agr. 2.87; Livy 26.34.9).
[Закрыть]. Разрушением Карфагена и Коринфа Рим создал кровавый прецедент наказания другого государства за непослушание и силового утверждения мирового господства.
Власть над прошлым
Римляне получили то, что хотели. Начав с малого – потребовав от карфагенян в заложники детей, – они затем в буквальном смысле стерли с лица земли суверенное государство, погубив его многовековую историю, культуру и традиции. Этические обоснования в данном случае совершенно неуместны, особенно на фоне параллельного уничтожения Коринфа и притязаний на Средиземное море как mare nostrum – «наше море»{1230}. Свой новый статус мировой державы Рим утверждал не только могуществом, но и незаурядным умением всегда находить оправдание своим действиям, невзирая на реальные факты. Покончив с Карфагеном, римляне стали в определенном смысле творцами истории{1231}. В зарождении римской историографии основополагающую роль уже сыграли Ганнибаловы войны. У Фабия Пиктора появились последователи, не менее страстно желавшие документировать славное прошлое Рима.
Пиктор писал на греческом языке. Катон сочинял свой эпохальный труд Origines{1232} на латыни. В произведении, состоящем из семи книг, излагается история римлян до 149 года (в этом году автор умер)[358]358
Катон во многом следовал историографии Фабия Пиктора, мифам об Энее и троянском происхождении римлян (Gruen 1992, 33–34).
[Закрыть]. Подобно Пиктору, Катон стремился отразить особую роль в становлении великой римской державы сугубо римских добродетелей – мужества и благочестия. Однако он подчеркивает также, что своими успехами римляне обязаны не отдельным блистательным полководцам и государственным деятелям, а всему гражданскому сообществу{1233}. Хронологически (и географически) произведение Катона построено неравномерно. В двух книгах он рассказывает о происхождении народов Италии, возможно, с намерением оттенить их культурную и историческую общность и легитимность лидерства Рима{1234}.[359]359
Несмотря на презрительное отношение к некоторым аспектам греческой культуры, Катон, похоже, руководствовался моделью Тимея за одним исключением. Если сицилийский грек рассматривал Италию и Рим в контексте всего Центрального Средиземноморья, то Катон подчеркивал главенство Рима в Италии.
[Закрыть] Первые столетия существования Рима сжато описаны автором в одной книге, в то же время отдельная книга посвящена Первой и Второй Пуническим войнам. Две полновесные книги посвящены и очень короткому историческому периоду с начала шестидесятых годов II столетия до 149 года{1235}. Неравномерность исторического материла, возможно, объясняется нехваткой источников информации, но она также свидетельствует о намерении автора написать нечто вроде манифеста на потребу дня. Сочинение, возможно, предназначалось и для того, чтобы объяснить (или оправдать) причастность Катона и сената к уничтожению главного врага. Именно в этом труде Катон изложил шесть (предполагаемых) нарушений Карфагеном обязательств перед Римом{1236}. Позиция Карфагена, естественно, полностью проигнорирована.
Трагедия Карфагена интересовала и литераторов. Стремление придавать определенную смысловую направленность или переписывать историю прошлого обнаруживается в сочинениях не только хронистов, но и нового поколения римских эпических поэтов. Эти авторы бессознательно ориентировались на греков, но акцентировали внимание на сугубо римской тематике, пытаясь создать собственную «национальную литературную культуру»{1237}. Первыми писателями такого рода были не римляне, а италики с юга полуострова, где сохранялось влияние эллинистической культуры. Они появились в Риме во время или сразу же после завершения Второй Пунической войны и установили тесные связи с видными римскими сенаторами{1238}. Понятно, что войны с Карфагеном заняли первостепенное место в их сочинениях. Первую эпическую поэму на латинском языке о конфликте с Карфагеном написал в конце III века Гней Невий, кампанец и ветеран Первой Пунической войны. Она так и называлась – «Пуническая война»{1239}. Ему наследовал один из величайших римских поэтов Квинт Энний, калабриец, сражавшийся с карфагенянами во Второй Пунической войне. В своем эпическом шедевре «Анналы» он отобразил всю историю Рима{1240}.
И Невий, и Энний писали сочинения под влиянием древних мифов[360]360
В произведении Невия миф настолько переплетен с последними событиями, что возникло предположение, будто изображение битвы гигантов с богами-героями является описанием фриза на храме Зевса в Акраганте на Сицилии (Fraenkel 1954, 14–16; Feeney 1991, 118).
[Закрыть]. Перед нами не история римско-карфагенских отношений, а эпическое повествование о борьбе двух городов за мировое лидерство, на которую они были обречены с самого начала. В эпической поэме Невия, как, надо полагать, и у Энния (от его поэмы сохранились лишь фрагменты), царица и основательница города Дидона (Элисса в произведениях греко-эллинистических писателей) представлена современницей Энея. Замысел очевиден: поддержать фиктивную синхронность основания Карфагена и Рима, впервые провозглашенную Тимеем{1241}.[361]361
Легенда о Риме как вековечном городе подкрепляется исторической концепцией трансформации Ромула, основателя Рима, во внука Энея (Goldberg 1995, 95–96).
[Закрыть] Согласно Невию и Эннию, пунические войны развязали не люди, они возникли по велению богов. Покровительницей Рима была Венера, мать Энея, а карфагенян в той же роли оберегала Юнона{1242}. Римляне удостоились победы только после умиротворения Юноны.
В прихотливости богов не было ничего нового: еще в «Илиаде», эпической поэме Гомера, с которого явно брали пример и Невий, и Энний, Гера, греческая Юнона, испытывала лютую ненависть к троянцам (среди которых был и Эней), а Афродита, греческая Венера, поддерживала Трою[362]362
Энний подтверждает такое разделение предпочтений свидетельствами Сервия (Servius Aen. 1.281 – Feeney 1991, 126–127), а Невий лишь его предполагает (ibid., 116–117). Безусловно, сыграло свою роль возросшее политическое и военное вмешательство Рима в Греции и на эллинистическом Востоке в конце III – начале II века. Римская сенаторская элита стремилась выгодно использовать и свои успехи, и отношения с эллинистическим миром (Gruen 1990, 121–123: Goldberg 1995, 56–57).
[Закрыть]. Перенос давней мифологической вражды на более современную рознь между Римом и Карфагеном, безусловно, отражал борьбу конфликтующих сторон во Второй Пунической войне за благорасположение богов. Венера была признана прародительницей римлян именно в этот период (сооружением храма Венеры Эрицинской на Капитолии), а вскоре римляне поверили и во враждебность Юноны, совершив обряды, рекомендованные жрецами, дабы ее умилостивить{1243}. Bellum Poenicum[363]363
«Пуническая война».
[Закрыть] Невий написал, когда Ганнибал все еще находился в Италии, в ответ на религиозную пропаганду карфагенского полководца и его свиты{1244}.[364]364
Feeney (1991, 110 п. 58) также полагает, что Невий писал произведение после завершения Второй Пунической войны.
[Закрыть]
Энний заканчивал «Анналы» в семидесятых годах II столетия, когда отношения Рима с Карфагеном в очередной раз испортились{1245}. Хотя он взялся описать всю историю Рима, в его произведении, как и у Катона, явно присутствовало более заинтересованное и предубежденное отношение к недавним событиям, прежде всего ко Второй Пунической войне{1246}.[365]365
Энний из уважения к Невию очень мало написал о Первой Пунической войне, хотя, по-видимому, был невысокого мнения о его литературных талантах (ibid., 1013–1014).
[Закрыть] Судя по сохранившимся фрагментам, он осуждает карфагенян, называя их «надменными нечестивцами» и обвиняя в том, что они приносят детей в жертву богам{1247}.[366]366
Позже авторы признают одиозность оценок Энния, особенно в преуменьшении несчастий самих римлян (Cicero Pomp. 25).
[Закрыть] Подобно Невию, Энний изображает борьбу Карфагена и Рима в контексте божьего волеизъявления, предсказывая победу римлян по желанию Юпитера{1248}. И в Bellum Poenicum, и в «Анналах» Пунические войны представлены как предначертанная богами борьба за господство, в которой выжить уготовано только одному государству.
Нам трудно судить о том, какое влияние эти идеи оказали на решение римлян до основания разрушить Карфаген. Однако известно, что последняя акция Сципиона Эмилиана перед штурмом имела прямое отношение к миру богов. Прежде чем отправить войска в атаку, Сципион совершил торжественный ритуал evocatio[367]367
Призыв, зазывание, заклинание (лат.).
[Закрыть], призывая богов Карфагена покинуть город и обрести пристанище в Риме{1249}. Эта церемония была полезна по целому ряду причин. Во-первых, римляне оберегали себя от обвинений в святотатстве, поскольку они громили нечестивый город. Одновременно это был и заключительный акт в длительной борьбе за благоволение богов. Ритуал совершался, когда победа была уже близка, и Сципион не сомневался в том, что боги ему симпатизируют. Божественное благословение, пожалованное римлянам, подтверждалось присутствием легионов у стен города, предвкушавших победу. Карфагенские боги перешли на сторону римлян, и римляне могли быть уверены в том, что господство Рима в Центральном и Западном Средиземноморье теперь санкционировано высшими силами.
Глава 15.
ПУНИЧЕСКАЯ ВЕРНОСТЬ
Призрак Карфагена
Глядя на то, как горит цитадель Бирса, Сципион приказал снести стены и срыть валы. Потом, следуя военному обычаю того времени, он отпустил солдат грабить город. Поживой награждались легионеры, проявившие исключительную отвагу на поле боя. Сципион лично распределял золото, серебро, религиозные и другие трофеи. Оружие, осадные машины, военные корабли были сожжены в качестве жертвоприношений Марсу и Минерве. Жителей города римляне отправили на рынки работорговли, за исключением некоторых особо знатных граждан вроде Гасдрубала. Сановников провели по улицам Рима во время триумфа Сципиона и затем позволили им поселиться в различных городах Италии{1250}.[368]368
Другие авторы утверждают, что Сципион полностью уничтожил город (Velleius Paterculus 1.12; Eutropius 4.12; De Vir. Illustr. 58; Zonaras 9.26–30). Однако археологи подтверждают, что город частично сохранился после разрушения (Lancel 1995, 428–430). О Гасдрубале, ставшем Клитомахом, см.: Eutropius 4.14.2; Zonaras 9.30; Orosius 4.23.7. Общее рассмотрение проблемы: Ridley 1986, 140–141.
[Закрыть]
Удалось избежать гибели и рабства и тем немногим карфагенянам, оказавшимся за рубежом. В их числе был философ, тоже Гасдрубал, обосновавшийся в Афинах для более углубленной научной деятельности. Приехав в Грецию, он благоразумно стал называть себя Клитомахом, а в 129 году возглавил престижную Афинскую академию. Клитомах написал 400 трактатов, принесших ему известность и в Риме. Помимо философских трудов, он сочинил знаменитое послание согражданам, убеждая их в том, что во времена бедствий надо находить утешение в философии (странный совет людям, гибнущим от рук римских мародеров и увозимым в рабство){1251}.
После разграбления города римскими легионами сенат отправил в Карфаген комиссию в составе десяти человек: им поручалось принять меры для того, чтобы город всегда оставался необитаемым. Сципион обязывался снести до основания последние руины, и накладывалось страшное проклятие на любого человека, посмевшего сейчас или в будущем поселиться на Бирсе или в Мегаре. Города, все еще сохранявшие верность Карфагену, ожидало полное уничтожение, союзникам Рима выделялись карфагенские земли. Для тех же, кто пожелал занять нейтралитет, назначался правитель, которого ежегодно присылали из Рима{1252}.
Когда в Риме узнали о победе, улицы заполнились толпами ликующих людей. Согласно Аппиану, радость римлян можно было понять, поскольку «ни в какой другой войне противник не угрожал им у самых ворот города и не наводил такого ужаса своим упорством, искусностью, отвагой и вероломством»{1253}. Хотя большинству описаний Пунических войн присуща гиперболизация, данная эмоциональная оценка, возможно, верно отражала настроения римлян. Окончание войн, угрожавших лишить их божественного благоволения и подвергших смертельной опасности у ворот города, действительно могло принести им величайшее облегчение{1254}. Необычайная религиозная и литературная активность римлян в годы войны уже свидетельствует о том огромном значении, которое имели победы и поражения на поле боя и для самооценки, и для видения своего места в мире.
Для одних историков Вторая Пуническая война подтвердила предопределенность римского господства, для других она обозначила начало разложения и упадка. Как считал Полибий, чьи взгляды разделяли многие римские сенаторы (и интеллектуальное сообщество эллинистического мира), всем великим державам уготован неминуемый крах{1255}.[369]369
Walbank (2002, 206-208) отмечает положение Полибия о неминуемом упадке Рима, но, на мой взгляд, преуменьшает значимость этого тезиса в его общей исторической концепции. Упоминание Катоном смешанного государственного устройства Карфагена, возможно, указывает на то, что он тоже занимал такую позицию (Servius Aen. 4.682). По крайней мере эти взгляды позже разделялись в философских кругах стоиков (Champion 2004, 96–97).
[Закрыть] Пока что более или менее разумно организованное государственное устройство Рима предотвращало сползание к гибели, но и ему не избежать участи Карфагена. Согласно политической философии Полибия, причины будущего фиаско надо искать не в появлении альтернатив, а в латентных внутренних конфликтах и иррациональности. К упадку, поражению и гибели Карфаген привели демагогия Баркидов и возросшее влияние популистских политиков. Даже Ганнибал, восхищавший Полибия в роли командующего, был подвержен иррациональности и импульсивности, которыми отмечены последние годы существования Карфагена{1256}. Разрушив Карфаген, римляне начали реализовывать теорию, предрекшую неизбежную погибель собственного города.
Прозорливость политической философии, предсказавшей падение Рима, подтвердилась уже в последние десятилетия II – начале I века, когда Римскую республику поразил политический кризис и вспыхнула кровавая гражданская война. Призрак Карфагена теперь уже не только зловеще напоминал об аналогичной участи Рима, но и служил источником распрей в сенате. В действительности междоусобицу в римском сенате Карфаген породил еще до разрушения города. Римский командующий Гостилий Манцин, раздосадованный недостаточным вниманием к его заслугам в сравнении с почестями, оказанными Сципиону Эмилиану, заказал картину, изображавшую Карфаген и штурм, которым он предводительствовал, водрузив ее на римском Форуме. Мало того, он, стоя рядом с произведением, зазывал зевак и с жаром рассказывал о своих героических деяниях, способствовавших взятию города{1257}.
Но не только славу не могли поделить римские военачальники и сановники. Вокруг плодородных североафриканских земель, ставших римскими владениями, тоже разгорелись споры. Особенно острые разногласия в сенате вызвала земельная реформа, предусматривавшая в том числе и освоение заморских колоний. Она была необходима прежде всего ветеранам войны, обеспечившим победу и оказавшимся в рядах римской бедноты. В 123 году сенатор Гай Семпроний Гракх и его сторонники добились одобрения законопроекта, регулирующего заселение бывших карфагенских территорий и предлагавшего, кроме того, создание колонии на месте разрушенного Карфагена под названием Юнония. Против этого плана выступили консерваторы во главе со Сципионом Эмилианом. Гракх выиграл дебаты, приведя старый аргумент Сципиона Назики: падение Карфагена неизбежно породит в Риме демагогов и тиранов (явный намек на Сципиона Эмилиана). Заслуженный полководец в ответ обвинил реформистов в алчности: они-де хотят нажиться на завоеваниях Рима на Востоке{1258}. Как бы то ни было, обе стороны продемонстрировали: в Риме – разлад, а причина тому – завоевания.
Реформаторы на какое-то время восторжествовали, но вскоре их постигло разочарование: оппоненты настроили общественное мнение против проекта, распространив слухи, будто межевые столбики, отмечавшие границы новой колонии, выдрали волки (вещуны посчитали это недобрым предзнаменованием). Естественно, от реализации проекта пришлось отказаться{1259}.[370]370
В 111 году был принят аграрный закон, касавшийся и земель в Северной Африке, но запрещавший заселение территории бывшего Карфагена.
[Закрыть] Но на этом конфликт между реформаторами и консерваторами не закончился. В 121 году консул Луций Опимий устроил путч, во время которого были убиты и Гракх, и три тысячи его сторонников. С поразительным цинизмом и бесстыдством Опимий распорядился построить на Капитолии храм, посвященный Конкордии (богине Согласия){1260}. Многие восприняли его как мемориал, увековечивший кровавую свару, поразившую Рим. Не случайно кто-то написал на здании: «Безумие раздора соорудило храм Согласия»{1261}.[371]371
Это здание долго будет символизировать зыбкость политического единства в Риме. Храм служил удобным идеологическим подспорьем для талантливых политических деятелей вроде Марка Цицерона. В 63 году в роли консула он использовал храм в качестве платформы для судебного преследования тех, кто участвовал в неудавшейся попытке государственного переворота. Цицерон, дистанцируясь от кровавых событий, предшествовавших сооружению храма, акцентировал внимание на том, что его усилия по упрочению согласия в Риме не привели к кровопролитию, – явный намек на путч Опимия. См.: Clark 2007, 172–176; Cicero Cat. 3.21; Sallust Cat. 9.2. Цицерон также использовал храм и как трибуну для язвительных обвинений Марка Антония в лицемерных заявлениях о согласии после убийства Цезаря (Cicero Phil. 3.31, 5.20).
[Закрыть],[372]372
Перевод по тексту автора. «Злой глас Раздора храм воздвиг Согласию» – в русском издании «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (перевод С. П. Маркиша).
[Закрыть]
После гибели Гракха разногласия между сторонниками заселения карфагенских земель и противниками воссоздания нового Карфагена (даже римского) не прекратились. В 81 году римский полководец Помпеи, желая продемонстрировать свой консерватизм, обновил проклятие, наложенное на Карфаген{1262}. Но в 64 году группа сенаторов снова попыталась провести реформу, предложив продать территорию Карфагена для пополнения бюджета. Однако консерваторы не согласились, сославшись на то, что пренебречь проклятием означало бы совершить святотатство, а возрожденный Карфаген в будущем вновь станет угрожать Риму{1263}.[373]373
Цинизм манипулирования проклятием подтверждается тем, что Цицерон в других случаях отвергал угрозу религиозной кары (Agr. 2.51). Harrison (1984, 96–101) считает, что если даже традиция проклятия действительно существовала, то ее последствия были бы минимальными, как показали решения римского сената в отношении Карфагена. Возрожденный Карфаген – угроза Риму – Cicero Agr. 2.33.90.
[Закрыть]
Хотя позиции Гая Гракха и Сципиона Эмилиана были диаметрально противоположны, они подтверждали один и тот же диагноз: разрушение Карфагена катализировало процесс моральной деградации, подпитываемый алчностью и амбициями правящих классов Рима{1264}. Действительно, у римлян настолько притупилось чувство собственного достоинства, что на это обратил внимание историк Саллюстий. В укор римским вздорящим полководцам он напомнил о самоотверженном поступке братьев-карфагенян Филенов, согласившихся быть заживо похороненными, чтобы отстоять и свою честь, и восточные границы государства{1265}.[374]374
Более поздний христианский автор Орозий (Orosius 4.23) назвал Карфаген «точильным камнем», необходимым для придания остроты римскому величию.
[Закрыть] И через столетие после гибели развалины Карфагена символизировали не могущество Рима, а раздоры и конфликты, подрывавшие его жизнеспособность. Это наконец понял и взялся разрешить болезненную проблему самопровозглашенный спаситель Римской республики.
Римская добродетель, карфагенская порочность
В 31 году, после того как все серьезные претенденты на власть либо умерли, либо были нейтрализованы иными средствами, бразды правления твердо взял в свои руки Октавиан, приемный сын Юлия Цезаря,[375]375
Внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в завещании.
[Закрыть] будущий Август и первый римский император. Август обладал проницательным политическим чутьем, неуемной энергией, властолюбием, но и здравомыслием, достаточным для того, чтобы учесть ошибки приемного отца. Какие-либо подозрения в жажде царской власти (аналогичные слухи стали причиной убийства Юлия Цезаря) новый режим опровергал, акцентируя внимание общественности на неустанной деятельности Августа по восстановлению былого величия, престижа и стабильности Римской республики. Хотя методы его правления были откровенно авторитарными, Август предпочитал говорить о себе как о «первом среди равных» в возрожденном и окрепшем государстве. Режим Августа стремился доказать, что Рим может вновь обрести величие только путем возрождения традиционных римских добродетелей, таких как fides (верность)[376]376
Здесь имеется в виду верность данному слову, обязательству, договоренностям, то есть честность.
[Закрыть] vipietas (благочестие, чувство долга перед богами, государством и семьей){1266}. Эти мотивы стали постоянно присутствовать в творениях художников и писателей, поддерживавших цели и свершения нового режима[377]377
Имеется обильная литература о пропаганде и литературной культуре во времена Августа. См.: Kennedy 1992; White 1991; Galinsky 1996, а также сборники статей Woodman & West (eds.) 1984; APowell (ed.) 1992.
[Закрыть].
Желание доказывать римское величие добродетелями – верностью и чувством долга – проявлялось еще в Пунических войнах, в военных и дипломатических заморских кампаниях. Первый храм Верности в Риме возвел Авл Атилий Калатин, первый римский диктатор, использовавший войска в заморских военных действиях (в 249 году на Сицилии){1267}.[378]378
Атилий также посвятил храм Надежде (Spes).
[Закрыть] Возможно, добродетель честности приобрела особое значение вследствие возросшего понимания того, что этот моральный принцип первым приносится в жертву в «реальной политике», которую теперь должен проводить Рим. Для многих, особенно на греческом Востоке, циничное обхождение с Карфагеном стало наглядным свидетельством углубляющегося диссонанса между словами и делами во внешней политике Рима.
Полибий, прежде чем завершить свою «Историю», излагает мнения (предполагаемые) о разрушении Карфагена, выраженные греками, – одобрительные и неодобрительные. Хотя Полибий таким образом ловко уходит от изложения собственной позиции, подробное описание реакции греков на катастрофу указывает на то, что ему по крайней мере небезразлична эта проблема[379]379
Champion 2004, 163–166, 196 – contra Walbank (1985, 168–173), который в выстраивании мнений усматривает свидетельство проримской настроенности Полибия.
[Закрыть]. Историк особо выделяет ту точку зрения, которая обвиняет римлян в пренебрежении высокими моральными принципами, провозглашенными прежде:
«Другие говорили, что римляне были цивилизованными людьми, и их особенным достоинством, которым они гордились, было то, что они вели войны попросту и благородно, не устраивая ночных набегов и засад, противясь обману и мошенничеству и считая легитимными только прямые и открытые нападения. Однако в данном случае они прибегли к обману и мошенничеству, вносили предложения одно за другим, держа остальные в тайне, пока не лишили город каких-либо надежд на помощь союзников. Это, говорили они, больше похоже на интриги деспота, а не на поступки принципиального государства, каким был Рим, и следовало бы по праву охарактеризовать как нечто, очень напоминающее непорядочность и вероломство»{1268}.
Такое осуждение не могло не задеть римлян. Не случайно вскоре появились апокрифичные сказания, утверждающие приверженность Рима первейшей добродетели – честности и вплетенные в летопись города. Одна из таких былин имеет непосредственное отношение к Карфагену. В двадцатых годах II века получила широкое распространение история о римском полководце Регуле, позорно захваченном во время Первой Пунической войны и вернувшемся в Рим с мирными предложениями карфагенян, которые он призывал сенат отвергнуть. Потом он, исполняя свое обещание, возвратился в Карфаген, где ему отплатили пытками и казнью{1269}.[380]380
Главным показателем вымышленности этой истории является то, что она не упоминается Полибием.
[Закрыть] Контакты Регула с карфагенянами излагаются и в другом варианте. Греко-сицилийский историк Диодор рассказывает о том, как жена Регула, озлобленная длительным тюремным заключением супруга, уморила голодом одного карфагенянина, заперев его в крошечной комнате без еды и питья. Его товарищ спасся только благодаря тому, что домашние рабы, обеспокоенные безумным поведением хозяйки, подняли тревогу. Магистраты, расследовавшие преступление, хотели предать суду всю семью{1270}. Как бы то ни было, сказание о самопожертвовании Регула вошло в канон истории Рима[381]381
Эта история впервые появилась в сочинении римского историка Семпрония Тудитана, писавшего в последние десятилетия II века.
[Закрыть].
Не случайно при Августе легенда о Регуле дополнилась новыми благолепными штрихами. В одной из од поэт Гораций в равной мере воспел и бескомпромиссное подчинение императором британцев и парфян, и самоотверженный призыв Регула к Риму отвергнуть примирение с карфагенянами, несмотря на ужасные последствия для него самого:
Жены стыдливой он поцелуй отверг
И малых деток, ибо лишился прав;
И мужественно взор суровый
В землю вперил, укрепить желая,
Душой нетвердых, членов сената: сам
Им дал совет, не данный дотоль нигде,
Затем – изгнанник беспримерный
Быстро прошел меж друзей печальных.
А что готовил варвар-палач ему,
Он знал, конечно.
Все же раздвинул так
Друзей, что вкруг него стояли,
Всех, что пытались уход замедлить…{1271}.{1272}
Сказание о Регуле – лишь один из примеров отображения Пунических войн в сугубо моралистическом тоне, с акцентом на карфагенской угрозе традиционным римским добродетелям. Писатели, признававшие многие установки режима Августа, хотя и не считавшие себя его твердолобыми верноподданными, отвергали смутность и сомнения прошлого столетия, предпочитая определенность побед и нравственной чистоты. В сущности, они исходили из того, что нет никакой надобности в существовании Карфагена в качестве контрастного фона для подчеркивания величия и добродетельности римлян.
К разряду таких писателей следует отнести Ливия[382]382
Ливий, начавший около 29 года писать историю Рима от основания до его собственной эпохи, конечно, не был раболепным поклонником Августа. Однако он признавал, что самопровозглашенный реставратор Римской республики действительно способен вытянуть Рим из нравственного болота, в котором он потонул. О сложном отношении Ливия к Августу: Mineo 2006, 112–117, 134–135.
[Закрыть]. В принципе нет ничего оригинального в его главной исторической концепции – сопоставлении жизнеспособного раннего Рима с тем, каким он стал в эпоху упадка{1273}. В исследовании легко обнаруживается знакомый акцент на тлетворном влиянии роскоши на склад характера римлян{1274}. Ливия отличает от Полибия и других предшественников то, что он рассматривает упадок Рима после разрушения Карфагена как явление временное и преодолимое. Согласно Ливию, Рим уже пережил три исторических цикла с пиками и падениями. Правление Августа означает начало четвертого цикла и возможность для Рима вновь стать великим. По программе Ливия, Август посредством в том числе и непопулярных мер должен остановить процесс упадка и вознести Рим до новых высот, возродив животворные добродетели fides и pietas{1275}.[383]383
В действительности Ливий связывает начало упадка с тем временем, когда Марцелл наводнил Рим богатствами, награбленными в Сиракузах в 212 году.
[Закрыть]
В повествовании Ливия Карфаген играет более значительную роль, нежели просто главного соперника Рима в борьбе за мировое господство{1276}. Помимо воспроизведения тезиса Полибия о том, что падение Карфагена вызвано чрезмерным влиянием несведущих граждан на власть, Ливий представляет североафриканский город в качестве исключительного морального антипода Риму. Если Полибий считает, что Карфаген потерял величие, то, по мнению Ливия, нравственно неполноценный Карфаген никогда его и не имел. На протяжении всего повествования о Пунических войнах Ливий постоянно противопоставляет карфагенской порочности римскую добродетельность.
Хотя у Полибия тоже встречаются унизительные замечания о нравах карфагенян, нападки Ливия обычно более едкие и язвительные. В знаменитом описании личности великого карфагенского полководца Ганнибала историк, воздав вначале хвалу его физическим данным и военной искушенности, сводит на нет благоприятное первоначальное впечатление уничижительными оценками нравственных качеств: «Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пунийское коварство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь»{1277}.{1278} Согласно Ливию, пороками Ганнибал затмевал даже соотечественников. На протяжении всего повествования Ливий заостряет внимание на вероломстве карфагенского полководца. Чего стоит лишь один эпизод о том, как Ганнибал повелевает заковать в кандалы римских воинов, которым была обещана свобода его же нумидийским начальником конницы. Этот поступок историк язвительно называет актом проявления «истинно пунийского благородства»{1279}.[384]384
У автора – reverence. В русском переводе труда Ливия – «пунийская честность». – Тит Ливий. История Рима от основания города (ХХН.6.12).
[Закрыть] Хотя и не он изобрел ставшее ходовым римское выражение «пунийская верность», саркастически именующее коварство и вероломство, именно благодаря Ливию этот эпитет прочно укрепился в менталитете римлян. Он даже позволил себе вложить это выражение в уста самого Ганнибала, придумав его признание, будто у римского сената нет никаких оснований для того, чтобы доверять мирным переговорам с карфагенянами{1280}.[385]385
Выражение fides Punica, «пуническая верность», впервые появилось в сохранившихся латинских текстах у Саллюстия (Sallust Jug. 108.3). Однако, как мы уже видели, пуническое вероломство давно стало общеупотребительным клише в ранней греческой и латинской литературе.
[Закрыть][386]386
Ганнибал сказал Сципиону во время переговоров, состоявшихся по его просьбе перед сражением при Заме: «Не отрицаю: мы только что не вполне искренне просили о мире, не вполне честно ждали его, потому нет у вас веры в пунийскую честность». – Тит Ливий. История Рима от основания города (XXX.30.27).
[Закрыть]
Нельзя забывать о том, что обвинения в непорядочности, вероломстве и алчности проистекают из общего замысла Ливия оправдать агрессию Рима и доказать римскую добродетельность. Вопреки его утверждениям римляне были не менее вероломны, чем карфагеняне во время Второй Пунической войны, и Ливий обвинениями Ганнибала просто отвлекает внимание от бесчестности римлян. Ливий упорно изображает осаду и взятие карфагенянами города Сагунта (послужило поводом для развязывания Второй Пунической войны) как пример вероломства Ганнибала и его соотечественников. В то же время он не находит ничего плохого в том, что римский сенат не помог своему закадычному союзнику{1281}.
Таким же образом можно расценить и обвинения карфагенян в нечестивости. Утверждения Ливия о святотатстве карфагенян не имеют никакого отношения к реальной практике карфагенских религиозных верований и ритуалов, а отражают скорее его желание поддержать римские притязания на божественное благоволение, осуществлению которых воспрепятствовали военные успехи Ганнибала и его пропаганда. Ливий попытался разрешить эту деликатную проблему, объяснив первоначальные победы Ганнибала его временным благочестием и неспособностью римлян адекватно почитать своих богов. Заявив в самом начале описания войны о неправедности миссии Ганнибала, Ливий дал понять, что любые успехи карфагенян будут иметь временный характер. Естественно, поражение Карфагена Ливий объяснил не чем иным, как божественной карой{1282}. Согласно догме Ливия, печальная участь Карфагена подтверждает превосходство добродетелей римлян, благоволение к ним богов и потенциал для обретения нового величия.




