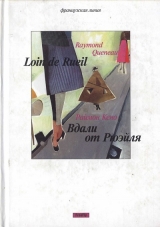
Текст книги "Вдали от Рюэйля"
Автор книги: Раймон Кено
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Жак пожал плечами.
Официант попался лысый. Было жарко, женщинам удавалось пахнуть сильнее, чем картошка фри. Ужинающие демонстрировали радостное настроение. Пришел какой-то патлатый старикан и, услужливо улыбаясь, запиликал на скрипке.
– Как меня достает этот олух, – сказал Жак.
И пожал плечами.
Пиликальщик подсовывал под нос ужинающим свою плошку для милостыни с видом униженного и все же гордого говнюка.
– Ну до чего ж тошнотный, – сказал Жак, выдав ему десять су.
Он вздохнул.
– Доминика, – сказал он, – ах да. Доминика. Что за жизнь.
– Твоя подруга детства вредничает?
– Говорит, что амурничанье ее не интересует.
– Ну и насмешила же она меня.
– А меня нет. Мне досадно.
– Это пройдет.
– Не уверен.
– Конечно пройдет.
– Ты думаешь?
– Да.
Он задумался. Затем в третий раз пожал плечами и оплатил счет.
После ресторана они решили немного пройтись. Жак, похоже, всерьез задумался, Мартина оставила его в покое.
– А может, съездить в Гавр, – вдруг сказал Жак.
– Я вижу, куда ты клонишь, – сказала Мартина. – Нет, спасибо. Без меня.
Они вышли на какую-то длинную улицу, одну из тех, где консьержей выставляют наружу проветриться вместе с детьми, снующими во все стороны. Они встречали парочки, одни – завязавшиеся недавно, другие – не такие свежие, уже распустившиеся[158].
Мартина взяла Жака под руку и прижалась к нему.
– Нет, – сказал Жак, – я все-таки поеду в Гавр. А ты не хочешь?
Поезд как раз должен был отходить.
– Отправь мне открытку с обратным адресом, – сказала Мартина. – Я тебе пришлю твой чемодан с тряпками и шмотками.
– Спасибо. Ты хорошая.
– Во-во, уж назвал бы просто дурой.
Пассажиров было не очень много. Найти свободное место оказалось нетрудно.
– Я рад, что мы с тобой познакомились, – сказал Жак. – А за меня не переживай. Впрочем, я ни о чем не жалею.
– А я немного жалею, что ты уезжаешь.
Они обнялись; засвистел свисток проводника, и она вышла из вагона. Экспресс тронулся, медленно. Жак помахал рукой, Мартина помахала в ответ, после чего потянулись стрелочные посты и железнодорожные приспособления. Жак сел.
Напротив него вжимались друг в друга молодой господин и молодая дама, оба – вида неимоверно буржуазного. Чтобы занять время, они предавались чтению и манипулировали прессой (периодической).
В районе Сотвиля[159] гражданин поднял голову и сказал:
– Вот и в самом деле, правильно говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком встретится.
Жак бросил на него взгляд, напрочь лишенный приторной любезности. Гражданин протянул руку:
– Люка! Ты меня не узнал? Люка из Рюэйля. Ты ведь Жак Сердоболь.
– Ну привет, – сказал Жак, пожимая пятерню.
Люка представил ему свою жену.
– Мы с Жаком вместе сдавали на бакалавра, – стал объяснять он. – Мы учились в «Пастере» в Нейи, прекрасный лицей, ничего не скажешь. Помнишь 58-й километр, старая железная дорога на Сен-Жермен. Какие шутки мы тогда вытворяли! Помнишь контролера с большими усами? Он от нас чуть с ума не сошел. Помнишь, как мы ему за воротник сыпали волоски от шиповника, а еще как мы раздували чихательный порошок в лицо пассажирам, которые до самой Этуаль не могли прочихаться, сами-то мы выходили раньше, как всегда. Ах, черт возьми, приятно увидеть старого дружбана. Что ты поделываешь с тех пор? Я – с автомобилями. Люблю машины. Я их покупаю, продаю, перекупаю, перепродаю. Красивая тачка – это моя жизнь. А ты, ты-то чем занимаешься?
– Я инженер-химик.
– Я так и знал, – сказал Люка. – Большое предприятие?
– Я руковожу исследовательской лабораторией. Занимаюсь ветеринарными и паразитарными вопросами. Например, вшами.
– Ой! Фу! Фи! – сказала мадам Люка.
– Это поразительно интересное животное, – сказал Жак. – Впрочем, существует даже пословица: «Вошь – не слон, не погладишь»[160].
– Все разыгрываешь, – сказал Люка.
– Но самое классное – это фтириус пубис.
– А это что такое? – спросила мадам Люка.
– Мандавошка, – сказал Жак.
– О-о! – сказала мадам Люка.
– Как ты ее назвал?
– Фтириус пубис.
– Смешно, смешно. Надо рассказать приятелям.
– Удачная идея.
– А как твои родители?
– Спасибо, хорошо. У отца по-прежнему трикотажное дело. У мамы ревматизм, но не очень сильный.
– Ты помнишь, как мы устраивали партии в покер у тебя дома и они нас выгоняли?
– Для родителей главное – нравственность.
– А поэт? Помнишь поэта?
– Де Цикаду? Еще бы.
– Он еще жив?
– Думаю, да.
– Как он нас удивлял своей накидкой и гетрами.
– Как-то в туалете, – сказал Жак, – я нашел клочок газеты. В ней, похоже, о нем довольно лестно отзывались.
– Тьфу! Вся эта поэзия – одно дурилово. А помнишь историю его любви? До чего же это нас веселило. Помнишь? Жена его бросила ради женщины! До нас это долго не доходило. Она была парикмахершей. Де Цикада ездил в Сюрен и торчал перед ее лавкой, прячась за дерево. А когда ее замечал, свою неверную супругу, то незаметно на цыпочках уходил. Помнишь, Сердоболь? Мы не раз за ним подсматривали.
– Да, – сказал Жак.
– А его приятель герборист? Его звали Предлаже, да?
– Да, Предлаже, – сказал Жак.
– Он величал себя президентом Линнейского общества Западного Предместья. Он еще интересовался насекомыми, как это, энтомолог, да? Однажды мы раскрасили голубой акварелью вошь и принесли ее в коробке, как он обрадовался, этот Предлаже, он таких никогда не видел, как завопил «новый вид!» и дал нам по пятьдесят сантимов каждому. Мы их скурили, его двадцать су.
Мадам Люка встала, чтобы выйти в клозет, и, покачиваясь из-за большой скорости скорого поезда, вышла из купе. Сердоболь и Люка остались одни. Люка понизил голос:
– Слушай, а дочки Маньена, помнишь?
– Дочки Маньена? – спросил Жак.
– Ну да. Ты что, забыл? Камилла и Доминика.
– Камилла? Доминика? Ах да.
– Ну, наконец-то. Меня бы удивило, что ты их не помнишь.
– Камилла. Доминика. Ну конечно же, конечно же.
– Знаешь, что с ними стало? «Нет». Так вот, представь себе.
Он еще понизил голос:
– Два или три месяца назад я познакомился с одним типом, у которого несколько своих ремонтных мастерских, с типом по фамилии Морсом. Он пригласил меня поужинать. Мы очутились в баре «Ю.Т. А.», знаешь, где это?
– Нет.
– Он представил мне свою жену, и угадай, кто же была эта мадам Морсом!
– Не имею ни малейшего представления.
– Мы только что о ней говорили.
– Камилла?
– Да нет же! Доминика!
– Не может быть. Доминика?
– Доминика. Именно она.
– И что?
– Она стала красивой бабой, ну знаешь, фигура, надушена и все дела. А сиськи, я тебе скажу, так и торчат, а ноги, я их украдкой рассматривал, при ее довольно короткой юбчонке, чего я только там не увидел, короче, до белья.
– Ну и ну, – сказал Жак.
– Но это когда я ее видел в первый раз, – продолжил Люка, еще больше понижая голос. – Ты же понимаешь, что я не мог на этом остановиться.
– Да?
– Да. Я сразу же понял, что такие экземпляры дают.
– И что?
– Так и действительно: дала.
III
IX
С вершины холма они разглядели городишко Сан-Кулебра-дель-Порко[161], который тянулся вдоль берега, порт с двумя суденышками и толпу, циркулирующую по набережным; отсюда было видно хорошо. Перед спуском они ненадолго остановились. Проводники сели и замолкли под своими широкими шляпами. Жак и Рубядзян спрыгнули с лошадей и закурили по сигарете.
Они немного поговорили о том, что собирались делать в Сан-Кулебре-дель-Порко.
Они далеко отбросили окурки и вновь тронулись в путь, сопровождаемые своей аппаратурой, конвоируемой без особого рвения. Время от времени копыта лошадей скользили из-за крутого наклона тропы. Солнце поднималось, набухая и распаляясь. Пыли становилось все больше и больше.
Они подъехали к городу со стороны предместий, как это обычно и происходит. Дети кричали им вслед, и камни пролетали рядом с лицами путешественников. Всадники проехали конечную трамвайную остановку и сам трамвай, в который усаживались негры, китайцы, индейцы. Уатман[162] сидел на корточках и что-то жевал.
Жак и Рубядзян намеревались переночевать у консула, господина Сталя, господина Оливейро Сталя, у консула, представлявшего здесь все европейские, азиатские, африканские, океанические и большую часть американских стран, у консула, жившего в двухэтажном и обалконенном доме, где, несмотря на вентиляторы, было так же жарко, как и везде.
Их колонна из шести лошадиных сил затормозила у консульского жилища. Жак и Рубядзян вошли. У обоих были солидные бороды, поскольку они провели шесть месяцев с индейцами борхерос, снимая о них документальный фильм для продюсерской компании Й.К.Л.М. Служанка-мулатка восхищенно и несколько удивленно уставилась на бороды и с помощью соответствующей жестикуляции объяснила им, что патрон, перепивший прошлой ночью, еще спит. Она провела их в комнату, где очкастый писарь потел над пристегивающимся крахмальным воротничком и грудой писанины, подлежащей официальному штемпелированию. Заговорить с ними он не соизволил.
Проводники расселись в тени. Жак вышел, чтобы отдать им распоряжение о разгрузке аппаратуры. Они медленно, но уважительно встали. После чего снова сели. Жак вернулся в кабинет. Рубядзян успел снять сапоги и теперь предавался самосозерцанию, выискивая яйца (между пальцами на ногах), которые могли отложить насекомые. Жак предложил ему свою помощь, которую тот отверг; тогда по глоточку рома? Тот согласился. Жак также сделал большой и долгий глоток. Убрал фляжку в задний карман.
– Ну и скучища же здесь, – сказал Рубядзян на английском языке.
После чего натянул сапоги.
– И потом, что это за манера принимать гостей, – добавил он на том же наречии.
Жак пожал плечами. Сел и начал набивать трубку. Рубядзян принялся насвистывать зажигательный мотив. Бюрократ посмотрел на него с презрением. Затем вновь уткнулся в консульскую писанину.
– Нужно быть полным извращенцем, чтобы жить в такой дыре, – сказал Рубядзян, используя преднамеренные англицизмы.
Он незаметно кивнул в сторону чиновника:
– Думаете, он способен прочухать инглиш?
Жак пожал плечами. Чиновник промокнул официально заверенный документ массивным бюваром.
– Lo comprendo mejor que le hablo, – said the zombi in english[163].
Рубядзян вытащил пачку сигарет и протянул ему одну.
– Gracias señor, – el bárbaro respondió[164].
После чего оскалил зубы и чиркнул по ним спичкой. Та зажглась, и он запалил свою кэмелину.
– Неплохо, – сказал Рубядзян. – Надо взять на заметку.
– Пить будете?
Жак протянул ему флягу с ромом. Обратно получил ее полупустой.
– Итак, – сказал Рубядзян.
– Я – el señor Estábamos[165], – said the zombi. – Вы еще не видели господина Сталя? «Нет». Нет? En verdad[166] вы увидите редкостного carejo (мудака).
В открывшуюся дверь вошел Сталь.
– Господа, – сказал он, низко кланяясь.
И пошел навстречу, протягивая руку кинематографическим исследователям.
– Жак Сердоболь.
Но спутник Жака представиться не успел: рухнул на пол, а из открытого рта у него пошла пена. Он засучил ногами, задергался, закричал. Сколько пены! Как будто наелся мыла, хорошего фокейского[167] мыла.
Трое присутствующих смотрят на него.
– Малярия ему впрок не пошла, – сказал Жак.
– Это то, что называют «высокой болезнью»[168]? – preguntó Estábamos[169].
– Точно.
Жаку пришлось заняться товарищем, его выхаживать; аппаратурой, ее раскладывать; хозяином, развлекать его беседой; самим собой, устраивать себе сиесту.
С наступлением сумерек Рубядзян, по-прежнему лежащий пластом, так и не почувствовал в себе настроения выходить. Сталь повел Жака ужинать в хороший местный ресторан «Король Франции», основанный в 1692 году дворянским бастардом, чьи различным образом скрещенные потомки как раз и составляли местную элиту кулинарных деятелей. Приличные обитатели Сан-Кулебра-дель-Порко особенно ценили это заведение, поскольку удобства, устроенные прямо в зале и отделенные от него всего лишь половинчатой створкой, позволяли пользователям продолжать разговор, начатый за столом, что представляло определенные выгоды во время деловых ужинов, ну а дела в Сан-Кулебра-дель-Порко делались вовсю.
Жак и консул сели за маленький столик и заказали официанту блюда местной кухни; алоэ под луковым соусом, канарейка в тесте по-гвиански, ласточкины гнезда[170], томный щавель, пирожные и имбирь, мокко в янтарных чашечках. Вина: токайское, калифорнийское бургундское, никарагуанский марк, сенегальская кислятина[171]. После всего этого пиршества, в течение которого речь шла лишь о незначительных мимолетностях, они перебрались в «Saint James Infirmary[172] Bar». Там клиентура была разнообразная, но сплошь кошелькастая; присутствовали китайцы, головорезы, коммивояжеры; пили в основном уиски. Были и женщины. Был и пианист, игравший в чикагском стиле, вместе с трубачом, демонстрировавшим весьма неплохой уровень исполнения, но в манере слишком уж армстронговской, чтобы ее можно было назвать оригинальной.
Вентиляторы работали с полной отдачей. Консул и Жак сели на прохладную плетеную банкетку, официант в белом чесучовом пиджаке подошел к ним и принял заказ. В результате им принесли джин-физз[173]. На площадке танцевало пять-шесть пар. Некоторые женщины были довольно красивы.
После нескольких глотков у Сталя пробудился интерес к личности собеседника. До этого он рассказывал лишь о том, что касалось его самого, его, консула всех стран в Сан-Кулебра-дель-Порко. Он успел поведать гостю о различных стадиях своего сифилиса, своей малярии, своих гепатических колик, своей тоски, своего алкоголизма, своего одиночества, своей желтой лихорадки, своей гонореи, своего отчаяния и теперь вопрошал сам. Он спросил, что станет итогом этой экспедиции. Фильм. Несомненно. Документалка о борхерос, индейцах необычайно диких. И как же прошло путешествие. Бог ты мой, обычные заморочки. Не говоря уже о крокодилах, тиграх и ягуарах, были комары, желтая лихорадка, черная рвота, стрелы с курарой, не говоря уже об отсутствии женщин, которое создает, конечно, благоприятный климат для борьбы с венерическими заболеваниями, но все же, не говоря уже об отсутствии женщин. Сталь это понимал. Сейчас пригласим сюда двух. Он подозвал официанта в белом чесучовом пиджаке, сообщил ему о своем спешном пожелании заполучить еще два напитка и попросил его попросить двух приятных и одиноких особ присесть за их столик. Подошли две девушки, высокие, на редкость хорошо сложенные, в платьях на голу кожу. Они сели, понадобились дополнительные напитки. Так как оркестр опять взялся за дело, они сказали, может, потанцуем, но кавалеров это не особенно интересовало, и девушки принялись курить и болтать меж собой.
Сталь возобновил прерванный разговор. Стало быть (стало быть), жить в такой затерянной дыре, как эта, невозможно, однако он в ней все-таки жил. А почему? Из-за чего? Он был здесь, потому что сам этого захотел. Захотел, вот и все объяснение. Он был здесь потому что. Короче, история печальная с самого начала. История, связанная с женщиной. Жить в такой затерянной дыре, как эта, невозможно, сказал Сталь, однако он в ней все-таки живет. Можно спросить почему. Смотришь на всех этих типов, европейцев, которые живут в Сан-Кулебра-дель-Порко, и спрашиваешь себя, как они могут жить в Сан-Кулебра-дель-Порко с ее лихорадками, комарами, татуированным солнцем, в ужасной скуке этой тропической, влажной и суррогатной жизни. Он, Сталь, здесь, потому что сам этого захотел, ну, в общем, захотел, вот и все объяснение, и потому что, вот еще одно объяснение. Жить в эдакой стране вот так вот без причины все же невозможно, а его причина это женщина. А вы? Можете даже не отвечать. Все всегда из-за этого. Всегда одна и та же причина, всегда один и тот же повод. Какая-нибудь печальная история. Какая-нибудь история, связанная с женщиной. Какая-нибудь печальная история, связанная с женщиной. Ах эти женщины, мсье.
Да уж, приехать в Сан-Кулебра-дель-Порко, чтобы выслушивать здесь все это.
– Вы ведь тоже, не правда ли, ну признайтесь.
– Точно. Я – тоже.
– Вас обманула женщина?
– Нет. Я ее любил, а она меня нет.
– О-ля-ля, что я и говорил. Что за жизнь. Всегда одна и та же история. Одна и та же тягомотина. А вас не утомляет все время страдать из-за женщин?
– Еще как, – вздохнул Жак.
– Как все это банально.
– А женщины, – спросил Жак, – женщины, которые живут здесь, они здесь тоже из-за каких-нибудь мужчин?
– Мне по фигу, – сказал Сталь.
– Потанцуем? – спросила одна из приглашенных за стол.
– Я – нет, – сказал Сталь.
Жак встал. Девушка, которую он выбрал, ему улыбнулась, и они упорхнули, скользя по лакированной танцплощадке.
– Я слышала ваш разговор со Сталем, – сказала цыпочка. – Старый мудак.
– Это почему же?
– Любовь это прекрасно, даже если от нее страдаешь.
– Вы действительно так думаете?
– Вовсе нет. Я сказала это только для того, чтобы сказать, что Сталь – старый мудак.
– Понятно.
– Нет, кроме шуток, скажите мне, ну что может быть для мужчин интереснее историй, связанных с женщинами, а для женщин – историй, связанных с мужчинами?
– Не знаю.
– А что вы здесь делаете?
– Я только что провел полгода в диких лесах, где снимал борхеросов, индейцев, как вам конечно же известно, необычайно диких.
– Нужно быть полным извращенцем, чтобы выделывать подобные штуки.
– Точно. Или на душе должно быть тяжело.
– Из-за женщины.
– Точно. Сталь считает это банальным. А я с этим ничего не могу поделать.
– Ты ее любил?
– Вроде того.
– Оказалась злюкой? Вертихвосткой? Стервой?
– Я бы не сказал.
– Изменила? Оскорбила? Бросила?
– Я уже и сам не понимаю.
– Бедный мальчик.
Ногтем указательного пальца она щекочет ему ладонь. Музыка закончилась. Они вернулись за стол.
– Ну как, – спросил Сталь. – Жизнь бурлит?
– Спасибо, – сказал Жак.
Сталь и его подруга возобновили серьезную дискуссию по поводу наркотиков. Вторая пара вернулась к своим сентиментальностям.
– Значит, это была сильная любовь.
– Похоже на то, – сказал Жак. – Но только с моей стороны.
– Понятно.
– Подруга детства.
– Даже так?
– Даже так.
Она вздохнула:
– Что тут поделаешь? Поезжай хоть в Сан-Кулебра-дель-Порко, все равно ничего не изменишь.
– Что я и констатирую.
Драммер[174] выдал заключительную барабанную дробь, и воцарилась тишина. Управляющий объявил о начале шоу. Вновь заиграла музыка, на танцевальную площадку выбежала дюжина темнокожих и представительных герлз[175], чьи мускулистые ягодицы сразу же образовали правильный двенадцатиугольник. Герлз были одеты в штормовки бретонских рыбаков, что в этом заведении и в этих краях, естессно, казалось невероятной экзотикой. Когда их дерганье замедлилось, появилась тринадцатая танцовщица, она вынесла плетеную клетку и поставила ее на столик ad hoc[176]. Затем на сцену вышел пожилой господин: красный жилет, монокль в глазу и трость под мышкой.
Жак взирал на все это пустым взглядом.
– Ты все еще думаешь о ней? – спрашептала его поверенная.
– О ней? Да.
– Как ее звали?
– Доминика.
– Красивое имя.
– А тебя как зовут?
– Люлю Думер.
Зазвучала музыка, означающая пора заткнуться. Пожилой господин открыл плетеную клетку и вытащил оттуда внушительных размеров омара, который начал с трудом перебирать по гладкому полу своими многочисленными неловкими ножками. Очередная оркестровая трель объявила выход нового персонажа, а именно индейца борхерос, одетого почему-то моряком, ну а относительно всего остального, неимоверно варварского вида. После нескольких очень зрелищных прыжков вправо и влево борхерос бросился к животному, ловко его схватил, отломал ему кончик хвоста и принялся пережевывать добычу с помощью на редкость развитого зубного аппарата. На следующем этапе он сожрал клешню. Жертва продолжала с трудом перебирать по гладкому полу своими многочисленными неловкими ножками.
– Он съест его целиком, – сказала Люлю Думер.
– Ты уже видела этот номер?
– Нет, это в первый раз.
– Любопытно, не правда ли? – сказал Сталь.
Оркестр заиграл классику. Борхерос кусанул еще разок, вскоре от ракообразного осталась одна голова. Голова лежала на столе и, несмотря на увечность, шевелила обгрызенными усиками.
– Несколько затянуто, – сказала Люлю Думер, – уже надоело.
– Самое трудное уже сделано, – сказал Сталь.
И действительно, минут через десять борхерос покончил со всем остальным, включая панцирь. Зал зааплодировал.
– В конце концов, едят же живьем устриц, – сказал Сталь.
– И все же, – сказала Люлю Думер, – стоило сюда приезжать, чтобы увидеть такое. Ну и духотища.
– Разумеется, – сказал Жак, – при такой температуре достаточно, чтобы омар чуть-чуть залежался, и тип запросто подохнет в своей же блевотине.
После экзита[177] герлз оркестр заиграл снова, и Жак опять вывел Люлю Думер на танцплощадку.
– Так ты не против? – спрашивает Жак.
– Нет. К тому же ты мне и так понравился.
Они немного покружили.
– Ты из Парижа? – спрашивает Люлю Думер.
– Почти. Из пригорода. Как далеко кажется отсюда пригород Парижа.
– Из какого пригорода?
– Из западного. Из Рюэйля.
– Правда? Я была в Рюэйле. Мальмезон. Лес Сен-Кукуфа.
– Забавно. Ты была в Рюэйле.
– Забавно.
Они немного покружили.
– Мы могли запросто встретиться в Рюэйле, – говорит Люлю Думер. – Ты когда там был?
Жак высчитывает.
– Мы могли запросто встретиться, – говорит Люлю Думер.
Они немного покружили.
– А знаешь, – говорит Люлю Думер, – может быть, в Рюэйле ты встречал де Цикаду? Поэта.
– Конечно. Еще бы. Де Цикаду. А как же. Поэта.
– Еще тот тип, а?
– Особенно для Рюэйля. Чтобы поразить рюэйльских обитателей, вовсе не обязательно быть таким уж выдающимся.
– Говорят, он великий поэт.
– Непризнанный. Но бывает, что все меняется.
– И великий больной, ко всему прочему. Ты когда-нибудь видел его во время приступа? Ну и зрелище!
– Да. Но я его почти вылечил. Когда был инженером-ветеринаром.
– Тем лучше для него.
– А моих родителей ты не знала? Сердоболь. Трикотажное производство. «Нет». Ты родилась в Рюэйле? «Нет». А что ты делала в Рюэйле?
– Домработницей была. С тех пор кое-чего достигла. Сам видишь.
– Но все равно: для такой славной девушки, как ты, Сан-Кулебра-дель-Порко – место далеко не идеальное.
– Выехала-то я правильно, но немного запуталась по дороге.
– Это дело надо исправить.
– Не все так просто.
– Что бы ты сказала, если бы очутилась на моем месте.
– Но ты ведь, похоже, и сам еще ничего не исправил.
– Конечно нет.
Оркестр закончил играть. Теперь за столом Сталя уже сидит целая компания: мужчина в красном жилете и его индеец борхерос, а с другой стороны Рубядзян, оклемавшийся после приступа и уже накачавшийся уиски. Треп крепчает. Жак и Люлю Думер садятся.
– А вот у вас вши были? – спрашивают у них.
А они и отвечают «Естессно».
– Я их даже разводил, – говорит Жак. – Я хотел вывести породу очень больших, очень жирных и очень сильных вшей. Перед тем как работать в кино, я занимался зоотехникой.
– Как интересно, – говорит мужчина в красном жилете, наклоняясь к Жаку.
– Очень любопытно, – добавляет индеец борхерос, который говорит по-французски так же хорошо, как папаша и мамаша Берлиц[178], вместе взятые.
Жак вглядывается в лица двух чудиков.
– Ну, так что с этими гигантскими вшами?
Это переспросил мужчина в красном жилете.
– Времени не хватило, – говорит Жак.
Индеец борхерос делает такое же разочарованное выражение, как и его хозяин.
– Я все бросил и ушел с труппой бродячих комедиантов, – говорит Жак.
– Из-за женщины, – говорит Сталь.
– Естессно.
– Из-за той, о которой ты только что рассказывал? – спрашивает Люлю Думер.
– Нет. Из-за ее сестры.
– Еще одна подруга детства?
– Точно.
Рубядзян смотрит на Люлю Думер и находит, что она очень даже мила.
– Совсем как у меня, – говорит мужчина в красном жилете. – Десять лет я был викарием в Сен-Брен-ле-Коломбен, и вот однажды мимо проезжал цирк. Я влюбился в наездницу. Чтобы увидеть эту женщину, я переоделся в светскую одежду, пришел на спектакль и уселся в первом ряду. Естественно, все меня узнали.
– Для этого следовало быть редкостным нахалом, – сказал индеец борхерос.
Индеец борхерос уже сто раз слышал эту историю, еще в ту пору, когда работал официантом в «Пети Кардиналь», но сия реплика была как бы частью совместного номера, а посему он выдавал ее так же хорошо в Сан-Кулебра-дель-Порко, как в Макао[179], Сомюре[180] или Альжирзирасе[181].
Жак даже не вздрогнул. Для него подобные встречи совсем не желательны. Он склонился к Рубядзяну и шепнул ему на ухо:
– Если ты не прекратишь так смотреть на эту девушку, я набью тебе рожу.
Мужчина в красном жилете продолжал:
– Через две недели я нагнал цирк и устроился в нем клоуном. У меня оказался талант клоуна, а я об этом даже и не подозревал. Что до наездницы, до чего ж красивая была, стерва. Я не жалею о том, что сделал.
Жак вновь склоняется к Рубядзяну.
– Слушай-ка, ты, извращенец, – выдает он ему по-английски, – if you take one more peak at my doll I break your neck[182].
Но Рубядзян, уже поднявший себе настроение вискарем, эту угрозу всерьез не воспринимает. Он продолжает пялиться на Люлю Думер.
– Как пришел к вам этот талант? – спрашивает Сталь у индейца борхерос.
И тут Рубядзян получает…
– Еще когда я был официантом, – отвечает индеец борхерос, – то поражал посетителей…
…прямо в пятак…
– …тем, что пережевывал ножки омаров, ракушки улиток и даже маренских устриц. Но вот раскусить португальские так ни разу и не смог.
…сокрушительный…
– А однажды один очень образованный молодой человек, который часто приходил к нам обедать, даже сравнил меня с вэгэ[183], ну, с поэтом, знаете.
…удар.
Рубядзян падает на пол. Его поднимают. Ему промакивают шнобель. И он начинает распускать нюни.
Былиж они два старых приятеля прожилиж шесть месяцев в диких лесах среди индейцев борхерос исключительно диких и вот тебе на из-за женщины конец старой дружбе, былиж два старых приятеля прожилиж шесть месяцев вместе в диких лесах среди…
– Смени пластинку, – сказала Люлю Думер. – А потом, мне эта музыка не нравится.
– Сваливаем отсюда? – предложил Жак.
Они ушли вместе.
X
Могильщики принялись сеять землей поверх опущенного гроба, снег падал туда же и даже на самое дно; крышка покрывалась белыми пятнами. Де Цикада всхлипывает в последний раз, Сердоболь и Предлаже отрывают его от этого зрелища, де Цикада утирает слезы, они медленно выходят с кладбища. Их окутывает снежный вихрь, машину Сердоболя уже полностью замело. Неподалеку от них Валерианов холм морозит свой горб в свинцовом небе. Не слышно ни звука. Трое мужчин садятся в машину Сердоболя.
– Ну и погода, – говорит Предлаже.
– Сегодняшний вечер вы проведете у меня, – говорит Сердоболь де Цикаде. – Вы останетесь у нас ужинать.
– Соглашаюсь охотно, – говорит де Цикада. – У вас, Сердоболь, чувствительная душа, хотя вы и не поэт.
– Я – ваш друг, де Цикада, – говорит Сердоболь.
– У меня такая тоска, – говорит де Цикада. – Уверяю вас, сейчас мне совсем не хочется писать стихи. Ах, черт возьми, только подумать, что она будет гнить как падаль, от этого у меня сердце разрывается. А всем остальным до этого нет никакого дела, черт возьми, черт возьми, черт возьми.
– Не переживайте так, де Цикада, – говорит Сердоболь.
Он наконец завел машину, «дворники» начали медленно счищать снежные хлопья, машина тихо тронулась.
– Легко сказать: не переживайте. Но ведь ничего уже не поделаешь. Какой ужас!
– Увы, – сказал Предлаже, не раз уже тронутый траурной скорбью.
– Уверяю вас, когда я вернусь домой, мне совсем не захочется писать стихи. Что за жизнь, что за жизнь.
– Это забудется, – сказал Предлаже.
Де Цикада повернулся к нему:
– Вы так думаете?
– Увы, – сказал Предлаже.
Доехав до Пастушьей площади, они повернули налево и поехали вверх по авеню Жоржа Клемансо[184].
– И потом, – сказал Сердоболь, – она уже столько лет не является вашей женой. Это должно вас немного утешить.
– Именно это я никак не могу переварить.
Они замолчали до самой Шаровой площади. Еще немного, и они будут в Рюэйле.
– Только подумать, – воскликнул де Цикада, – только подумать, что черви уже начали ее жрать!
– Не надо преувеличивать, – сказал Предлаже.
– То есть?
– Мадам де Цикаду предали земле в зимнее время и в герметично закрытом гробу, а посему можно с максимальной вероятностью утверждать, что ни одна личинка насекомого не успеет вылупиться на ее теле, которое будет разлагаться медленно в соответствии с законами естественной ферментации и в итоге превратится таким образом в прах, так и не став жертвой тех, кого мы, энтомологи, называем образно и почти что поэтически работниками смерти, а именно скромных членистых, весьма полезное призвание коих состоит в том, чтобы на наших широтах уничтожать остающиеся на свежем воздухе трупы, преимущественно животных, поскольку человеческие останки, по обычаю, предаются земле, как это мы, увы, только что имели возможность наблюдать.
Де Цикада подавил всхлип.
– Мысль о том, что она мало-помалу высушится и превратится в прах, меня немного утешила. Спасибо, Предлаже.
– Вот положительная сторона науки, – произнес с некоторой завистью Сердоболь.
– А, – спросил де Цикада, – что на самом деле представляют собой могильные черви?
– Я кое-что знаю по этому поводу, – сказал Предлаже, – поскольку изучал вопрос вместе с одним ученым, доктором Мененом. Это действительно – по крайней мере, в начальный период загнивания – личиночные червячки, ибо речь идет о личинках диптеров, в частности, Calliphora vomitoria, проще говоря, самой обыкновенной синей жирной мухи, Curtonerva stabulans, то есть ее сельской разновидности, а также Phora atterrima и Ophyra cadaverica, которые появляются лишь после того, как бутириновое и казеозное[185] брожение переходит в аммиачное.
– Как это все весело, – сказал Сердоболь.
– А еще мы не должны забывать о Rhizophagus parallelocollis, которые являются колеоптерами[186], и о Philantus ebeninus, которые являются стафилинидами[187]. Кстати, отметим, что форы предпочитают худые трупы, а ризофаги – жирные.
– Удивительно, – сказал Сердоболь, – что эти маленькие твари, совсем как люди, имеют свои предпочтения.
– Каждому свое, – сказал де Цикада, – а вообще-то, если я обожаю жирную ветчину, это вовсе не дает вам права сравнивать меня с какими-то тризнафагами.
– Ризофагами, – сказал Предлаже.
Они доехали до трикотажного предприятия.
– Зайдите выпить с нами по рюмочке, – предложил Сердоболь гербористу. – Согреетесь.
– Нет, спасибо. Торговля не ждет.
Уговаривать не стали.
Мадам Сердоболь выдала из своего арсенала несколько растроганных фраз. Де Цикада поблагодарил. В камине вовсю горели дрова. Запылал пунш.
– До чего ж подкован этот Предлаже, – сказал де Цикада. – Вот я, например, все эти естественные науки никогда не зубрил. И, впрочем, зря, так как сейчас мне кажется, что из них могла бы исходить поэзия с каким-то особенным ароматом.





![Книга Хотели как лучше... [СИ] автора Тей Таниэль](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)


