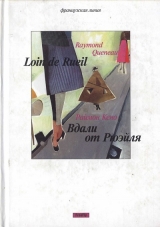
Текст книги "Вдали от Рюэйля"
Автор книги: Раймон Кено
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Но Жак в душе ликовал, поскольку первый раз в жизни совершил акт смирения. Чемпион (Франции) по (среди любителей) боксу (в полутяжелом весе) позволил себя побить только потому, что не хотел демонстрировать свое превосходство. От восторженного чувства, которое Жак испытывал внутри, путь во мраке снаружи представился ему надушенным розами. Он прибыл к Морсомам в чудесном настроении. Дверь ему открыла та же самая горничная, он радостно ущипнул ее за бок и прошел в студию, где несколько человек крутились вокруг бара, попивая как-ты-эли. Доминика подошла к нему привлекательная, очаровательная, улыбательная, миловательная. Муж Морсом оказался зажиточным пухляком с фальшиво властным выражением лица. Персонаж не радовал. Что до остальных присутствующих, то Жаку (на момент представления) их имена ни о чем не говорили. Он чопорно поклонился всей этой клике, которая выглядела ох как богато, и принял предложенный ему бокал, дабы не снискать репутацию непьющего сноба, не выделяться и не нарушать самые элементарные правила самого элементарного и самого смиренного смирения.
Какое-то время Доминика составляла ему компанию, затем оставила его бикоз[128] прибытия очередных гостей, которых уже было столько, которых было уже столько! Жак, один на один со своим бокалом, скучал невообразимо и злился, проклиная себя за то, что пришел. Но, поймав себя на этих нездоровых мыслях, он приложил максимум истинно ангельских усилий и принял тошную ситуацию с безграничным спокойствием. Тут, как будто для того, чтобы вознаградить его за эту добровольность, горничная объявила, что кушать подано. За столом оказалось человек пятнадцать: какое торжество! какое пиршество! и в честь чего? кого? просто в голове не укладывается! и так каждую среду? такой обычай? по крайней мере, факт! а почему по средам? И возникал еще один вопрос, на который Жак был не в состоянии ответить: неужели эти люди не знали, что он был бедным и совершенно ничтожным типом? Похоже, что нет. Они говорили ему любезные слова, потому что он играл в пьесе Жана Жироньо, которым в их кругах было принято восхищаться. Разговор проходил в галопирующем ритме и чаще всего оставлял Жака далеко позади. Бизнес его удивлял: он чувствовал себя довольно необразованным и невоспитанным по этой части. Временами, раздирая на куски морской язык или пулярку под соусом Берри[129], он уже был почти готов приобщиться к блестящей плеяде биржевых дельцов[130], которые украшали своими энергичными манишками столовую супругов Морсом. Идея для обдумывания: снабдить такси специальными радио (принимающими) устройствами. Это могло принести сто тысяч франков не преувеличивая двести тысяч возможно триста тысяч и тогда прощай театр и да здравствует свобода, предохраняемая от всевозможных ударов судьбы подушечками с банкнотами[131]. Но Жак не позволял себе увлекаться; как только зарождалась подобная история, он тут же схватывал ее и скручивал ей шею. Смирение требует еще и того, чтобы не переполняло внутри. Удивление, вызываемое этими горделивыми соображениями с онейроцидными последствиями[132], на мгновение прерывало методичное движение вилки и ножа; но лишь на мгновение, после чего Жак вновь принимался с упоением ужираться, пропуская через себя искрящийся золотом поток экономических, промышленных и коммерческих речей приятелей четы Морсом. Изредка – когда заговаривали о кино, вшах или путешествиях – Жак осмеливался подкинуть какую-нибудь застольную реплику, и, как правило, она с хрустом перемалывалась челюстями соседствующих горлопанов. Но Жак не обижался: учитывая свои новые амбиции, он бы сам себя упрекнул в том, что блеснул. Если заходила речь о разнообразных гостиницах и клубах, он затыкался окончательно, поскольку еще не дошел до той стадии, когда предпочитают выставляться на смех, а не удовлетворяться собственной посредственностью. Что касается женщин, они большей частью были склонны к кокетству, возможно, к траханью до одури и, предположительно, к коллективным оргиям. Две-три из них заинтересовались Жаком, поскольку – актер, но, увидев, насколько скромен, оставили в покое. Вся эта компания ужинала очень поздно. Жак выходил на сцену лишь во втором акте, но иногда ему все равно приходилось смываться, не дожидаясь десерта.
Общение с богатеями преисполняло его довольством, ибо именно в этом контрастном фоне он отныне нуждался. Так он довольно быстро стал предпочитать вспученному существованию капралов от большого бизнеса тихие, спокойные, неторопливые, неяркие и нечеткие формы бытия. Тем более что некогда, в пятнадцать лет, вместо того чтобы продолжать учебу, он пошел работать рассыльным на трикотажное предприятие своего отца. После службы в армии стал папиным секретарем. Потом получил в наследство… Нет, это еще одно неправомочное вознесение. Он видит себя скорее банковским служащим всего-навсего с загородным домиком, а в нем – Сюзанну и Мишу. По субботам и воскресеньям он отдыхает, и если стоит хорошая погода, вся семья обедает в саду. Летом иногда на пленэре удается даже поужинать. Такая пропасть счастья вызывает головокружение. Нет, опять не то. Нет. Он – сапожник Жак Сердоболь. Ему семьдесят лет. Уже пятьдесят лет, как он сидит в своей лавочке. Он всегда здесь сидел. Из Парижа он не выезжает. По воскресеньям работает до полудня, затем садится на скамейку и, ни о чем не думая, смотрит, как проплывает будущее. Он не женат. У него нет ни родственников, ни друзей. Он готовит себе сам. Ест мало. Не пьет. Не курит. Не занимается сексом. Он – сапожник.
Рассмотрение столь счастливых перспектив его ослепляло. Но, упорствуя в своих исканиях, он быстро обнаружил, что подобные самореализации не лишали его скрыто галлюцинирующей гордыни. Бесполезно быть сапожником-затворником, если по-прежнему помнишь, что был боксером, химиком, актером, а от резкой смены деятельности даже получаешь удовольствие. Стезя смирения нелегка: западни для легковеров, ловушки для простаков, крючки для разинь и даже просто собственное лукавство. Когда актер, игравший главную роль в пьесе Жана Жироньо, заболел, директор предложил Жаку его заменить. Жак отказался: он чувствовал себя не в силах вынести эту чересчур тяжелую маску. Но вечером в своей уродливой комнате, в который уж раз дегустируя свой подогретый рис, он не мог объяснить свой отказ скромностью, поскольку очень быстро и очень непредвзято счел себя достойным предложенной роли. Поэтому, когда один друг мадам Морсом, который был кем-то в кино, предложил ему поработать статистом на съемках готовящегося фильма, он согласился.
Больше всего во всем этом ему нравилась доброта Доминики по отношению к нему. Конечно, этот еженедельный ужин представлял собой самое большое унижение: что это было, если не продовольственная милостыня для бедняги, который не всегда мог поесть досыта? Доминика, несомненно, воспринимала это именно так, и именно так представлял себе это Жак, который с наслаждением сносил женскую жалость и упивался горьким молоком попрошайничанья[133], кстати, приятным на вкус. Теперь, когда Доминика регулярно приглашала его на ужин, он уже не мог говорить с ней так же просто, как в первый день; однако немного удивлялся тому, что она ничуть не удивлялась тому, что он совсем не удивлялся.
– До следующей среды, – сказала она.
Ему надо было идти: театр.
– Не знаю, смогу ли я в следующую среду.
– Постарайтесь смочь.
– Зачем?
Доминика посмотрела на него с удивлением:
– Я буду рада вас видеть.
– А вы не хотите в другой день и наедине?
Доминика посмотрела на него с изумлением.
– Я позвоню вам, – сказал Жак.
Он нажал на маленькую кнопку и быстро очутился на первом этаже. Это был очень красивый лифт, лифт в доме, где жила Морсом.
Жак выждал три недели перед тем, как объявиться. В одно из утр они отправились на прогулку в Лес. Съемки закончились, Жак уже не работал статистом.
– За это время у меня были милые занятия: слуга епископа, каторжник на галере, студент, бунтовщик, шпик, в результате я познакомился с монсеньором Мирбелем, Жаном Вальжаном, Энжольрасом и Жавером[134]. Я даже дублировал последнего во время преследования по катакомбам: видите, какая честь. Когда я говорю «я познакомился», то имею в виду, что видел их очень близко, потому что обычно они нас сторонятся. Монсеньор Мирбель особенно, он такой позер. Женщины более приветливы. Ну в общем, я хорошо развлекся.
– Вы уже устроились работать на другую картину? – спросила Доминика.
– Пока еще нет. Но мое имя записали. Похоже, я был неплох. Впрочем, то, что от меня требовалось, было совершенно нетрудным.
– Не скромничайте.
– Чистая и неприкрытая правда. Я знаю, чего я стою. Хотя, на самом деле, заявлять, что знаешь, чего стоишь, это опять хвастовство.
– Вам нравится ваша профессия?
– Какая профессия?
– Профессия актера.
– Но я ведь не актер! Я всего лишь статист. А статист – это не профессия. И даже если бы это было профессией, она бы не стала моей. Я не намерен заниматься этим всю свою жизнь.
– Чем же вы хотите заниматься?
– Ничем. Ничто очень выгодно. Ничто не вызывает ни малейшего повода к тщеславию. Но в моем возрасте возникают проблемы. Если я буду просить подаяние, меня арестуют. Значит, я должен найти оправдание, прикрытие. Актер – это слишком. Невозможно помешать себе хотеть казаться. Даже когда ты просто статист. Я ищу мелкую должность.
– Такую найти нетрудно, – сказала Доминика.
– Я пока еще всерьез этим не занимался, – признался Жак.
– Вот оно что! Вы для этого не предпринимаете никаких усилий.
– Вы меня подначиваете?
– О нет. Мне кажется, во всем этом нет такой уж необходимости.
– Понятно. Вы не воспринимаете меня всерьез.
– Да нет же, воспринимаю.
– Да нет же, не воспринимаете. Хотя в жизни я совершал и серьезные поступки. Я бросил жену. Это очень серьезно.
– Вы знаете, что с ней?
– Нет. Она, должно быть, живет с Бютаром, секретарем из мэрии.
– Она не пыталась вас разыскивать?
– Если даже и пыталась, то у нее это не получилось.
– Она знает ваших родителей?
– Нет. Она знает только, что они живут в Рюэйле. Может быть, она попыталась найти их адрес, написать им. Я уже давно с ними не виделся.
Он замолчал, оценивая окружающий пейзаж, еще довольно морозное начало марта с редкими птицами, виднеющимися меж веток и гуляющими там-сям в количестве небольшом. Чуть дальше по аллее Акаций сновали автомобили. Легкий сухой ветерок дул Жаку прямо в спину. На одежде Доминики меховые дорожки иногда укладывались, чтобы затем медленно вставать дыбом.
Пристально рассмотрев заигрывающую с ним природу, Жак повернулся к Доминике и ее беличьей шубке.
– Я спрашиваю себя, – сказал он, – способен ли я стать совершенно ничем. Я вовсе не уверен, что у меня это получится.
Доминика засмеялась (довольно глупо, показалось ему) и ласково взяла его под руку, что едва не вызвало у него желание отстраниться. Но он сдержался. Они снова побрели, совсем близко друг от друга.
– Я рада, что вы нашлись, – сказала Доминика. – Я постоянно задумывалась, что могло статься с Жаком Сердоболем, который рассказывал истории. И чего я только себе не представляла насчет вас. Чаще всего я склонялась к мысли, что вы царите[135], может быть, на острове далеком и безвестном.
– И ради лучшей доли я покинул вас, расставшись с кругом тесным, но сами видите, о сколь она бесплодна.
Он вздохнул:
– Я так хотел стать святым.
И продолжил:
– Я пощусь, отныне это мой обычный режим. Прошу вас: больше не приглашайте меня перекусывать вместе с вашими буржуа.
VIII
Он позволил вклиниться между ними нескольким месяцам, которые принесли с собой летние деньки. Пьесе Жана Жироньо пришел конец. Жара окатывала улицы. Жак звонит Доминике, но мадам отправилась путешествовать, мсье желает поговорить с мсье Морсомом? Нет, большое спасибо. Теперь рис готовится уже даже не на жире, мясной бульон остывает на цинковых стойках, которые распаренные официанты устало вытирают от пота. Вода фонтанов Валлас[136] смывает грязь человеческого уважения. Жак не чтит больше ничто, даже самого себя. Но пока еще не осмеливается просить милостыню, это было бы слишком заметно. Он старается себя выпотрошить, опустошить, иссушить. Он исторгает свое избыточное я, огурец, пересоленный горем. Он выкачивает из себя пинты доброй крови, всерьез[137]. Он истощает себя, открыв зев. Он истребляет в себе всех – ах! где теперь папы римские, исследователи, господари, академики, морские караси[138], разбойники[139]. Жак выметает, выметает, это надо выбрасывать немедленно: ведь при такой температуре даже в тени воспоминание о мертвых гниет быстро и очень скоро начинает отдавать падалью, даже если это мертвые только для тебя, мертвые для личного пользования, бесплотные и бессловесные, подчиненные привидения, прихлопнутые по жизненной необходимости и из-за последствий мечтательности[140]. Жак отрекается. Сдирает с себя шкуру.
Сменяет кожу на лохмотья[141].
Плывет к святости.
Половину оставшихся у него грошей, не меньше, он отдает бедным. Он вяжет шерстяные носки для нищих. Он приходит на помощь нагруженным посыльным, брошенным собакам, избиваемым детям, преследуемым ворам, бездомным, убогим, блаженным, слепым. Если ему наступают на ногу, он подставляет другую. Если его оскорбляют, он не отвечает. Даже больше, он сам ищет презрения самонадеянных, наглых, с хрустом угрызаемых совестью. Он старается сделать так, чтобы его обсчитывали продавцы (с этими ох как нелегко). Ему нравится выглядеть придурком. Ему нравится допускать промахи, оплошности, глупости. Он выставляет себя олухом; даже там, где излишне пытаться им стать, он силится просто им быть. В глазах полицейских, официантов, муниципальных служащих, автобусных кондукторов, контролеров в метро и в кино он выглядит круглым идиотом. Он не боится обвинений, насмешек, оскорблений, которые всегда оставляют его невозмутимым. Но он ни к кому не испытывает высокомерия. Он спешит указать дорогу провинциалам, подносит зажженную спичку к сигаретам самых омерзительных буржуа, сообщает время самым торопливым прохожим, вежливо отвечает проституткам, следует за похоронными процессиями, унимает зуд занудных стариков. Он угодлив и благодушен.
Его вновь позвали играть в массовке. А все благодаря протекции Доминики, которая напомнила о существовании Жака знакомому господину из кинематографической промышленности. На этот раз ему предстоит быть бандитом в фуражке и с бакенбардами. Там Жак встречается со старыми товарищами, которые были, как и он, на баррикадах с Энжольрасом или на каторге с Жаном Вальжаном. Они очень хорошо к нему относятся, поскольку у него, похоже, нет никаких амбиций, тогда как сами они метят в звезды. Жаку на это наплевать. Ему говорят, что так он ничего не достигнет, но, разумеется, все довольны, что он и не стремится ничего достигать, на подъеме – одним меньше, а Жак со своей стороны удивляется, что среди них нет ни одного, кто согласился бы оставаться статистом, всего-навсего простым статистом, кроме, конечно, него самого, который хочет стать всего-навсего святым.
На балу Вшей в районе Менильмуш[142] все крутые и к тому же ух как круто загримированные. Жак выхлебывает свой бокал кислого вина рядом со своей товаркой по несчастью в короткой плиссированной юбчонке, которая забросила медицину ради кина искусства.
И сказала «Прощай» своей копрологии[143]. Всю жизнь совать свой нос в испражнения новорожденных, нет уж, спасибо. Всю жизнь нюхать фекалии, гной, сукровицы, ну уж нет, с меня хватит. А ты-то где учился?
– Нигде.
– Да ты на меня только посмотри, как будто я не вижу, что ты интеллектуал, коллега. Сознайся, что ты хотя бы сдал на бакалавра[144].
– Нет.
– Откуда же ты взялся?
– У меня были неприятности. Я попал в плохую компанию: мне уже из этого никогда не выбраться.
– Ты смеешься надо мной?
Она шутя рассердилась.
– Да, у меня были неприятности, – продолжает Жак. – Я из порядочной семьи, мой отец даже владел конюшней с беговыми лошадьми… но тут… опасные связи… Клерво[145]… Фум-Татауин[146]… И я стал отъявленным хулиганом, мог даже пустить в ход перо. Ну а ты, дитя, откуда ты?
В этот момент заявилась банда Тотора. А Жак массовничал в банде Бебера, вот так. Ну, сейчас будет заваруха. Все начали пихаться, но оказалось, что из рук вон плохо, что совсем неубедительно, что денег не заплатят, если все не возьмутся как следует. Все начинается сначала.
– Ну и работка, – говорит экс-медичка.
– Да, – вздыхает Жак. – Везде над тобой надзиратели. А я-то мечтаю о тихой жизни в собственном домике на берегу речки, о бережке, на котором я бы поставил скамеечку, на которую я бы сел, и ловил бы себе рыбешку.
– Ну и насмешил же ты меня, – сказала она очень серьезно.
Вновь заявилась банда Тотора.
Разыгрывается неплохая потасовка.
– Эй, а вы что? Что вы там делаете? Уснули, что ли?
Эта реплика относится к Жаку.
Раз нужно, значит, нужно. Жак выходит вперед и прямым в челюсть сбивает с ног одного из своих противников, апперкотом в солнечное сплетение укладывает второго, и вот уже с разукрашенной физиономией на пол валится третий. Браво, браво, вопит режиссура. Ну уж нет, протестует массовка. Мы здесь не для того, чтобы получать в рожу по-настоящему, это уже не игра.
Жак садится и задумчиво смотрит, как спорят эти люди.
– Ну, – говорит Мартина, – ну и насмешил же ты меня.
Ее зовут Мартина. Они выходят вместе. Жак извиняется перед коллегами, извиняется с искренним смирением. Одновременно (и однопричинно) получает поздравления и воодушевления. Просто невозможно, чтобы ему не дали какую-нибудь маленькую роль, не большую, маленькую, в следующем фильме.
– Ну, – говорит Мартина, – вот ты уже и выплыл. Теперь полетишь вперед, как на парусах.
– Мне наплевать, – говорит Жак.
– Так всегда говорят, но я в это не верю.
– Уверяю вас.
– Можно перейти на «ты», раз мы оба актеры.
– Если хочешь. Пойдем выпьем чего-нибудь?
– А как же.
Они спустились по улице Коленкур до самых могил[147]. Уселись на террасе.
– От кладбищ в городе больше воздуха, – сказала Мартина, – можно свободно вздохнуть.
– Меня это не смущает, – сказал Жак. – Смерть или что-то другое, мне все равно.
– А ты их много видел, мертвых-то?
– Наверняка меньше, чем ты, – сказал Жак, – ты же препарировала трупы.
– И даже живых, – сказала Мартина, – но только животных.
– А ты препарировала вшей?
– Конечно.
– Иногда я представляю, как препарируют меня самого.
– Очень весело.
– Кроме этого я уже привык думать о своей смерти каждый вечер, укладываясь спать. Я вытягиваюсь на кровати, натягиваю одеяло на лицо, это саван, и потом – все, я мертв, я начинаю гнить, вонять, меня начинают подтачивать черви, я разлагаюсь, я разжижаюсь, я уничтожаюсь, от меня остается только мой скелет, затем мои кости крошатся и мой прах развеивается. Каждый вечер.
– Ты мог бы думать о чем-нибудь другом?
– Мог бы. Запросто. Но я сам хочу думать об этом. Я хочу укротить свою гордыню. Если бы я ее не укрощал, то считал бы себя бессмертным. Ты не замечала, какими бессмертными мы себя ощущаем, когда об этом не думаем?
– Может быть.
– Я, видишь ли, ненавижу тщеславие. Поэтому стараюсь себя унизить.
– Похоже, ты доволен собой.
– Увы! Как ты права! С этим покончить невозможно. От этого никуда не уйдешь.
Он вздохнул:
– Я бы так хотел стать ничем и этим даже не гордиться.
– А это возможно?
– Говорят, что святые были именно такими людьми.
Она серьезно на него посмотрела.
– Ну, – сказала она, – ну и насмешил же ты меня.
Она жила в Латинском квартале, в комнате, украшенной анатомическими муляжами, плакатными парфенонами и кинозвездами. У нее было мило. В то время как Мартина раздевалась, Жак думал об аскетах прошлого, которые могли провести ночь в постели меж двумя обнаженными женщинами и даже пальцем не пошевелить. До этих аскетов Жаку было еще очень далеко.
Мартина считала, что они могли бы жить вместе, но это не совпадало с мнением Жака, который не прекращал своей святоборческой практики и к тому же совсем недавно заметил, что – вполне возможно – влюблен в Доминику, хотя еще не очень четко уяснил, была ли она для него с этой точки зрения сама собой, или же при ближайшем рассмотрении представляла собой лишь некое подобие цели, намеченной им после разрыва с Камиллой и в начале гистрионической[148] карьеры, которую (карьеру) он не воспринимал как таковую, но которая была для него лишь происшествием, случайным эпизодом, последствием рока, занозой судьбы, тем, что не имело ничего общего с его главным предназначением, каковое могло быть, так думал он тогда, эквивалентно кулинарному приготовлению кроликов и зайцев с обдиранием шкуры, свежеванием, потрошением, высшей целью которого была абсолютная и бескорыстная непогрешимость идиота, лишенного обычной для его сородичей нетерпеливости по отношению к исполнению элементарных физиологических потребностей. Почему мудрость нельзя представить в женском образе, почему этот образ не могла бы олицетворить Доминика, буржуазная француженка, высокая брюнетка, конечно, более рослая, чем Камилла, а еще более холодная, более строгая, а еще более элегантная, но менее надушенная, менее шумная, и, короче, куда менее шлюха. Подобная любовь могла, естественно, оставаться совершенно платонической, а доминиканский образ – лишь иллюстрировать и иллюминировать путь, который вел Жака к полному духовному оголению. Так все и шло какое-то время. Затем получилось так, что Жак позвонил Доминике, и они вновь увиделись, но не во время светского ужина: их свидания были уже настоящими свиданиями. Но Доминика, похоже, не замечала, что в этом было не просто радушное продолжение детской дружбы.
Отваренный на неделю вперед рис, простая вода, раскладушка и ничем не занятое время по-прежнему составляли филаскетический режим Жака, хотя он и не мог отметить в этой области никакого продвижения, даже если порой у него получалось верить в то, что именно эта отметка, свидетельствующая об отсутствии, означает улучшение, но, осознавая это улучшение, он полагал, что тем самым сводит на нет всю его значимость, уничтожает значение, подобно тому, как точное измерение абсциссы частицы исключает возможность узнать скорость ее движения якобы.
Свидания с Доминикой имели характер лесопарковый, прогулки в Лес начинались с остановки «Мюра»[149], и если иногда Жаку приходилось ждать, он мог изучать не только сливки общества (тяжелый случай), но еще и игривые журналы, которые подавались в виде бесплатного приложения к булочке и кофе со сливками.
Когда Доминика приходила, то говорила:
– Вы сейчас снимаетесь?
или
– Снег пойдет,
или
– Вы видели последний фильм, о котором так много говорят?
Он отвечает в зависимости от обстоятельств, что они рискуют попасть под дождь или что сейчас он не работает или что будет хорошая погода или что за последнюю неделю он в кино не ходил.
В Лесу уже появляется немало наездников, шоферов, сатиров и лесных духов всякого полу. Жак и Доминика идут в сторону Бют Мортемар[150]. Они говорят мало.
Они знают, что это произойдет сегодня.
– Доминика?
– Ну же, – говорит она, не глядя на него.
– Мне кажется, что да.
– Что – да?
– Я вас люблю.
Она останавливается она не решается на него посмотреть она ищет в ответ что-нибудь подходящее она говорит ему вы с ума сошли ответ в общем-то неплохой могла бы найти что-нибудь и получше но она так и не а поэтому повторяет вы с ума сошли с удрученным видом. Похоже Жак легко выносит всю тяжесть своего безумия за признанием не следует никаких действий не то чтобы ему не хотелось но действия которые он хотел бы предпринять настолько точны и конкретны что он вынужден от них отказаться из-за публики он не прочь заняться любовью с Доминикой прямо здесь на скамейке но раз не получается то он предпочитает вообще ничего не даже ручку пожать. Он держится на расстоянии.
Затем это переходит в диалектику, затем в риторику, затем в софистику, затем в казуистику. То обсуждается, любит ли Жак Доминику по-настоящему или он все это себе придумал. То обсуждается, может ли Доминика полюбить Жака, ибо она замужем. То обсуждается, не любит ли Доминика Жака, сама того не осознавая. То обсуждается, хватит ли любви одного Жака на двоих, следовательно, насколько она заразна. И так далее в том же духе. Эти вопросы они обсуждают не только в этот раз, но и во время следующих свиданий. Они говорили оба и много: Жак – в роли истца, Доминика – ответчицы. Единственная подвижка: теперь Жак уже мог намечать некие действия, естественно весьма умеренные, ибо Доминика была щекотлива в том, что затрагивало ее честь.
Доминика легко допускала одно: то, что она представляла собой идеал. Ей очень нравилось пусть не собственное обожествление так хотя бы экзальтированное вознесение в область чистых идей этой любви чьей побочной (но от этого не менее действующей не менее конечной и увы! не менее материальной) причиной она являлась. Она платонизировала[151] на полную катушку. Жак в ответ и не меньше ее плотинизировал[152] но считая бытующие представления о морали бессмысленными то бишь лишенными смысла не понимал по какой причине Доминика отказывалась с ним переспать ведь он не мог быть ей отвратителен а их совокупление в земной плоскости ему представлялось бесконечно желанным как некий реализованный образ духовного причастия. Естественно Жак употреблял очень осторожно слова столь нечеткие как земные и духовные пусть всего лишь прилагательные прекрасно осознавая что его аскеза приводила лишь к тому что понятия эти теряли всякое значение. Зато в термине совокупление он ничего расплывчатого не находил. Желая углубить его смысл он обратился к эротологии и закрепляя вместе с Мартиной полученные знания дополнял эти практические занятия соответствующим чтением а в частности изучением посвященных этой науке работ разных специалистов как античного так и нового времени. Поскольку ему не удавалось добиться от Доминики больше двух-трех свиданий в неделю, он предвосхищал эти встречи как минимум суточным воздержанием дабы увеличить число своих побед в случае финального решения. К несчастью Доминика упрямилась и упиралась и оставалась ужасно порядочной и стыдливой даже если в конце концов и снисходила до легкого обжимания но время от времени и в меру позволяя Жаку проводить исполненной восхищения и уважения рукой по груди или бедру поверх корсажа или юбки само собой разумеется.
К тому же приближалась весна. От яростной страсти Жак наверняка бы изошел прыщами, если бы не имел (под рукой) Мартину, с которой практиковался, не переставая думать о Доминике. К тому же этот главный неуспех придавал его существованию прежний душок[153], и мало-помалу Жак отказывался от риса, сваренного на неделю вперед, и воды с привкусом хлорки ради более сочных явств и более радужных напитков. Это объяснялось еще и тем, что его драматические таланты ценились все больше и больше, он часто массовничал и получал денежки. С другой стороны, в это время уже пробовали заставлять экраны говорить[154], а поскольку Жак оказался фоногеничным, его изрядно обнадежили.
– Говорят, вам дали роль в следующем фильме Брунеллески[155], – сказала Доминика.
– Откуда вы знаете? Ах да, от вашего приятеля, влиятельного типа в кинематографической индустрии. Поблагодарите его за то, что он помог мне вначале. Этим я обязан вам, Доминика.
– Когда вы начинаете сниматься?
– Сегодня после обеда. Но знаете, у меня совсем маленькая роль. Я – чемпион мира по боксу, а один молодой боксер, не кто иной, как Вальмег, отправляет меня в нокаут в третьем раунде и становится в свою очередь чемпионом мира. Фильм звуковой. Это вообще первый звуковой фильм Брунеллески: настоящее событие.
– После этого вы пойдете вверх. Как я рада за вас, – сказала Доминика.
– Мне наплевать, – сказал Жак. – Мне на все это наплевать. Доминика, я вас люблю, я вас люблю.
Он уже бредил вовсю, и если бы не проходившие на некоем расстоянии граждане, он бы поимел ее безжалостно.
Она так и не решалась так совсем и не.
Он взял ее за руки и удерживал перед собой, совсем как отец, который отдает под свой единоличный суд своего собственного ребенка.
– Отпустите же меня, – сказала она. – Вы с ума сошли.
Она высвободилась. И выразила глубокую брезгливость. Эта резкая реакция внезапно обескуражила Жака который тем не менее предпринял монолог подразумеваемый одновременно апологетическим и питиатическим[156] который Доминика прервала дабы назидательно объяснить что она не приемлет других почестей кроме как платонических и что между ними не может быть и речи о вульгарных и выделенческих формах реализации плотской любви. Еще какое-то время они это пообсуждали, и их прогулка закончилась.
Настроение у Жака напрочь испорчено. Фильм начинается со сцены, в которой Вальмег пробивается на чемпионат мира, почему именно с этой, Жак даже не задумывался. Его представляют звездуну, который его подбадривает. Разумеется, Вальмег чуть-чуть занимался боксом, но в нем нет ничего от чемпиона даже воображаемого. Жак дал ему несколько советов и показал несколько ударов. В обеденный перерыв он встретился с Мартиной в маленьком ресторанчике по соседству. Мартине показалось, что Жак сердится, в чем дело? неужели это из-за нее? она не понимает почему. Жак вел себя демонстративно нелюбезно.
После обеда снова работали над сценой чемпионата. Но Жак постепенно все больше склонялся к тому, что у Вальмега нагловатый тон и абсолютно невыносимая рожа и что совершенно несправедливо и гнусно, что этот засранец столь незаслуженно отбирает у него титул чемпиона мира. И вот, никого не предупредив, Жак решил отстаивать свой титул всерьез: во втором раунде, вместо того, чтобы получить в челюсть запланированный сценарием хук слева, он отправил своего противника в бессознательный нокаут. Этот акт вызвал у технического персонала протестующие крики. Брунеллески потребовал объяснений, которые превзошли все его ожидания, ибо он предполагал оплошность, но никак не намеренный отказ уступить пальму боксерского и мирового первенства.
– Что за идиотизм, – сказали Жаку. – Получился какой-то комедийный гэг. Как несерьезно. Вы что, обалдели?
В это не могли даже поверить.
И Жак оказался на улице.
– Вот и лопнула моя карьера, – улыбаясь, сказал он Мартине в заключение рассказа о своем подвиге.
– Ну и насмешил же ты меня, – сказала она очень серьезно.
Чтобы отметить событие, хотя оно уже само по себе было незабываемым, они пошли пить перно[157] и ужинать в ресторан несколько лучший, чем обычно, обмениваясь репликами типа:
– А ты веришь в звуковое кино?
Или:
– Да и вообще, все это кино…
Или же:
– А как там твоя Доминика?





![Книга Хотели как лучше... [СИ] автора Тей Таниэль](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)


