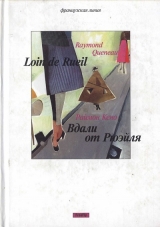
Текст книги "Вдали от Рюэйля"
Автор книги: Раймон Кено
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Более не беспокоясь за судьбу этой загадочной личности, Жак, не имеющий ни малейшего желания вмешиваться в столь же примитивную, сколь и тщетную деятельность полиции, возобновляет следование по своему маршруту, приостановленное внезапно предпринятым преследованием. Он тихонько посмеивается. Здорово он их всех обманул и larvatus prodéé[61]. Кто мог себе представить, что тем карманником был он сам. Но этот вид спорта в общем-то не требовал ни гениальности, ни оригинальности, а предполагал лишь хорошо смазанные суставы нижних конечностей – короче, гордиться нечем. А посему, оказавшись в дверях «Твин-Твин Бара», он без сожаления оборвал карьеру, которая в итоге все равно не привела бы ни к чему сенсационному.
Он заметил мсье Жоржа, который сидел на высоком табурете и беседовал о том о сем с мсье Робером. После приветствий Жак угостил себя как-ты-элем.
– Ставлю сто франков на лошадку, – сказал он. – Возьмете?
– Да. На какую?
– На Вшивую Шкуру в третьем.
– Получится двадцать против одного, если выиграет.
– Да уж не меньше.
Он протянул банкноту, и мсье Жорж записал пари на маленьком клочке бумаги.
– Я бы и гроша не поставил на такую кличку, – сказал мсье Робер.
– Не суй свой шнобель не в свое дело, – сказал мсье Жорж.
– А мне это имя нравится, – сказал Жак.
– Нужно быть полным мудаком, чтобы ставить на такую кличку, – сказал мсье Робер.
Он не успел услышать от мсье Жоржа его повторное «не суй свой шнобель не в свое дело», поскольку уже лежал в полном отрубе, получив от Жака решительный удар правой прямо в пятак.
– А ты, – сказал Жак, обращаясь к мсье Жоржу, – верни мои пять луидоров.
– Почему это, – сказал мсье Жорж. – Я-то здесь при чем?
– Гони сто монет немедленно.
– Только без историй, – сказал бармен, срезая цедру с лимона.
Мсье Робер молча приходил в себя. Мсье Жорж бросил банкноту на стойку.
– Я угощаю присутствующих, – сказал Жак бармену.
– У вас отвратительный характер, – сказал мсье Жорж.
Мсье Робер утирал шнобель шелковым носовым платком и от комментариев воздерживался.
Жак забрал сдачу, оставил царские чаевые и молча вышел. Он немного сожалел о том, что не подверг обидчика какому-нибудь отборному и самолично изобретенному истязанию из своей разнообразной коллекции; самые невинные наказания он назначал, к примеру, тем, чья внешность ему просто не нравилась. Но все это отвлекало его от Вшивой Шкуры, на которую он до сих пор так и не поставил. Он не мог приехать на ипподром после обеда, а свои двадцать франков видел именно в ногах этого животного. Он поймал такси, доехал до бара «Меридьен», доверил свои пять луидоров на Вшивую Шкуру мсье Ришару, после чего спустился в подвал, чтобы позвонить Белепину[62], как договаривались.
– Я еду к де Цикаде после обеда. Все остается в силе? Сорок франков за страницу?
– Ага. Он даст много?
– Не знаю.
– Уж постарайтесь. Кстати, стихи мамаши Жопосла я получил, а башли – нет.
– Я их отдам вам завтра вместе с деньгами де Цикады, если получится из него что-нибудь вытянуть.
– Никаких «если», вы должны мне их выбить.
– Постараюсь.
– Надеюсь. И, главное, не забудьте принести деньги этой тетки.
– Не беспокойтесь.
– Тогда до вечера, в «Твин-Твин Баре».
– Нет. Я только что вмазал мсье Роберу. Лучше где-нибудь в другом месте.
– Как вы меня утомляете демонстрациями своего физического превосходства.
– Я бы предпочел в «Меридьен». Мне там надо будет получить выигрыш с забега.
Белепин ответил «ага», и они повесили трубки.
В «Пети Кардиналь» все уже сидели за столом и в ожидании грызли редис.
– Вы проштрафились, мсье Жак, – крикнула хозяйка.
Он сел напротив нее, между Дядюшкой и официанткой Сюзанной; мсье Дюсэй и официант Гораций обрамляли хозяйку.
– Родольф меня уверял, что вы ставите на Вшивую Шкуру в третьем забеге, – сказал Дядюшка.
– Точно.
– Безумие! – воскликнул Дядюшка. – Безумие! Две пятерки потеряли! Честное слово!
– Две! Вы хотели сказать двадцать!
Дядюшка чуть не подавился. Хозяйка наполнила его бокал вином.
– Запейкавотлутшэ, – сказала она.
Он запил и прохрипел:
– Двадцать пятерок!
– Да, действительно, мсье Жак, вы неблагоразумны, – сказала хозяйка. – У вас ничего не останется.
– А если я выиграю?
– Ну-у-у, мсье Жак, вы же прекрасно знаете, что с вами это никогда не случается.
– А Баклан, который принес мне двадцать пять против одного?
– Кто же не помнит, – сказал официант, – в тот день мсье Жак угощал шампанским.
– А потом, эта Вшивая Шкура, – сказал Дядюшка, – как можно рисковать своими деньгами ради клячи, которую кличут так вонюче!
– Мне это имя нравится, – сказал Жак.
– Сразу видно, что у вас их никогда не было, – сказал Гораций.
– У меня они были в школе, – сказала Сюзанна.
– Нашла чем хвастаться, – сказала хозяйка.
– Для кого-то это происшествие, – сказал хозяин, – а для кого-то самое важное событие в жизни.
– Вам бы обо мне только гадости говорить, – сказала Сюзанна.
– У меня они были в армии, – сказал Гораций. – Они разгуливали по тумбочке.
– А мне намазали голову какой-то мазью, причем жирной. А на подушку положили полотенце.
– До чего же цепкая живность.
– Да, упрямая.
– И зачем их, черт возьми, только Бог создал?
– Бельевые вши еще хуже, чем телесные.
– Приходится кипятить всю одежду. Или убивать их поодиночке.
– Они хрустят.
– Хи-хи-хи.
– А их никогда не пытались приручить? – спросил Жак у Дядюшки.
– Среди членистоногих я знаю только насчет блох. Пауки приручаются, но не дрессируются. Очень горделивый характер, совсем как у кошек.
– Я никогда не видела дрессированных блох, – сказала Сюзанна.
– Я видел, – сказал хозяин. – Очень смешное зрелище. Они стреляют из пушки.
– Я тоже, – сказала мадам Дюсэй. – Просто невероятно. Особенно когда они скачут в своей маленькой карете.
– Хотя ничего мудреного в их дрессировке нет, – сказал Дядюшка, – их берут ором, как и других животных.
– И людей, – сказал Гораций.
– В основном этим занимаются женщины, у них от этого все ноги в красных пятнышках, потому что они должны их кормить, понимаете. Им, женщинам, это придает особый шарм.
– Ничего себе, – сказал Гораций.
– А в семинарии, – спросил Жак у Дядюшки, у вас были паразиты?
– Никогда!
– Хотя иногда встречаются удивительно неопрятные семинаристы, – сказал официант.
– Это правда, – сказала хозяйка.
– Теперь уже меньше, – сказал хозяин, – потому что сейчас они начинают заниматься спортом.
– Я никогда вам об этом не рассказывал, – сказал Жак, – но я чуть не постригся в монахи.
– Безумие! – воскликнул Дядюшка. – Безумие! Извращение!
– А почему бы и нет? Я мог бы стать епископом и – кто знает – возможно, кардиналом. Или даже Папой Римским.
– А вот мне бы совсем не хотелось стать Папой, – сказал официант.
– А вы сами, – спросил Жак у Дядюшки, – вы сами как долго были кюре?
– Десять лет, сын мой. Не считая семинарии.
– Расскажи ему, как это закончилось.
– Это, наверное, нескромный вопрос, – сказал Жак.
– В моей жизни секретов нет. Как это закончилось? Ну конечно же из-за женщины.
– Готов поспорить, что из-за наездницы.
– Конечно. В то время я был викарием в Сен-Усрале-да-Запомете[63]. Однажды приехал цирк. По улицам города проскакала кавалькада. Я увидел наездницу – и все, втюрился, старина, и втюрился крепко. В тот же вечер я пришел на представление в гражданской одежде и уселся в первом ряду, чтобы любоваться своей возлюбленной. Естественно, все меня узнали.
– Для этого надо иметь редкостное нахальство, – сказал официант.
– А оно у меня было. Потом цирк уехал. Через две недели я его нагнал и устроился в нем клоуном. У меня оказался талант клоуна, а я об этом даже не подозревал.
– Как он нас смешит, когда пародирует мессу, – сказала мадам Дюсей.
– А наездница?
– Естественно, я ею овладел. Бог ты мой, до чего ж красива была, зараза. Я ни о чем не жалел: она стоила краха любой карьеры.
– Траха? – переспросил Гораций.
– Только без пошлостей, – сказала хозяйка.
– Когда вы еще были священником, вам никогда не приходило в голову, что вы можете стать Папой?
– Возможно. Я уже не помню. Зато знаю точно, что когда я был клоуном, то думал, что когда-нибудь выступлю на арене «Медрано»[64], что, впрочем, так и не произошло.
Так, за разговором, они покончили с жареным тунцом, кроликом в горчице и спаржей. Время от времени Сюзанна или Гораций вставали, чтобы обслужить клиентов. Проходя мимо, Сюзанна всякий раз задевала Жака. В итоге он обратил внимание на упругость ее грудей и ягодиц. От нее исходил приятный запах слегка надушенной и чуть запотевающей брюнетки. Он стал посматривать на нее с интересом. Она была совсем даже ничего, волоокая и сочногубая. Когда Сюзанна принесла кофе, он эксперимента ради ущипнул ее за ягодицу. Ему понравилось. Она промолчала.
– Вы будете ужинать здесь? – спросил мсье Дюсэй.
– Сегодня – нет.
– Свидание с подружкой, да? – спросил Дядюшка.
Жак удивился, что после стольких лет тот по-прежнему сохраняет свои кюрешные замашки, и поздравил себя с тем, что не выбрал эту профессию, которая накладывает на людей столь неприятный отпечаток. Впрочем, его не интересовала никакая профессия. Он чувствовал отвращение к специализации и долгим карьерам, от которых всегда остается отпечаток и морщины.
– Ну вот, опять размечтался, – умилилась мадам Дюсей.
– Дядюшка задал вам вопрос, – добавил, посмеиваясь, хозяин.
– Конечно, – ответил Жак. – Свидание с подружкой.
– Я так и знал, – сказал Дядюшка с деланым удовлетворением, так как ему было в общем-то по фигу. – Вы идете в сторону Сент-Женевьев[65]?
– Нет, – сказал Жак. – Я поеду на метро.
– На какой станции сядете?
– Да тебе-то какое дело, – сказала хозяйка, – мсье Жак не обязан перед тобой отчитываться.
– Я еду к великому поэту Луи-Филиппу де Цикаде, – сказал Жак. – Он живет в Рюэйле.
– Не знаю такого, – сказал официант.
Жак встал и выразил желание увидеть всех присутствующих на следующий день.
– До завтра, мсье Жак, – ответили все присутствующие.
IV
Он спустился к Сене, которую пересек благодаря предусмотренному для этой цели мосту. Чуть дальше находилась станция метро, куда он зашел. Он никогда не садился в вагоны второго класса, которые – как ему казалось – не обещали никаких встреч, вот и сейчас, сразу же устроился в первом, хотя должен был избегать любых увлечений и приключений, если хотел приехать на встречу вовремя, а он этого хотел. Итак, дабы скоротать время в этом подземном путешествии, он принялся проверять свои познания в метрологии, уточняя, находится ли выход на той или иной остановке у первого или последнего вагона, повторяя названия всех следующих в нужном порядке станций на разных линиях, разрабатывая самые короткие маршруты, короче, перебирая в голове все сведения, которые могут иметь серьезное значение, когда в силу разных обстоятельств ритм твоей жизни оказывается достаточно напряженным.
На станции Порт-Майо он вышел и поднялся на поверхность. Пересек площадь, чтобы сесть на трамвай, который шел до Рюэйля. Перед луна-парком идущая ему навстречу девушка улыбнулась. Он убавил шаг. Она остановилась. Он остановился. Он ее не узнал.
– Здравствуй, Жак, ты меня не узнаешь?
Она тут же покраснела из-за обращения на «ты». В следующих фразах она перейдет на «вы».
– Здравствуйте, мадемуазель, – сказал он. – А, Камилла. Чем вы теперь занимаетесь?
– Учусь в консерватории. По классу вокала.
– Здорово.
Они посмотрели друг на друга.
– Как дела у ваших родителей?
– О, очень хорошо. А у ваших?
– Спасибо, тоже очень хорошо.
Они посмотрели друг на друга. Они отдаленно и смутно предвидели, куда может завести глупость человеческого языка.
– Я как раз еду в Рюэйль, – сказал Жак. – Извините. Я могу опоздать на трамвай.
Он побежал, чтобы успеть.
Он вошел в трамвай, но не стал садиться. Заплатил за проезд. В мыслительных каналах движение замерло. Минуты отупения.
Внезапно он ощутил неимоверный интерес к кондукторше, статной женщине, которая не отличалась уродством. У нее на голове задорно топорщился маленький служебный головной убор, и она, похоже, прочно стояла на своих ногах, мощных, но гармонично вылепленных колоннах, героически поддерживающих дерзко выпирающие надстройки.
Жак решается с ней заговорить.
И спрашивает у нее: «Вы меня не узнаете?»
А она отвечает: «Нет».
Будешь тут обращать внимание на всех пассажиров, которые прихватывают тебя за задницу и предлагают как-нибудь встретиться.
Он говорит с нежностью: «Доминика».
Она смотрит на него.
Он представляется.
И произносит: «Принц де Цикада».
А она удивляется: «Вы? Принц?»
А он опять спрашивает: «Теперь узнаете?»
А она и говорит: «О да, принц».
– А Камилла? Как у нее дела?
– У нее нормально, она хочет стать певицей, учится в консерватории.
– А как дела у ваших родителей?
– Благодарю вас, принц, хорошо.
– А вы сами, Доминика, как же так случилось, что вы стали трамвайной кондукторшей? Доминика! Доминика?
Она опускает голову.
И отвечает: «У меня были неприятности».
– Какие?
– Давайте не будем об этом, – говорит она.
И вот, в тот же вечер, в час, когда на отдых встают[66] трамваи до Рюэйля, он приглашает ее поужинать «У Максима»[67]. И вот почему: юный принц де Цикада, более известный в мире изящных искусств и словесности под псевдонимом Жак Сердоболь, в детстве, – проведенном в замке Блуа[68], выкупленном у государства его родителями, как известно, мультимиллиардерами, – в детстве, примечательном во многих отношениях, а именно дарованиями, которые юный принц довольно рано продемонстрировал в таких областях, как лирическая поэзия, акварель, фехтование, конный спорт, а также ощущением счастья вкупе с осознанием крупного состояния, коим это детство было полностью пропитано, – итак, в детстве юный принц дружил с двумя девочками по имени Камилла и Доминика, дочерьми управляющего. Камилла его любила, а он питал слабость к Доминике, той, которую только что встретил под видом трамвайной кондукторши и с которой ужинал сейчас «У Максима». Она рассказала ему про свои невзгоды. Какие? Какая разница! Он – принц; она, может (вполне) быть, – трамвайная кондукторша. Она так хотела стать балериной. Но почему нет, Доминика? Он покупает ей маленькую современно комфортабельную и чисто-белую студию с хромированной террасой, он оплачивает ее уроки хореографии, ее платья, ее украшения. Но из уважения даже не прикасается к ней. И вот однажды – сольный спектакль в зале «Плейель»[69], огромный успех, изумление публики, восторженные крики, и в тот же вечер она ему отдается.
– Конечная остановка, мсье, – говорит ему она.
– Извините.
Она с нетерпеливым и пренебрежительным видом дожидалась, пока он выйдет. Только сейчас он вспомнил, что забыл спросить про Доминику у Камиллы. А потом, ну чем эта атлетичка могла напоминать Доминику? Он долго задавался этим вопросом, но ответа так и не нашел.
Он сделал крюк, чтобы не проходить перед отчим домом. Хотя и так в городишке будут об этом болтать, подхалимы растреплют, и до него довольно быстро донесется эхо пересудов в виде папиного письма, полного упреков, саркастических замечаний, а под конец плаксивых излияний.
Де Цикада с мрачной рожей ожидал его, завернувшись в шелка.
– Заходи же малыш И извини меня Видишь Этой ночью мне было как-то особенно плохо и я еще до сих пор немного прибит наркотиками Те что я принимаю на меня как-то странно действуют Они отрезают меня от внешнего мира Который меня больше не интересует Ничем Видишь в общем-то время от времени это совсем неплохо наркотики Болезнь тоже играет свою роль Но я не буду донимать тебя своей болезнью Хочешь что-нибудь выпить Вермут Сейчас дам тебе лед Вермут на полдник очень даже неплохо А ты что у тебя нового Когда я встречаю твоего отца он говорит о тебе с гордостью Похоже ты становишься великим ученым и получаешь дипломы один за другим Поздравляю тебя мой мальчик Трудись трудись что-нибудь да останется Обычно мало что остается В пятьдесят лет не очень-то помнишь чему хотел научиться в двадцать В конце концов я поэт а это совсем другое дело Ну значит ты приехал ко мне с конкретной целью Объясни-ка мне Что тебе от меня нужно.
– Вот, мсье. Один из моих друзей по имени Белепин готовит антологию великих современных непризнанных поэтов.
– А именно?
– Анатоль де Сен-Симфонифуйя, Адальбер Мирюс[70], Симплекс де ля Руин-Эгаль.
– Знать не знаю этих чудиков.
– Урсула Жопосла, Полинетта Вагон, Элиана де Транс-Маис.
– Знать не знаю этих чертовых синих чулок.
– Естественно, потому что они непризнанны.
– Непризнанны! Непризнанны! Как будто может возникнуть дюжина непризнанных одновременно! Нет! нет! для отдельно взятой эпохи может существовать только один-единственный непризнанный! а для данной эпохи! той, в которую живем мы! в данный момент! этот непризнанный! это я!
– Я признаю это, но для антологии требуется несколько имен.
– И ты подумал обо мне?
– Для этого я к вам и приехал.
Де Цикада молча рассмотрел вопрос.
– А сколько платят? – спросил он наконец.
– Дело в том, – сказал Жак, – что у нас огромные расходы. Чтобы организовать издание такого уровня, мы вынуждены просить наших соавторов оказать нам финансовую поддержку.
– А-а…
Луи-Филипп де Цикада, запустив руку по плечо в амбразуру халата, через рубашку почесал правую сторону груди. Он задумчиво рассматривал Жака.
– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросил он.
– Вы еще молоды, мсье де Цикада.
– Еще бы! Сорок семь лет! А ты уже списываешь меня в маразматики? Ты считаешь, что я – старый хрыч, сыч, сморчок, стручок? Развалина, вешалка, галоша? Дряхлый, трухлявый, прогнивший, протухший, обветшалый, обрюзгший, немощный, дефектный, придурковатый хрен, короче, полный мудила? Чтобы я, Луи-Филипп де Цикада, платил за то, чтобы увидеть себя напечатанным в соседстве с непризнанными знаменитостями! Ты, Жак Сердоболь, только посмотри на меня как следует! Надо обладать определенной дерзостью, которой я, впрочем, восторгаюсь, чтобы осмелиться предложить мне подобную сделку.
– Извините меня, мсье де Цикада. Поверьте, что…
– Бесполезно извиняться, м.ч., бесполезно.
Он величественно встал. Переместился к окну. Замер перед облаками и крышами.
– Насколько мне известно, – сказал Жак, – вас никогда не включали в антологию.
– Я – непризнан! – с горечью воскликнул де Цикада. – Непризнан!
Теперь он чесал уже спину.
– Но подумайте, мсье де Цикада, наша антология будет все же отличаться от этих пригородных газет, в которых…
– Знаю, знаю, – оборвал его де Цикада.
Он повернулся. Его лицо изменилось. Теперь оно стало странным. Он сел. Чуть склонился вперед, сложив руки на коленях. Он выглядел как перегонный аппарат[71].
– Знаю, – повторил он.
Он поднял руку, так как ему показалось, будто Жак собирается что-то сказать.
– Заткнись.
Добавил он.
– Сиди. Не двигайся. Плохо дело. Я сейчас сделаю себе укол. Начинается приступ. Твои небылицы меня доконали. Эмоции всегда вызывают у меня приступ.
– Извините меня.
– Заткнись, черт возьми!
Де Цикада встал, дотащился до так называемой кухни. Поставил ковш с водой на огонь, принялся что-то искать.
– Я могу вам помочь?
– Заткнись, черт тебя подери!
Из-за его неловких движений вот-вот по комнате разлетятся ампулы, иголки, брызги лекарств, но нет, нет, шприц ловко наполняется фармацевтической жидкостью, затем проносится иголкой вверх до кроватной тумбочки. Уверенным движением де Цикада развязывает шнурок на своих пижамных штанах, которые ниспадают к его ногам. Он растягивается на кровати, задирает свой халат, берет из коробки клочок ваты, откупоривает бутылку эфира, протирает маленький участок эпидермы, откладывает клочок ваты на тумбочку, берет шприц, вкалывает иглу в плоть, вводит туда субстанцию, вытаскивает иглу, кладет шприц на тумбочку, оправляет свой халат, закрывает глаза.
Анатомия пациента и движения санитара смутили Жака, да еще этот запах эфира. Он уже собирался улизнуть, но де Цикада удержал его жестом. Жак вернулся к окну и сел в кресло возле стола, на котором лежало несколько книг по геральдике – вот отчего у простолюдина запросто крышу снесет. Но Жак не утомлял себя тщетными сожалениями, поскольку по собственному усмотрению устанавливал свое благородное происхождение. Какой у него был герб? Его фамилия, как и его имя, требовали, чтобы на гербе были изображены раковины, но с тем же успехом он мог бы корировать-де золотом свой горностаевый крест, как Каэры[72], или маркировать-де красным три морды серебряных борзых, как Тьерри[73]. Он любовался этими красивыми гербами, каждый из которых принадлежал ему, и находил на случайно раскрытых страницах разнообразные генеалогические сведения. Размышляя о радостях геральдирования, он отметил среди тщеславных обладателей частицы «де» порцию очередных жертв для Белепина. Он ему об этом расскажет.
Целый час де Цикада не шевелился лежа плашмя и, быть может, спал. Но наконец наступил тот момент, когда он принял сидячее положение и утер лицо ладонью.
– Интересно, да?
Жак закрыл книгу и положил ее на стол.
– Да. Обычно все эти штуки совершенно неизвестны.
– Не правда ли?
Де Цикада встал, сделал несколько шагов.
– Сейчас я себя чувствую лучше, – сказал он.
– Я очень рад, – сказал Жак.
– Сейчас я себя чувствую очень хорошо.
– Это было не опасно?
– Простое предостережение. Это не сильный приступ, который приходится гасить десятками уколов, в том числе морфия. Легкое предостережение. Сейчас я себя чувствую хорошо, сейчас я даже выйду, сейчас я прогуляюсь, я поеду в Сюрен. Поехали со мной, если ты не торопишься.
– С удовольствием, – сказал Жак. – Обратно я вернусь на прогулочном пароходике.
– Идея удачная и романтическая, – одобрил де Цикада.
Он снял свой халат, продемонстрировав фланелевый жилет, длинные трусы и подвязки для носков. Надевая брюки, он рассказывал:
– Ах, Сюрен. Ах, мой дорогой Жак, ты даже не знаешь, что это для меня значит.
– Я раскрою тебе один секрет, – добавил он, застегивая ширинку. – Если меня так волнует уже одно название, одно лишь название «Сюрен», то только потому, что там живет та, которую я люблю, женщина, которую я люблю, моя женщина, моя жена, моя супруга, которая меня покинула, которая меня оставила, которая меня бросила, она меня подставила, злодейка, после десяти лет супружеской жизни, мерзавка, но я ее все еще люблю, стерву, эх, малыш, иногда я гуляю неподалеку, время от времени я замечаю ее издали, она все такая же красивая, у нее все такая же бесподобная фигура, у нее все такой же свежий цвет лица, у нее парикмахерская в Сюрен, порой я осмеливаюсь подойти, чтобы увидеть ее мельком, вспомнить ее черты, ее формы, но издали, лишь издали, ибо она меня ненавидит, и если увидит, то набросится с кулаками, надает тумаков, как давала когда-то, эта женщина – особенная, не как другие, ах, Жак Сердоболь, ты даже не знаешь, как можно любить в моем возрасте, особенно когда это безнадежно, а оставила она меня, ты, малыш, даже не угадаешь, из-за чего или, точнее, из-за кого, ты еще слишком молод, чтобы знать о таких гнусностях, она меня похерила ради женщины, понял, м.ч., до тебя дошло, удивительно, не правда ли? ах, малыш, такие истории случаются только с поэтами.
Он закончил одеваться. Подробно оглядел себя в зеркале и выбрал трость. Удачно крутанул ее, после чего сунул под мышку.
– В путь! – воскликнул он.
Он хотел поймать фиакр около Мальмезона, но там их не оказалось. Он отважился сесть в автомобиль, ландо, Жак сел позади него. Так, на этом трясучем механизме, они отправились в Сюрен. Сначала они молчали, охваченные радостью от передвижения с такой скоростью по рюэйльскому округу, который оба так хорошо знали. Потом, в тот момент, когда машина зафыркала на подъеме, де Цикада возобновил разговор.
– Ты влюблен?
– Ну, в общем, у меня есть подружка.
– Понимаю. Это еще не любовь. Увидишь позже. Однажды. Как сожмет тебе тисками сердце, как разобьет его – хрясь! – а потом оно будет кровоточить, кровоточить. Всю жизнь. Но вернемся к нашим мериносам[74] (я сказал «к мериносам», дабы избежать общего бараньего места, несколько избитого со времен Панурга[75], избежать общего места – в этом суть всей поэзии, я заявляю тебе это между прочим, я шепчу тебе это между нами, не говори об этом никому! молчок! секрет! могила!), скажи мне, малыш, твоя антология это серьезно?
– Серьезнее и быть не может, мсье де Цикада.
– И надо платить?
– Сорок франков страница, мсье де Цикада.
– Сорок франков страница?
– Сорок франков страница, мсье де Цикада.
– Ну и цены!
– Это на рекламные расходы, мсье де Цикада.
– У вас будет большая рекламная кампания?
– Гигантская, мсье де Цикада.
– Ты мне сделаешь небольшую скидку?
– А наши рекламные расходы, мсье де Цикада?
– Старому другу семьи?
– А наши рекламные расходы, мсье де Цикада?
– У меня на это нет средств, я всего лишь бедный поэт. Ну же, малыш, уступи по тридцать франков за страницу.
– А наши рекламные расходы, мсье де Цикада?
– Я куплю у тебя пятнадцать страниц. Пятнадцать страниц по тридцать франков.
– Сорок, мсье де Цикада.
– Но не могу же я упустить такую возможность!
– Сорок, мсье де Цикада.
– Поклянись, что это всерьез!
– Сорок, мсье де Цикада.
– Ну ладно! ладно! Я куплю у тебя десять страниц! Четыреста франков!
– Оплата наличными.
– Ай!
– А рекламные расходы, мсье де Цикада?
– Старый друг твоего старого отца.
– А рекламные расходы, мсье де Цикада?
– Безжалостная молодежь!
Де Цикада вытащил из кармана толстый суфьяновый[76] бумажник.
– Ты напишешь мне расписку?
– Прямо сейчас!
Они попросили водителя тормознуть, дабы дать возможность одному составить бумаженцию, а другому – выудить из скаредного кошеля востребованную деньгу.
Сделка заключилась, и дрын-дрын тронулся. Де Цикада улыбался с довольным видом, Жак думал уже о другом. Наконец доехали до бульвара де Версай. Де Цикада попросил остановиться около вокзала и улетучился. Жак спустился к Сене.
На пароходике почти никого не было. Жак устроился на скамейке на корме, за его спиной, убегая вдаль, тянулась вереница пейзажей, сменяющихся под мерное движение медленно плывущих барж. Мирно работали заводы, на ветру колыхались деревья Леса[77]. Предгородья были прелестны. До чего же все это казалось продуманно безмятежным. Жак закуривает сигарету, и вдруг волна подхватывает маленький пироскаф и относит его в зону мощного циклона. В метаметеорологическом тумане пролетают долгие часы и наверняка дни. Жак продолжает курить. Затем море успокаивается, и Жак понимает, что остался один. Утонули его попутчики, утонуло все человечество. Он держит штурвал и ведет свое судно в никуда. Тем временем вода начинает нагреваться и закипать: дело в том, что земля приближается к солнцу. Вода кипит, кипит, кипит, и океаны медленно испаряются. Жак продолжает дышать: вне всякого сомнения, его легкие претерпели необходимую трансформацию. В силу внезапной мутации Жак превращается в саламандру, в гелиоколя[78], в несгораемый, живой комочек асбеста. Теперь земля выглядит как булыжник, докрасна раскаленный огнем небесной печки, и, разумеется, конечно же, естественно, уже давным-давно нет и самого пароходика, который разбился, сгорел, сгинул. Позднее, после того как солнце, вдруг задутое каким-нибудь космическим ветром, затухает, сразу же становится очень холодно, и земля раскалывается на тысячи ледяных кусков, которые разлетаются по безднам пространства. На одном из этих осколков находится Жак Сердоболь, правда, в виде споры с очень твердой скорлупой. Но этому семени достаточно толики тепла от какой-нибудь мечты, чтобы вновь пробудилась человеческая форма Жака Сердоболя, который в этот момент просматривает «Спортивный Париж».
– Мне бы никогда не пришло в голову поставить на лошадь с такой кличкой, – сказал Белепин, глядя, как Жак забирает у букмека[79] закобыленный выигрыш.
– Не следует доверять предрассудкам, – сказал Жак.
– Конечно нет, – сказал Белепин. – Но все равно, до чего мерзкие эти паразиты, даже говорить о них противно.
– Вы очень щепетильны, мсье Белепин, – сказал Жак.
– С гигиеной следует все же считаться. Смерть вшам[80] да мошкам! Смерть мандавошкам! Каков слог?
– Хи-хи, – хихикнул Жак.
– Хорош потешаться. Где башли?
Жак вытащил из портмоне банкноты.
– Двести франков мамаши Жопосла и четыреста франков де Цикады.
– Превосходно. Вот ваши десять процентов.
– Сэнк ю.
– Стихи де Цикады у вас?
– Нет. Я забыл у него спросить. Зато вот стихи мамаши Жопосла.
– Впрочем, это не имеет никакого значения, – сказал Белепин, – учитывая то, что я с ними сделаю.
– А что вы с ними сделаете? – спросил Жак.
– Ну разумеется, ничего!
Жак посмотрел на него.
– Это вас удивляет?
– Нисколько. Разумеется, вы с ними ничего не сделаете!
Он доехал на такси до улицы Лувра[81] и послал де Цикаде перевод на четыреста франков. Вернулся пешком.
– Какой же я все-таки дурак.
Он пошел по набережной. Люди возвращались домой. Они возвращались из кинематографа.
II
V
Сюзанна подтерла мальчишку, затем отнесла его в кровать. Жак, утопая в кресле, курил сигарету, пепел с которой регулярно падал на ковер, ковер затрепанный и засаленный. На столе в фиолетовой тени от порожней на три четверти бутылки с нажористым красным винищем остатки продуктов превращались в отходы. От окурка, лежащего на краю тарелки, к сероватому потолку тянулась прямая струйка дыма. Раздается стук в дверь, входит Бютар[82].
И говорит: «Вот те на, а Сюзанны нет».
Он садится.
Жак сообщает ему, что она укладывает мальчишку.
– С Мишу все нормально?
– Да.
Жак встает, выливает себе в бокал остаток вина, выпивает.
И говорит: «Я пойду. Пойду работать. Останусь там на всю ночь».
А Бютар ему и отвечает: «Ну тогда спокойной ночи. Счастливо поработать».
Городишко погружается в сон. Жак проходит мимо ярко освещенных пучин трех-четырех кафе, но не бросается в них. Он доходит до крепостных стен, вдоль которых и идет. Внизу шумит местами бурная речка. Предприятие «Бапоно»[83] расположено на окружной дороге, вне города. Жак звонит, вылезает сторож с болтающимися до колен подтяжками, расстегнутой ширинкой и слипшимися волосами. Он открывает дверь, заявляя при этом о своей готовности вкрадчивыми и тонкими намеками надоумить г-на Бапоно снабдить своего инженера-химика личным ключом. После чего опять уходит дрыхнуть. Жак пересекает двор, скрипит гравий. Жак входит в свою лабораторию и – не обращая внимания на оживление, которое его приход вызвал у крыс, мышей и прочих зверушек, призванных сносить последствия его фармацевтической и ветеринарной деятельности скорее химического, нежели биологического характера, – садится.
Курит сигарету.
Затем, отвлекшись от отсутствия мыслей, встает и обходит лабораторию; отстраненным взором осматривает бутыли, колбы, реторты, пробирки и кристаллизаторы на столе, где сушатся растения, поодаль – клетки с животными для откорма, закармливания, отравления, заражения и даже для излечения. Он обходит свои владения. Через стекло смотрит на спокойствие города, – обильно, но ненавязчиво освещаемого стараниями усердной муниципальной администрации, одним из самых деятельных членов которой, кстати, является Бапоно, – затем на расположение звезд. И по ходу перечисляет названия нескольких созвездий.





![Книга Хотели как лучше... [СИ] автора Тей Таниэль](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)


