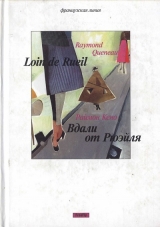
Текст книги "Вдали от Рюэйля"
Автор книги: Раймон Кено
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Annotation
Жизнь-эпопея Жака Сердоболя происходит на грани яви и сновидения, в додумывании и передумывании (якобы) фиктивных историй, увиденных в кинематографе, которые заменяют главному герою (якобы) действительную историю его собственной жизни. Читатель, а по сути, зритель переходит от детских фантазий (ковбой, король, рыцарь, Папа Римский, главарь банды…) к юношеским грезам (спортсмен, бродячий актер, любовник…) и зрелым мечтаниям (статист в массовке, аскет, ученый-химик, путешественник…), а под конец оказывается в обществе стареньких родителей и их гипотетического внука, завороженно наблюдающего за экранными подвигами заморского киноактера, который чем-то очень похож на него самого…
Раймон Кено
I
II
III
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Librs.net
Благодарим Вас за использование нашей библиотеки
Librs.net
.
Раймон Кено
Вдали от Рюэйля[1]
I
I
Помои вывалились из металлического ведра и ухнули в мусорный бак: яичная скорлупа, огрызки, очистки, засаленные обрывки. Низвержению сопутствовал вялый, – но не такой уж и отвратительный, – гниловатый запах, подобный запаху влажного мха в лесной чаще, правда, слегка отдающий цинком из-за самой емкости, стоящей подле тележки, на которой ее каждое утро выкатывают к краю тротуара перед приездом мусорщиков. Ведро, избавленное от содержимого, повисло на мужественной руке, уже готовое к возвращению на седьмой этаж, когда появилась служанка. Она считала, что мусор выкидывать дело не мужское, но из деликатности смолчала, не желая комментировать вид призрачного персонажа в халате, почтившего своим присутствием черную лестницу.
Джентльмен предложил свою помощь, поскольку ему показалось, что служанка несла что-то тяжелое, но та отказалась. А еще он спросил, давно ли она здесь служит, нет, сегодня первый день как. Он был в курсе, ибо знал всю прислугу в доме, ее нравы и обычаи, ее отъезды и приезды. Они поднялись вместе. Дошли до последнего этажа; он, облаченный в узорчатый шелк, обитал под самой крышей, питая слабость к мастерским художников в мансардах, хотя сам художником не был.
Он предложил девушке зайти к нему на минутку. Экий вы, однако, прыткий, возмутилась она. Он пожал плечами. Да за кого она его принимает? Он прошел дальше, к другой двери, тихонько постучал и напел несколько тактов из «Травиаты»[2]. На пороге появилась молодая особа с упругими формами, которая, недолго думая, предложила партию в белот[3] на троих, спросив, так это ты новенькая. Меня зовут Тереза, добавила особа, а ее, ответила новенькая, зовут Люлю[4] Думер[5].
Тип переспросил, так как она, Люлю Думер, насчет партии в белот на троих? Она не умеет играть. Он открыл дверь своей обители, и они вошли. Электрический свет явил взору Люлю то, что за всю свою недолгую жизнь она еще не имела возможности видеть воочию, а именно артистический интерьер: мягкий ковер, твердые подушки, китайские безделушки, приглушенное освещение, средневековые алебарды, бретонские кресты, фотографии акрополей, предметы, столь же фольк-, сколь и фальш– лорные, и уйма прочих штуковин того же пошиба.
Классно здесь, сказала Люлю Думер с высоты своих четырнадцати лет.
– Обалдеть можно, да? – спросила Тереза. – Причем весь этот бардак это тебе не туфта. Только оцени, насколько шикарна каждая фигня.
– Здорово, – ответила Люлю Думер, – просто здорово.
– Такие квартирки нечасто встретишь, – сказала ей Тереза. – Не все ведь поэты.
И не всех зовут Лу-Фифи. Так знакомые упрощали имя Луи-Филиппа де Цикада[6], который тем временем в шкафчике шуровал. Он достал оттуда бутылку алкоголя и рюмки, поставил их на поднос. Положил печенье. Тереза взяла Люлю Думер под руку и увлекла в сторону закутка, где покоилась могильная бездна дивана, от которой поднимался тяжелый дух.
Они уселись, прохрустели печеньем, выпили, и Люлю Думер, распарив желудок неразбавленным марком[7], внезапно почувствовала себя ну совершенно в своей тарелке. Де Цикада расстелил зеленую скатерть и раскрыл колоду карт.
– Жалко, что она не умеет играть в белот, – произнес де Цикада.
– Ну не в батай[8] же играть, – сказала Тереза.
– Она наверняка и в бридж не умеет, – произнес де Цикада.
– Нет, мсье, – ответила Люлю Думер.
– Как и я, – сказала Тереза. – Всякий раз, когда ты начинал меня учить, я засыпала.
– Ты – лентяйка, – сказал де Цикада, тщательно перемешивая карты. – Ну так что будем делать?
– Я могу вам погадать, – предложила Люлю Думер.
– Ты умеешь? – спросила Тереза.
– Да.
– Я тоже, – призналась Тереза.
– Этот талант ты от меня скрывала, – заметил де Цикада, передавая карты Люлю Думер.
– Кому сначала? – спросила Люлю Думер.
– Ему, – ответила Тереза.
– Мне, – подтвердил де Цикада.
– Снимите три раза левой рукой, – сказала Люлю Думер.
– Снял, – сказал де Цикада.
– В последний раз было всего две карты, – заметила Тереза.
– Ничего, – ответила Люлю Думер.
– Я в таких случаях прошу снять заново, – сказала Тереза.
– У каждого свой метод, – сказал де Цикада. – Не сбивай ее.
– Это вы, – объявила Люлю Думер, вытаскивая червового короля.
Де Цикада кивнул.
– Блондинка, – продолжала Люлю Думер. – Тридцать пять лет. Профессия? Ну-ка посмотрим. Белошвейка? Нет. Ага, бубновая восьмерка: она держит парикмахерскую.
– Вы узнали все это из карт? – спросил де Цикада.
– Она тебя сразила наповал, – сказала Тереза.
– Сходится? – спросила Люлю Думер.
– Я действительно знаю одну даму этой профессии, – ответил де Цикада.
– Продолжим. Червовая десятка: вы ее любите. Червовая девятка: безумно. Пиковая девятка: она вас не любит. Крестовая семерка: неужели это ваша дама?
– Продолжай, – сказал де Цикада.
– Бубновая восьмерка: она любит другого человека. Бубновая дама: черт, ничего не понимаю! Это женщина!
– Не понимаешь?! – воскликнула Тереза. – Понять не трудно, просто ты еще слишком молода.
– Из того, что ты рассказала, ничего нового я не узнал, – произнес де Цикада.
Люлю Думер смешала карты.
– Не обижайся, – сказал ей де Цикада.
– Можно разложить заново, – сказала Тереза.
– Теперь ваш черед, – предложила ей Люлю Думер.
– Спасибо, – сказал де Цикада. – С меня довольно.
– Тогда мне, – сказала Люлю Думер.
Тереза попросила ее сдвинуть карты левой рукой всего один раз. Она читала карты по-другому. Де Цикада молча и мрачно курил, а Тереза вещала об утраченных предметах, доброжелательных дальних родственниках, выгодных путешествиях и болезнях, на которые не стоит обращать внимание. В общем, все оказалось не так уж и мрачно.
– Не так уж и весело, – промолвил де Цикада. – Да и как предсказание жизни может быть веселее самой жизни? На два дня раньше или на три месяца позже, одна и та же тягомотина. Когда играешь, ненадолго забываешь об этом, но если игра лишь напоминает о прошлых неудачах, ну ее к чертям собачьим!
– Просто в ваших картах оказались пики, – сказала Люлю Думер.
– Ну что, Лу-Фифи, тогда, может, сыграем в экарте[9]? – предложила Тереза. – Вдвоем.
– Мне уже не хочется.
– Вы меня рано прервали, – сказала Люлю Думер. – Может быть, дальше пришли бы хорошие карты.
– Может быть.
– Похоже, вы мне не верите.
– Лу-Фифи не верит, – вмешалась Тереза, – это из-за его болезни.
– А что с вами? – спросила Люлю Думер.
– Онталгия[10], – ответила Тереза.
– Он – что?
– Онталгия.
– А что это такое?
– Экзистенциальная болезнь, – ответила Тереза, – похоже на астму, но только более изысканная.
– Вы здорово подкованы по этой части, – сказала Люлю Думер.
– Это он мне все объяснил.
Де Цикада набивает трубку и закуривает. Его движения основательны и размеренны. Люлю Думер наблюдает за ним, а Тереза начинает раскладывать пасьянс.
– Ты откуда? – спрашивает она у Люлю.
– Из Танкарвиля[11], под Гавром.
– А-я-ис-Пари-и-и-жа, – растягивает Тереза.
Де Цикада степенно вынимает изо рта свою трубку. Он произносит:
– Из Парижа, что близ Понтуаза[12].
Выдав это, он важно вминает свой мундштук обратно в рот.
– Я ездила в Гавр один раз, – говорит Тереза, – посмотреть на море и на корабли. Забавно.
Де Цикада выдавливает изо рта свой наргиле:
– Вот именно что забавно.
Де Цикада обратно вдавливает свой чубук.
– А вот я, – говорит Люлю Думер, – представьте себе, я тоже была там всего один раз, чтобы сесть на поезд до Парижа. Я даже моря не увидела.
– А вот я, – говорит Тереза, – я знаю в Рюэйле таких людей, которые никогда не видели собор Парижской Богоматери.
Де Цикада вытаскивает свою носогрейку, отводит ее на несколько миллиметров ото рта и, выпустив дым, подтверждает:
– Точно.
Затем вновь стискивает губами свой курительный прибор.
– Здесь, в вашей дыре, не развлечешься, – говорит Люлю Думер.
– Место тихое, ничего не скажешь, – соглашается Тереза. – По воскресеньям – кино. А если захочешь потанцевать, то можешь доехать до Сюрен[13], там готовят мидий, и картошка фри вкусная. А что тебе еще надо? Я налью еще по одной?
Де Цикада утвердительно склоняет голову. Тереза снова наполняет рюмки.
– А еще есть музей, – продолжает она, – в Мальмезоне[14]. Там полно всяких штук времен Императора. Именно туда он заслал свою Жозефину, когда она начала его доставать. Все ж какой мерзавец этот Наполевон, хотя мужики все такие. Принесут в жертву бедную женщину, лишь бы добиться почета, и даже не задумаются. Поэтому я тебе и говорю, мы, женщины, никогда не должны доверять типам с амбициями; рано или поздно такой обязательно бросит.
– А почему бы мне самой не-дабица-пачота? – вопрошает Люлю Думер.
– Говорю же, он тебя бросит.
– А почему бы не попробовать дабица-пачота одной? Я тоже желаю быть ик богатой ик-ик почитаемой.
Де Цикада вытряхивает пепел на тарелку.
– Тогда надо идти в шлюхи.
– Фигурка у нее ничего, – оценивает Тереза. – Как ты думаешь, Лу-Фифи?
Де Цикада переводит взгляд на Люлю Думер.
– Ничего, – нравоучительно изрекает он.
– А почему, – вопрошает Люлю Думер, – в меня не может влюбиться какой-нибудь богатей, может, даже какой-нибудь принц? Такое же случается.
– Случается, – авторитетно подтверждает Тереза.
– Индийский принц? – спрашивает де Цикада.
– Почему бы и нет? Они самые богатые, у них белые слоны и брюлики размером с яблоко.
– Он увезет тебя к себе.
– На своей собственной яхте.
– На бело-золотой, я видела такие в бухте Коммерс в Гавре.
– У меня будут слуги, драгоценности и право на жизнь и смерть моих подданных.
– Ты там заскучаешь и захочешь обратно в Понтуаз.
– Вот еще! А потом, я смогу запросто возвращаться во Францию, когда пожелаю.
– Если этого захочет твой раджа.
– О! Он захочет то, чего захочу я.
Де Цикада смотрит на нее и улыбается.
– Голова у нее на месте, – по-отечески изрекает он и добавляет: – Такая милашка далеко пойдет.
– В Аргентину, – подсказывает Тереза.
Люлю Думер улыбается в потолок.
– Любуется своим принцем, витающим в воздухе, – комментирует Тереза.
Люлю Думер смотрит непонятно куда. Указательным пальцем она изящно скребет голову.
– У тебя что, вши? – спрашивает у нее Тереза.
Люлю Думер не отвечает: она очень далеко отсюда.
– У тебя вши? – кричит ей в ухо Тереза.
– У меня? Нет! – отзывается Люлю Думер.
– А у меня были, – говорит Тереза.
– Ну уж поменьше, чем у меня, – говорит де Цикада.
– Лу-Фифи, не хвастайся, – говорит Тереза.
– У меня тоже они были, – говорит Люлю Думер, – когда я была маленькой.
– У меня – в школе, – говорит Тереза.
– У меня – в армии, – говорит де Цикада.
– Возвращаюсь я как-то домой. А мать мне и говорит, Люлю, до чего же ты растрепанная. Причесывает меня. И что же обнаруживает на расческе? Вошь. Причем не одну.
– А мне мать все время говорила, Тереза, что ты все время чешешь голову? Потому что я действительно чесала себе голову. Наконец, она посмотрела, что у меня в волосах. Бог ты мой, сказала мама, да ведь это же вошки!
– А я в армии как-то опускаю рассеянный взгляд на свою тумбочку.
– Меня обмазали какой-то жирной мазью, и она испачкала мне всю подушку.
– Мне выбрили наголо голову и натерли каким-то черным мылом. Было больно, я плакала. А потом надо мной смеялись девчонки, и мальчишки тоже.
– И что же я вижу на этой самой тумбочке?
– В конце концов, всех вшей извели, но потом мне пришлось спать на вонючей подушке.
– Не весело девчонке ходить с бритой головой.
– Но эта вошь была не моя, она перебежала ко мне от соседа, очень неряшливого парня, которого непонятно почему звали Трескаль.
– Странные твари, – замечает Люлю Думер. – И зачем их только Бог создал?
– Это еще что, – замечает де Цикада, – вы знаете только вшей телесных. А если бы вы, как и я, познакомились с бельевой вошью, так вот от нее, дети мои, от нее, милые мои, нет никакого избавления. Приходится убивать их поодиночке или кипятить всю одежду, а это дело нешуточное.
– Проще всего, – говорит Тереза, – давить их ногтем.
– Они при этом хрустят, фу! – поморщилась Люлю Думер.
– Все насекомые хрустят, когда их давишь, – заметила Тереза.
– Люди тоже хрустят, когда их давишь, – заметил де Цикада. – Представь, малышка, что тебя кладут под копер, и если он на тебя упадет, ты тоже хрустнешь.
– Какой ужас! – воскликнула Люлю Думер, поправляя непослушный локон.
Тереза внимательно приглядывается к де Цикаде добрых пять минут, после чего спрашивает:
– С тобой все в порядке?
Де Цикада не отвечает. Тереза переспрашивает:
– Лу-Фифи, с тобой все в порядке?
Вот уже добрые пять минут он выглядел как-то странно. Он мрачнел. Черты его лица обострялись, удлинялись, вытягивались. Люлю Думер ничего не замечала, потому что была не в курсе.
– С тобой все в порядке, Лу-Фифи?
Он трясет головой, что означает «нет». Он дышит совершенно ненормально. Говорить не хочет. Может быть, даже не может. Может быть, даже если бы захотел.
– Хочешь, я сделаю укол?
Он трясет головой, что означает «нет». Теперь он сидит согнувшись, упираясь руками в колени.
– Зря. Ты же сам знаешь, что каждый раз все заканчивается уколом.
Она поясняет Люлю Думер:
– Он каждый раз думает, что онталгия быстро отпустит, но она не отпускает, он каждый раз надеется, ждет до последней минуты, но в итоге все равно приходится прибегать к наркотикам.
Люлю не очень врубается в то, что происходит, но ей становится не по себе. Она боится, что дядька шлепнется на пол и изо рта у него потечет слюна, как это иногда случается с людьми на улице.
Луи-Филипп де Цикада, обоими кулаками опираясь на колени, Луи-Филипп де Цикада, согнувшись, дышит просто ненормально, то есть начинает осознавать свое дыхание из-за того, что в данный момент оно работает неважно. Нельзя сказать, что он, Луи-Филипп де Цикада, задыхается, нет, так сказать нельзя, но в данный момент он удручен; в момент, последовавший за осознанием своего затрудненного дыхания, Луи-Филипп де Цикада удручен сужением легких, легочных мышц, легочных нервов, легочных каналов, легочных сосудов, это что-то вроде удушья, но не того, что сдавливает горло, сжимает глотку сверху, а удушье, которое начинается снизу, которое охватывает одновременно с обеих сторон, это удушье всей грудной клетки, полное сковывание дыхательных путей. А теперь, а теперь становится еще хуже. Это удушье берет не за горло, как если бы мощные руки сжимали шею, нет, это удушье поднимается из мрака диафрагмы, распространяясь от самого паха до трахей, а еще это удушье тоски, крах настроения, кризис сознания. А теперь, а теперь становится еще хуже, ибо это страшнее, чем сковывание, страшнее, чем сдавливание, это – физиологическая пропасть, анатомический кошмар, метафизический ужас, возмущение, стон; сердце бьется слишком быстро, руки судорожно сжимаются, кожа потеет. Луи-Филипп де Цикада подобен рыбе, брошенной на дно лодки, он в отчаянии разевает рот, поскольку чувствует, что сейчас умрет, поскольку чувствует, что уже умирает. Но Луи-Филипп де Цикада, неподвижно застывший в кресле, заброшен в мир, где людям дышится труднее, чем рыбам, выуженным из воды, Луи-Филипп де Цикада не умрет, хотя чувствует, что умирает, он не умрет, по крайней мере, на этот раз, он дышит все глубже и глубже, но его дыхание замирает, уже ничто не проникает в грудь, кажется, он больше не выдержит, и все же он держится. Большой атмосфере, окружающей земной шар, на котором живет Луи-Филипп де Цикада размером с вошь, этой большой атмосфере не удается, хотя он судорожно открывает пасть, беспрестанно увеличивая амплитуду, этой большой атмосфере никак не удается просочиться в его глубины, в глубины человека размером с вошь; там внутри есть маленькое пространство, куда она, большая атмосфера, не проникает вовсе, маленькое, разветвленное, словно два сросшихся дерева, пространство, которое отторгает большую атмосферу.
Тереза настаивает:
– Ну что? Сделать тебе укол?
Он что-то сипит. Кивает.
– Филонтин или ничтотин?[15]
О, ему уже все равно.
Люлю Думер смотрит на него с жалостью. Бедный дяденька, думает она, даже не в силах выбрать себе лекарство, а ведь лечение – штука серьезная. Тереза идет за шприцем и снадобьем, Тереза идет кипятить воду. Все это время Лу-Фифи продолжает борьбу, свой одиночный бой, свои легочные маневры; обильно течет едкий пот. Взгляд Лу-Фифи уходит в такие дали, которые невозможно даже представить. Бедный, бедный дяденька, думает она, Люлю Думер.
– Готово! – кричит Тереза.
Он встает. Опираясь на стул, стол, доходит до кровати. Отстегивает подтяжки, расстегивает ширинку, задирает халат, спускает штаны, затем трусы и ложится, продемонстрировав свои ягодицы Люлю Думер, которая думает, да-а, ну и оригиналы же они здесь.
Тереза щупает ягодицу, ищет удобное место, которое в итоге находит, трет кожу ватой, пропитанной спиртом, и раз! втыкает иглу, после чего наркотик медленно вливается в кровь. Бездыханный де Цикада экзальтированно таращится в потолок; у него отсутствующий вид. Выбитый из колеи переживаемой агонией, он истекает потом и судорожно сжимает пальцы. Кажется, он сейчас умрет, судя по его глазам, он уже очень далеко. Нет, он не умрет, нет, он не умрет; проходят удручающие минуты, постепенно удушье отпускает, сжимавшийся панцирь, сдавливавший грудь, дает слабину, и время от времени де Цикаде удается глубоко вздохнуть; проходит еще несколько минут, распростертый плашмя де Цикада дышит более или менее нормально, в забитых слизью легких начинает свистеть и булькать. Лу-Фифи лежит молча и неподвижно.
– Оставить тебя одного? – спрашивает у него Тереза.
Он закрывает глаза, затем их снова открывает, торжественно. Тереза накрывает его одеялом. Уводит Люлю Думер.
Из комнаты Терезы видны бурлящие и блестящие парижские холмы, Люлю Думер смотрит и заявляет:
– Как здесь классно! Провинция может отдыхать.
Тереза достает из-под кровати бутылку шартреза[16].
Протягивает Люлю Думер маленькую чашечку, себе наливает в стакан из-под зубной щетки.
– Сколько сейчас времени? – спрашивает Люлю Думер.
– Одиннадцать часов.
– Уже одиннадцать. И часто тебе приходится его колоть?
– Говори тише, не то разбудишь. Когда он чувствует, что болезнь подступает, или когда я ему нужна, он стучит в стенку, и если я здесь, то иду к нему. Но обычно его прихватывает ночью, а ночью я почти всегда здесь.
– Он тебе платит?
– Он делает мне маленькие подарки, но я бы ухаживала за ним и без этого. По-дружески.
– А что с ним происходит? Штрангулеты[17]?
– Что?
– Штрангулеты. Так это называется у нас в Танкарвиле, в районе Нижней Сены.
– Нет, эта болезнь вряд ли известна вашей деревенщине, поскольку она совсем новая, к тому же экзистенциальная.
– А как ты можешь это объяснить?
– Говорю же тебе, экзистенциальная. Название известно, а вылечить невозможно.
– А вши – тоже болезнь?
– Может быть. Не исключено, что тоже экзистенциальная. Надо спросить у доктора.
– Что бы там ни было, но, судя по всему, бедный старик ужасно страдает.
– Он не такой уж и старый.
– А кто он по профессии?
– Поэт.
– Как Малларме?
– Да.
– Такой же знаменитый?
– В Рюэйле – очень известный, в Нантере[18] и Сюрене – чуть меньше.
– Слушай, а это правда, то, что я прочла в картах?
– Да. Жена его бросила, но не ради другого мужчины.
– А ради чего?
– Подумай.
– Я даже не знала, что такое бывает.
– Да уж, пакость, конечно, но на белом свете чего только не бывает.
– А он все еще любит ее, ну, ту женщину?
– Похоже на то.
Раздается глухой стук в стену.
– Он меня зовет, – сказала Тереза.
Они допили шартрез.
– Извини, малышка, – сказала Тереза, – пойду посмотрю, что ему от меня надо.
Они вышли. Люлю Думер пошла к своей комнате, Тереза вошла к де Цикаде. Лампа у изголовья освещала лицо утопленника, которого вытащили на берег. Де Цикада закрыл глаза.
– Плохо, да? – тихо спросила Тереза.
Де Цикада даже не пошевелился.
– Лу-Фифи, – вполголоса позвала Тереза.
Де Цикада открыл глаза.
– Плохо, да?
– Морфин, – произнес де Цикада.
– Ты хочешь, чтобы я тебя прикончила?
– Морфин, – произнес де Цикада.
– Не хочешь подождать? Может, пройдет само?
– Морфин, – произнес де Цикада.
– Хорошо, сейчас мы тебя доконаем.
– Спасибо, – прошептал де Цикада и устроился поудобнее, вытянувшись во весь рост в расширившемся от укола, экстатическом пространстве.
Наутро у него внутри еще что-то хрипит, нечто с металлическим, вернее, с металлоидным, чуть ли не с серным привкусом, а солнышко уже плывет высоко в небе. Де Цикада, напевая, встает, к раковине идет, наспех умывается, гигиена это не для поэтов, тщательно и изысканно одевается, выходит и недоверчиво принюхивается к свежему воздуху; решается наконец на улицу, в меру проворно, приветствует людей направо-налево, входит в кафе к Артюру, приличное, кстати, заведение, подсаживается за столик к уже сидящему там Сердоболю[19], поскольку тот всегда платит за выпивку, они поздравляют друг друга с хорошей погодой в такой и до чего ж славный денек и заказывают самый крепкий аперитив, известный на тот час.
– Как поживают твои носки? – спрашивает де Цикада.
– Скорее неплохо, – отвечает Сердоболь, который их производит и не имеет на этот счет никаких предрассудков.
Когда-то давным-давно Сердоболь породил на свет оду, одну-единственную оду – было ему лет восемнадцать, он взял в руки перо и целый месяц корпел над восьмисложниками, – с тех пор питал слабость к искусствам, благоговел пред поэзией, пред интеллектуалами, а посему восхищался де Цикадой тем паче, что тот был, похоже, единственным великим человеком в Рюэйле, пусть и не слишком знаменитым, поскольку слава его, судя по всему, не простиралась за пределы этого посредственно пригородного местечка.
– Коль носки поживают неплохо, то неплохо и все остальное, – изрек де Цикада.
– Черт возьми! – рассмеялся Сердоболь. – Носок – один из признаков общественного процветания.
– Прекрасно! – воскликнул де Цикада. – Прекрасно, Сердоболь! А как же поэзия?
– Оставляю ее вам, де Цикада. Вы прекрасно знаете, что я всего лишь бедный мелкий производитель, заурядный буржуа.
Сердоболь искренне восхищался представительностью собеседника, изяществом его плаща, белизной гетра, узлом галстука, длиной волос, шириной черного фетра.
– Ну-ну, только без ложной скромности. Уж один-то сонет вы наверняка породили за свою жизнь, нет такого человека, который бы не породил сонета за свою жизнь, хотя бы одного, даже в наше время полного поэтического маразма.
Сердоболю ничего не оставалось, как сознаться в своей оде.
– Вот видите! – воскликнул де Цикада. – Вы должны мне ее показать.
Сердоболь ее давно кремировал.
– Жаль, – выдал де Цикада.
– Я же знаю, что она ничего не стоила, не то что ваша, та, которую вы написали о лесах Сен-Кукуфа[20] и Императорской дороге. Здорово!
– Приятно слышать.
– А ваша эпикалама[21] на свадьбу мадемуазель Предлаже и младшего Морельена из «Морельен Младший и К°», до чего же это было трогательно!
– Старался по мере сил.
– А эклога[22] о ресторанчике папаши Вош: просто умора!
– Должен признать, она пришлась кстати.
– Вы можете писать стихи на любые темы.
– Даже о носках. Носок тоже достоин воспевания.
– Интересно, как к вам приходит вдохновение?
– Обычно когда я сдерживаю мочеиспускание.
– А что, это как-то связано?
– Непосредственно. Напряжением.
Тут подходит Предлаже. Он садится за их столик, поскольку тоже знает о привычке Сердоболя угощать выпивкой местных интеллектуалов. Предлаже – энтомолог. Все поздравляют друг друга с хорошей погодой в такой и до чего ж славный денек, и Предлаже заказывает самый крепкий аперитив, известный на тот час.
– Возвращаясь к разговору обо мне, – заявляет де Цикада, – я – живой парадокс.
– Прокомментируйте нам это заявление, – просит Предлаже.
– Хорошо! Вопреки пословице «нет пророка в своем отечестве», я здесь пользуюсь авторитетом. Мною восхищаются. Мною восхищается мэр. Мною восхищается помощник мэра. Мною восхищается главный редактор «Рюэйльских хроник». Мною восхищается Сердоболь. Мною восхищается Предлаже. Мною восхищается бакалейщик. Мною восхищается лесник. Мною восхищается весь Рюэйль, и даже Нантер, Сюрэн и Курбевуа[23]. Увы, как только переезжаешь Сену, там я уже никому не известен, а поэты тех областей меня и знать не хотят. Например, при упоминании моего имени поэты Парижа и даже Нейи[24] усмехаются, что, впрочем, с ними никогда не случалось раньше; они даже смеяться не умеют – невежи!
– Мы живем так далеко от столицы, – произносит Сердоболь.
– Да и потом, подобно Юлию Цезарю, я предпочитаю быть первым в Рюэйле, чем каким-нибудь – цатым-сятым в Париже.
– А почему бы вам не стать первым и в Париже? – восторженно восклицает Сердоболь.
– Явился! Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?! – спрашивает жена.
– Действительно, запоздал. Представь себе, лапушка, я засиделся у Артюра, аперитивничая с де Цикадой.
– Общение с богемой тебе явно не на пользу. А теперь еще и рожа как у алкоголика!
– Тсс, тсс! Здесь же ребенок. Здравствуй, Жако!
II
Жако отвечает классическим «Здравствуй, папа»; выбегает горничная с традиционным «Кушать подано».
– Представь себе, – продолжает Сердоболь, – в самый разгар разговора де Цикада заявляет «носок тоже достоин воспевания», как это мило с его стороны, ты не находишь?
– И что это значит?
– А это значит, лапушка, что я предложу ему написать маленькое стихотворение, прославляющее мои носки. Заплачу ему, скажем, луидор[25].
– Ты с ума сошел! Двадцать франков! Чтобы покрыть эти расходы, сколько же придется продать носков?
– Но подумай, ведь это стихотворение самого де Цикады. Жако, не клади локти на стол и скажи мне, какой вид стихотворения я мог бы у него попросить?
– Например, рондо[26].
– Расскажи-ка нам, что это такое.
– Рондо – это стихотворная форма, подчиняющаяся жестким правилам: тринадцатистишие с двумя повторяющимися рифмами и паузой в пятой и восьмой строке, где начальное слово или начальные слова повторяются после восьмой и тринадцатой строки, но сами полноправной строкой не являются.
– До чего умный ребенок! – восклицает Сердоболь. – Не удивительно, что ты всегда первый в классе по грамматике.
– Может, это и стоит луидора.
– Можешь не сомневаться, я семь раз отмерю толщину кошелька, прежде чем отдать деньги.
– А вот сочинит тебе какую-нибудь глупость – и плакал твой луидор.
– Сначала пускай покажет. Хотя этот де Цикада все-таки талантлив. Почитай его эпикаламу на свадьбу мадемуазель Нузьер[27] и молодого Морельена из «Морельен Младший и К°».
– …-таламу, – поправил Жако. – Та-, папа, не ка-, а та-, папа!
– Да ты у нас просто юный ученый! – восторженно воскликнул Сердоболь.
После закуски подоспело пареное первое, затем жареное второе. Их почтили-с вниманием-с.
– Все это, конечно, хорошо и прекрасно, – заявила мадам Сердоболь, – но ведь он ничего не смыслит в трикотажном деле, твой поэт. Он хоть знает, как изготавливаются носки? Он хоть знает, что у нас за клиентура? Готова поспорить, что нет.
Сердоболь пережевывает свои раздумья.
– Возможно, лапушка, ты и права. Я мог бы дать ему какие-нибудь указания в письменном виде, но боюсь, это его заденет.
– Но ведь надо его ввести в курс дела.
– Он благородных кровей. Не только поэт, но еще и дворянин.
– У него есть титул?
– Он – граф, лапушка. Граф.
– Граф де Цикада? – осмелился спросить Жако.
– Да, сын мой, и очень древнего рода, который восходит к Нуа и Бруа[28].
Все же удивительно, что он, Жак Сердоболь, не граф, не герцог и не принц. Ничто не мешает ему в один прекрасный день стать Папой Римским, королем Франции или великим ламой, но все же поразительно, что он не родился ни герцогом, ни графом, а почему, кстати, почему, собственно говоря, не. В графстве, например, нет ничего такого уж сенсационного, ведь де Цикада – граф, хотя и разгуливает по улицам Рюэйля со всем своим поэтическим реквизитом за исключением непонятно где припрятанной лиры. Жако считает, что этот граф просто смешон, Жако полагает, что дворянский титул подошел бы лучше ему самому, чем этому дядьке, Жако всегда ощущал себя аристократом. Вот почему, когда однажды, встав из-за стола не дотянув (-шись) до десерта, он прошмыгнул в кабинет матери, вскрыл ее секретер и обнаружил корреспонденцию, явно доказывающую его, Жако, внебрачное и де-цикадное происхождение, он ничуть не удивился. Таким образом, оказывалось, что он сродни Бруа и Нуа. С некоторой генеалогической натяжкой эта линия связала его с герцогами де Сен-Симон[29], от них – с королевскими бастардами[30], а в итоге и с самим Филиппом Красивым[31], который в качестве предка нравился Жаку Сердоболю больше всех. А там уж было совсем недалеко и до Гуго Капета[32]. Таким образом, в нем, Жаке Сердоболе, текла не просто голубая, а прямо-таки королевская кровь. К своему совершеннолетию он получает в наследство замок Амбуаз[33] и в скором времени женится на дочери итальянского короля. Тем временем граф Парижский[34] признает его право на корону, отрекается в его пользу, происходит смена власти, и вот уже он, Жак Сердоболь, возносится на престол Франции под именем Жака Первого, родоначальника и основателя династии Сердоболингов. Его коронуют, как короновали Карла X и Карла VII[35], чьи миропомазания по-разному освещаются в учебниках по истории Франции. Но в этот момент отец – не тот, настоящий, де Цикада, а этот, фальшивый, Теодор Сердоболь, – вздыхая над ванильным муссом, произносит:





![Книга Хотели как лучше... [СИ] автора Тей Таниэль](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)


