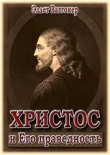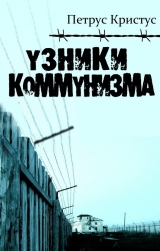
Текст книги "Узники коммунизма (СИ)"
Автор книги: Петрус Кристус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Архитектор Миллер
Что такое Магнитогорск? Это одна из гигантских строек сталинской пятилетки, обошедшаяся нашей Родине в сто тысяч загубленных жизней. И не каких-нибудь «контриков» и «бывших», а простых крестьян, превращенных советским социализмом в так называемых «кулаков» и «подкулачников». И когда на костях этих несчастных в голой пустыне был воздвигнут Магнитогорский металлургический комбинат, его начальника, некоего Павла Абрамовича Завенягина, наградили орденом Ленина и, очевидно, в порядке продвижения назначили начальником строительства Норильского комбината, куда он и соизволил прибыть в конце 1937 года. (Его предшественнику Матвееву при Ежове дали 10 лет и отправили на Колыму). Говорили, что Завснягин палач, готовый на всё лишь бы обеспечить себе быструю карьеру, что под псевдонимом Завенягина подвизается один из выдающихся работников Лубянки, для которого орден Ленина и благоволение Сталина были важнее судеб десятков тысяч крестьян, жизнь которых он положил в основание своей карьеры.
Он очень хорошо говорил по-русски и холодными улыбками отмечал свое восхождение по энкаведистской лестнице. На его жаргоне заключенные не умирали, а дохли, и, если какие-нибудь счастливцы всё-таки умудрялись отбывать свои сроки в пять или 10 лет, Павел Абрамович спокойно санкционировал так называемые «довески», и отбывший свой срок заключенный снова получал из Москвы дополнительные три, пять или десять лет…
Переселившись в Норильск, Завенягин немедленно же распорядился, чтобы ему выстроили особняк – коттедж. Для этого лагерем были выделены лучшие строительные бригады, во главе с архитектором, бывшим членом германской коммунистической партии Миллером, имевшем 10 лет заключения с 5-летним поражением в правах. На мой вопрос, как он, будучи видным коммунистом, мог очутиться в Заполярье в качестве советского арестанта, да еще в роли строителя коттеджа для высших палачей НКВД, – он ответил мне: «Советский коммунизм – это Азия. И если я заблудился в ее джунглях, то от этого я не перестану быть коммунистом!».
Это был человек маленького роста, с наружностью провинциального врача и умом малого ребенка. Несмотря на то, что машина НКВД раздавила его своими колесами, он всё еще продолжал бодриться, руководил строительством коттеджа и доказывал, что «только настоящий коммунизм спасет мир».
Однажды коттедж посетил «сам» Завенягин. Его сопровождали лейтенанты госбезопасности, главный инженер комбината и архитектор Миллер. Несмотря на одобрительный отзыв о его работе, Миллер, выпроводивши высоких гостей, сел на скамейку и тихо сказал: «Ну, что эти люди понимают в архитектуре?!».
Летом 1939 года несколько человек заключенных были изъяты из лагеря и посажены в новую только что выстроенную тюрьму. Им было предъявлено новое обвинение в подготовке террористического акта против… Завенягина. Обвиняемые написали ему заявление с просьбой разобрать их дело и снять с них тяжкое обвинение. Павел Абрамович собственноручно ответил им на их же бумажке:
«В готовившееся на меня покушение не верю, но помочь вам ничем не могу». После этого коттедж стал охраняться часовыми. Однажды кто-то из соседей по нарам угостил архитектора Миллера сладким чаем с белыми сухарями. Он ел предложенное ему угощение, вздыхал, охал и, наконец, допивая последнюю чашку чая, сказал:
– О, какой добрый сердце имеет русский человек! И почему ему навязали такой уродливый социализм?
– Потому же, почему и вы из свободного немецкого архитектора превратились в советского арестанта, – ответили ему рядом лежавшие на нарах заключенные.
Возмездие
История этого дела такова.
В годы НЭП'а, соблазнившись лозунгом Бухарина «обогащайтесь», он бросил батрачествовать, женился и стал обзаводиться хозяйством.
К концу двадцатых годов, на 10 гектарах полевой земли, он уже имел две пары лошадей, три коровы, десятка два овец, две свиньи, пятнадцать кур, собаку и кошку. Одним словом «окулачился». А когда, в 1930 году, он отказался вступить в колхоз, его вместе с другими объявили «злостными кулаками», обвинили в «кулацком саботаже», судили и темной ноябрьской ночью расстреляли на разгромленном кладбище города П. Семьи расстрелянных были вывезены куда-то на Урал.
…В 1937 году, в одном из Средне-Азиатских овцеводческих совхозов «летучая кавалерия» комсомольцев обнаружила вредительскую группу «врагов народа», в которой очутился и пастух того же совхоза Дмитренко. Часть этой группы расстреляли, а часть с разными сроками отправили в концлагеря.
Дмитренке дали 10 лет и осенью того же года привезли в Заполярье. По состоянию здоровья он имел третью категорию и работал дневальным и истопником в бараке плотников. О себе и своем прошлом он почти никому не рассказывал, вел себя очень замкнуто.
Соседом его по нарам был один глубоко верующий человек, с которым он всё-таки делился своими переживаниями.
Потерявши всё в жизни, он охотно слушал беседы о Боге и религии и не раз, взволнованный ими, плакал.
– Неужели над этими палачами никогда не прогремит кара Божия? – часто спрашивал он своего соседа.
– Тогда я увидел бы, что хоть на небе еще осталась Правда… А до этого я не могу верить, как ты…
Когда в 1939 году в наш лагерь прибыло несколько партий арестантов из бывших партийных работников, среди них оказался и прокурор из П.
– Ничего, – говорил своему соседу Дмитренко, – на эту морду, когда пробьет ее час, я наведу такой ужас, что от одной лишь встречи со мной он или с ума сойдет или же подохнет. Этот палач из нашего района, – он меня хорошо знает! Я ему, гаду, скажу: «Ну, дружок, ты тогда расстрелял меня, но я вот воскрес, и теперь уж буду тебя судить».
И он шепотом рассказал:
– Я был легко ранен, притворился мертвым, примерно, через час, после расстрела, выбрался из плохо засыпанной землей могилы, на хуторе у знакомых подлечился и под чужой фамилией очутился в Средней Азии. Как видишь, под этой фамилией я попал и к тебе в соседи…
…Спустя несколько недель, бывшего прокурора из П. нашли в уборной.
Когда труп был вытащен и обмыт, в затылке его нашли глубокую ножевую рану. Убийцы остались необнаруженными. Обсуждая происшествие, заключенные говорили:
– Собаке – собачья смерть!
Петренко-Дмитренко стал еще более мрачным.
Пропавшие без вести
Как известно, большевики отказались подписать в Гааге конвенцию о военнопленных, заявив, что, если даже чины Красной Армии и попадут в плен к противнику, то их будут рассматривать, как дезертиров и изменников родины.
После заключения мира с Финляндией, возвратившиеся из плена на родину командиры и красноармейцы были судимы Ревтрибуналом Ленинградского военного округа. Значительную часть их расстреляли, а остальных, «расстрелянных» условно, небольшими партиями разослали по концлагерям НКВД.
Одна из таких «небольших» партий в количестве 1500 человек попала в Заполярье. Здесь «расстрелянных» заключили в отдельный лагпункт и изолировали от остального лагерного населения и внешнего мира. Суровый режим и строгая тайна окружали их в лагере.
Вначале их даже не посылали на работы вне «зоны», но потом, спустя несколько месяцев, бывшие красноармейцы стали ходить на промывку золотоносного песка, рытье шурфов для георазведки и на другие работы, где они не могли встречаться с остальными заключенными. Ежедневно можно было видеть шедшие на работу и обратно в спецзону серые колонны «расстрелянных», сопровождаемые конвоем из отборных лагерных охранников.
Но шила в мешке не утаишь. По Норильлагу поползли слухи, что заключенные из спецзоны, носившие еще военную униформу, хотя и без установленных для красноармейцев знаков отличия, привезены в Заполярье, как «живые мертвецы», в наказание за сдачу в плен финнам.
Сперва эти слухи носили характер лагерных «радио-параш» и предположений, но потом они подтвердились осторожными рассказами самих «расстрелянных», изредка попадавших тяжелобольными в общелагерную больницу. А еще через несколько месяцев, с разрешения Москвы, бывших красноармейцев начали использовать на общих работах в комбинате, что дало возможность войти с ними в непосредственное соприкосновение.
Таким образом «расстрелянные» не только «ожили», но через вольнонаемных начали пробовать устанавливать нелегальные связи со своими домашними, которым из Красной армии официально было сообщено, что их сыны, мужья и братья «пропали без вести».
Под большим секретом (за разглашение тайны условный расстрел заменялся им действительным) несчастные бывшие красноармейцы рассказали, как их вывезли из Финляндии и, как после краткого допроса, заочно судили и после с условным расстрелом привезли к нам.
Многие из них сокрушались:
– Почему мы не остались в Финляндии, когда нам финны предлагали остаться у них? Почему не уехали в Америку по предложению Красного Креста?
И действительно, многие уехали из плена в Америку и этим избежали действительного и условного расстрела.
Прикрываясь трескучими фразами о беззаветной любви к родине и Сталину, «пропавший без вести» Николай Симонец писал своей старухе-матери в Смоленскую область:
«Дорогая моя мамаша!
Пишу вам пока кратко, чтобы вы знали, что я, ваш сын Николай, нахожусь в далеком краю, чувствую себя здоровым и бодрым и с радостью участвую не только в обороне нашей счастливой Родины, но и в строительстве социалистического общества под сияющими лучами бессмертной сталинской конституции и мудрым водительством ее творца – великого отца, друга и учителя тов. Сталина.
Адрес мой вышлю в следующий раз. Крепко обнимаю и целую вас, ваш счастливый сын
Николай».
Крестьянка Смоленской области Евдокия Симонец, получившая весточку от сына, всё плакала и приговаривала, крестясь на маленькую, почерневшую от времени иконку:
– И спасибо тому товарищу Сталину, что он даже из пропащих вызволил моего сына…
Бедная старуха, весть от сына сделала ее действительно счастливой.
А ее сын, Николай, надрываясь на земляных работах в вечной мерзлоте, проклинал в это время и сталинскую конституцию, и самого ее творца. Лагерное же радио орало:
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
В краслаг
…Существовала установка ГУЛАГА, чтобы в наш лагерь направлялись только здоровые и трудоспособные заключенные. И это правило действовало до 1939 года, пока наш лагерь не превратили в режимный, особого назначения, который должен был принять новый 17-тысячный, этап из заключенных ежовского набора. Когда этап прибыл к нам в Заполярье, на людей обрушилась эпидемия кровавого поноса. Врачи растерялись. Почему туземцы и старые лагерники понятия не имели об этой болезни, а новоприбывших она косила?
Правда, в трехмесячные полярные ночи, когда человека одолевает болезненная сонливость и безнадежная тоска, граничащая с отчаянием, некоторые заключенные заболевали цынгой, но с нею быстро справлялись при помощи противоцынготного отвара из хвойных игл и всяких таблеток. Еще многие жаловались на болезненное сердцебиение и одышку, вызванную ненормальным давлением воздуха, но это болезнью не считалось и на таких больных никто не обращал внимания.
Кровавый понос был новым явлением в нашей жизни. Все амбулатории и больницы были переполнены заболевшими, а количество их всё возрастало. Запретили пить сырую воду, но заболевания не прекращались. Шел сентябрь месяц и наступили зимние холода. Это давало надежду врачам, что эпидемия скоро прекратится. И, действительно, через пару недель заболевания пошли на убыль, но ранее заболевшие продолжали болеть и умирать. Наконец, администрация строительства, опираясь на приказ ГУЛАГа, решила избавиться от сотен нетрудоспособных заключенных, дошедших до крайней степени истощения, стала организовывать обратный этап на «материк». Попутно с больными решено было вывезти и тех заключенных, срок которых истекал зимой и которых нельзя было ни оставить вольнонаемными до весны, как пораженных в правах, ни вывезти в Красноярск: в зимнее время связь с материком поддерживалась только гидропланами. Таким образом, вместе с тремястами больных были назначены в этап и человек 10 здоровых, в том числе и я. Срок мой кончался 10 января. Оставить меня на стройке лагерное НКВД не могло, и я был вызван на этап. Это случилось в октябре 1939 года. Перед этапом устроили нам, как обычно, тщательный обыск, отбирали бумагу, карандаши, колющие и режущие предметы, спички, книги. Отобрали у меня чудесный гербарий с 60 экспонатами заполярной флоры. Протестовал – не помогло. Пропала моя коллекция, над которой я столько трудился.
Потом стали нас загонять в грязный, сырой и темный трюм. Помещение, в котором с трудом могло разместиться каких-нибудь сто человек, набили тремястами тяжело больных поносом, посредине поставили огромную бочку-парашу с перекладинами и дверь закрыли, приставив к ней с наружной стены постового. Пароход отдал концы.
Еще раз через иллюминатор я взглянул на уходившие из глаз знакомые берега Дудинки, вздохнул и… на душе снова стало тихо – легко и торжественно.
Я лежал в темном углу под трапом и подводил итоги прожитым мною в Заполярье 1235 дням… В машинном отделении стучали поршни и колеса, мне казалось, что они отсчитывают эти дни, которые никогда уже не повторятся.
Необозримые дали тундры… 60-градусные морозы и «намордники» против них. Стосуточная ночь с величественным Северным сиянием и «черной» пургой, заметавшей трактора, поезда, дома, людей. Изоляторы смертников и более 700 расстрелянных… и среди них много мучеников за веру Божию.
– Петр Дудкин, 55 лет, за попытку пробраться на Старый Афон, был задержан на польской границе, осужден за «измену родине», препровожден в Норильск и расстрелян в апреле 1938 года.
– Костромской епископ Никодим (б. викарий Чигиринский), за отказ отречься от Христа, расстрелян в январе 1938 года.
– Старик-раввин за твердое стояние в своей вере расстрелян вместе с епископом Никодимом.
– Приват-доцент Ленинградского института журналистики Дроздовский, за изучение иностранных языков (ожидание интервенции). Время расстрела не установлено.
– Украинский поэт Лаппо за патриотические стихи. Время расстрела не установлено.
И сотни других, мне знакомых и незнакомых, интеллигентов, рабочих и крестьян… Мир праху вашему, дорогие соузники и мученики!
* * *
…Отдельная Дудинская строительная дистанция. Летние и осенние месяцы 36 года. Работа в ТНБ. В громадной брезентовой палатке, разбитой на торфяном покрове, жили мы, инженерно-технические работники. Палатка стояла под косогором и под ней стал протекать небольшой ручей. Бывшая советская интеллигенция и урки по ночам в него мочились. А в глухом углу палатки стояла «красная доска», в заголовке которой красовались слова «вождя»:
«Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей!».
Строили мосты и по снегу прокладывали трассу в Норильск.
Первый раз в жизни грустно прощались с заходящим на три месяца солнцем, а двадцать четвертого января радостно встречали его восход, приветствуя криками и восклицаниями. В эти тяжелые три месяца хотелось было заснуть, чтобы проснуться с восходом солнца. Но нужно было работать, чтобы отбыть срок и вырваться на волю.
Потом припомнилось 2 июля 37 года. В этот день вскрывался Енисей. Какое это было потрясающее величественное зрелище! Образовавшийся ледяной затор был опрокинут валом прибывшей воды, гигантским колесом в 50 метров высоты, с треском и грохотом выкатился на берег, превратившись в белоснежную сыпучую гору… Водяной вал, обогнув Дудинку и затопляя низкие места, понесся вниз к острову Диксон. А за ним, увлекаемые быстрым течением, на льдинах плыли деревья, какие-то бревна, строения и две человеческие фигуры. Было видно, как они махали нам руками, взывая о помощи, но кто мог спасти их!
И еще вспомнилось, как в этом году некоторые заключенные устраивали побеги в тундру – в объятия голодной смерти. Но один беглец всё же добрался до «материка» и письмом сообщил своим приятелям из… Средней Азии. Большинство заключенных было законвоировано, а так называемых «тяжеловесов» загнали в специальные бараки-изоляторы, окруженные тройным рядом колючей проволоки и усиленной охраной. А поздней ночью пришел и мой черед… Дважды убеждали меня в НКВД, чтобы я «бросил свою религию», и остриг бороду, обещали досрочное освобождение из лагеря и большой пост в комбинате. Не помогло. С радостью пошли мы в изолятор, где потом попали в списки смертников… С наступлением 38 года из Дудинки перевезли нас в Норильск на Кирпичный завод. Это была «командировка» для обреченных. Тяжелые физические работы, плохое питание, а по ночам вызовы в «этап смерти»… Жуткие это были ночи! Несчастных уводили за Рудную гору и там над шурфами геологических разведок расстреливали. Потом летом, когда снег в шурфах растаял, работники изыскательной партии видели торчавшие из них ноги и руки… Я чувствовал, что приближалась и моя очередь. И горы, и тундра, и снега, и здания, и люди, казалось мне, – прощались со мной каким-то особенно грустным прощанием. Обрывались последние связи с жизнью. Когда накануне расстрела Дудкину приснился сон, что его вызвали в далекий этап, мы поняли, что час его пробил. И я ожидал подобного сна… И вот приснилось мне пасхальное богослужение и такое дивное пение: «Христос воскресе»… А когда я проснулся, душа моя была наполнена каким-то особенным чувством свободы и мира. Я понял, что смертная чаша миновала меня, и меня ждет другая жизнь. Кончилась страшная ежовщина – и часть обреченных снова вернулась на места своей прежней работы в лагере.
…Еще мелькнул 39 год… И прибытие большого этапа из «врагов народа», а среди них – тузы и короли партийных и советских верхушек. Заключенные опознавали в них своих бывших следователей, судей, прокуроров…
Некоторые, узнавая их, избивали до полусмерти.
Однажды приходит ко мне знакомый инженер-механик, рассказывает, как он имел удовольствие познакомиться только что с женой Косарева, красавицей грузинкой и хочет меня с ней познакомить.
– Не желаю я знакомиться с этими людьми, мне не о чем с ними говорить, – ответил я инженеру. Но потом среди них я нашел очень много прекрасных людей. Человеческая душа даже в падении своем иногда бывает прекрасна… Прекрасна в своем сокрушении и смирении.
1235 дней провел я в этом заточении, из них 6 месяцев в изоляторе. Неужели всё это кончилось, и меня вывозят «на материк», о котором заключенные Норильлага могли только мечтать? Да, везут! Я уже на пароходе… Но куда?
…Поздно ночью послышались протесты. От дверей и до параши через всю длину трюма стояла очередь больных. Сойдя с параши, больные снова становились в очередь, чтобы через 20–30 минут иметь возможность снова на нее сесть. Некоторые тут же валились на пол и умирали, а другие «доходили» на своих местах. Воздух в трюме был наполнен тяжким смрадом. Дышать было нечем. Стали стучаться в закрытые двери. Послышался голос конвоира:
– А ну, там, чего стучите?
– Откройте двери, дышать нечем!
– Все не подохнете. Начальник конвоя не велел открывать!
– Позовите начальника! – закричало несколько голосов.
Через несколько минут появился начальник, некий Кузнецов, выслушал жалобы больных и грозно заявил:
– Иллюминаторы есть, открывайте их и дышите, а дверей вам не открою. Если же кто и подохнет, завтра сдадим его на берег. А ежели станете еще стучать и шуметь, дам распоряжение применять оружие!
Только утром открылись двери, чтобы дать нам завтрак и вынести из трюма 8 трупов.
А потом снова та же история, почти до самого Красноярска. В Игарке, Туруханске и Енисейске снесли на берег еще 19 трупов.
Так НКВД избавлялось от ненужных инвалидов и безнадежно больных.
В знакомый мне Красноярский «Распред» мы прибыли ночью 2 октября и в ожидании подачи эшелона на Канск разместились на двухъярусных деревянных нарах и повалились спать.
Джапаридзе
Старику было около восьмидесяти лет. Среднего роста, с ярко выраженными грузинскими чертами лица, седой, с короткими серебристыми усами над плотно сжатым ртом. Говорит чуть с заметным кавказским акцентом. Говорит медленно, отчетливо, ясно. В обращении с другими вежлив и прост, но держит себя, независимо и с достоинством. Он развил в себе и вынес на волю крепкое чувство взаимопомощи и солидарности с товарищами по заключению, и не раз очень смело и решительно выражал его.
Так, например, когда конвой, сопровождавщий наш лихтер (баржу), стал избивать одного из политических, он первым вступился и гневно крикнул:
– Не смейте, изверги, бить человека!
Он делился с нуждавшимися последними скромными запасами сухарей и сахара и никогда никому ни в чем не отказывал.
Всё его поведение невольно внушало к нему уважение. Даже уголовники уважали его.
Старый революционер, друг и сподвижник Сталина, дядя и учитель Алеши Джапаридзе – одного из двадцати шести бакинских комиссаров, расстрелянных англичанами в 1918 году, человек с огромным политическим и революционным прошлым и, наконец, советский арестант, «враг народа», он медленно умирал. В Тифлисе у него остался 15-летний сын, но с ним ему было запрещено переписываться. О его судьбе он ничего не знал. И это его очень угнетало.
Хотя по убеждениям мы были с ним и разные люди, но это не мешало нашему сближению. В минуты откровенности он, как бы жалуясь на кого-то, в глубокой скорби делился со мной своими переживаниями.
– Очень хороший у меня мальчик. Из пятого класса перешел прямо в седьмой. Очень любит учиться и всё на своем пути преодолевает. Через своих друзей еще в Тифлисском НКВД я получил от него записочку, в которой он писал мне: «Папа, мне известно, что ты страдаешь невинно, и я всегда буду уважать тебя и любить…».
На последнем слове голос у старика дрогнул и оборвался. Он перевел дыхание и почти шепотом продолжал:
– Если вам удастся выбраться на волю, пожалуйста, дорогой мой, повидайтесь с моим сыном и расскажите ему обо мне.
Когда я всё-таки очутился на воле, мне к сожалению, так и не удалось побывать в Тифлисе.
Ночью, когда заключенные спали, мы лежали рядом на своих местах и тихо беседовали. Он охотно рассказывал мне о царской каторге и политкаторжанах, о своем аресте и о том, как тифлисские следователи отказались вести его дело. Один из них даже застрелился, оставив записку на имя Сталина, в которой обвинял последнего во всех бедах, обрушившихся на страну и только бывший грузинский князь, приехавший из Москвы, довел следствие до конца, чтобы дать ему восемь лет и пять поражения.
Однажды я задал ему вопрос, какая разница между царской каторгой и советскими концлагерями? Джапаридзе глубоко вздохнул и, указывая пальцем на потолок лихтера, взволнованно ответил:
– Небо и земля! Хотя я тогда и был закован в кандалы, но меня считали человеком и никто не посмел мне грубого слова сказать, тем более издеваться над нами…. А кормили как! Три фунта казенного хлеба, три четверти фунта мяса и не теоретического, как у советов, а прямо с весов. А борщ или суп до того жирный готовили, что, право, есть невозможно было. Кроме того, мы имели неограниченные возможности пользоваться лавочкой и базаром. Покупай, что хочешь и сколько хочешь, были бы деньги.
А на праздниках Рождества или Пасхи нашу каторгу заваливали пасхами, куличами, яйцами, рыбой, колбасой, окороками, мясом, салом, сахаром, конфетами. Горы всего! В течение нескольких недель после праздников мы питались этими пожертвованиями, а казенное довольствие деньгами записывали на книжку. А работа? На постройке Амурской железной дороги я должен был накопать и на тачке отвезти грунта средней плотности на расстояние 30–40 метров – 0,6 куб. метра. За эту работу мне еще платили несколько гривенников золотом. Кто хотел – шел зарабатывал, не хотел – не работал. По праздникам и воскресным дням совсем не работали. А сколько их было? Пятьдесят два воскресенья, двенадцать больших и более десяти малых праздников, Новый год, царские дни, последние дни Страстной Седмицы – на говенье, всего 85 дней. А если к этому прибавить еще дни непогоды, дождей, пурги, сильных морозов, то для работы в году оставалось каких-нибудь 220–250 дней! Такова была царская каторга! А что происходит на сталинской каторге, вы сами хорошо знаете!
Джапаридзе снова передохнул, откашлялся и продолжал свой рассказ:
– Из Соловецкого изолятора, где мне пришлось пробыть в одиночке более двух лет, я писал Джугашвили: «Coco! Ты помнишь, как мы с тобой при проклятом царизме в Бакинской тюрьме жарили шашлык? А чем ты меня теперь кормишь?». Не знаю, было ли ему передано мое письмо, но кормить меня продолжали той же «баландой»: вареная вода, две-три гнилых картошки с листьями мерзлой капусты в ней и 400 грамм хлеба – вот и весь сталинский «шашлык», – сострил он и улыбнулся. Потом, глядя прямо перед собой, продолжал.
– Сталин не только великий деспот, но и великий трус. Я его знаю хорошо. Такой личной охраны, какой он себя окружил, не имеет ни один правитель в мире. До ареста я ездил к нему в гости почти каждую неделю. Больше сотни раз я побывал у него под Москвой на даче. На кухне у него работают чекисты – врачи и химики, специальный штат всяких поваров. Боясь отравления, он ест только то, что тщательным образом проверялось химическим анализом и контролем врачей.
Сталин не терпит никаких возражений и беспощадно расправляется с теми, кто высказывает их.
Джапаридзе снова остановился, глубоко вздохнул и продолжал:
– Когда в последний раз мне пришлось быть у него под Москвой и он, играя со мной на биллиарде, как бы мимоходом задал вопрос, остаюсь ли я по-прежнему на своих позициях.
– Я почувствовал, что судьба моя предрешена.
В конце нашей беседы я задал ему еще один вопрос:
– Шавла Фомич! Вот вы всю жизнь свою посвятили и отдали революции. Теперь, на восьмом десятке лет, вы сами попали под ее колеса… Хотели бы вы проснуться, скажем, в 1913 году и забыть весь этот советский кошмар?
– О, мой дорогой! С какою радостью я согласился бы на это пробуждение даже с царскими кандалами на руках и ногах. Я проклинаю тот день, когда впервые вступил на революционный путь и буду благословлять приход смерти, если она прервет мои страдания, которые Джугашвили хочет растянуть на восемь лет. Я уже живой труп. Вера Фигнер и Фроленко – те хоть утешают себя богоискательством и религией, а у меня и этого утешения нет! Ничего нет! Пустота… Ноль! Джапаридзе умолк и стал нервно откашливаться.