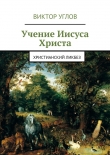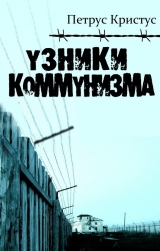
Текст книги "Узники коммунизма (СИ)"
Автор книги: Петрус Кристус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Из Сиблага – в Заполярье
…8 июня 1936 года. Красноярский распред. Бараки все были переполнены, и нас, прибывших из Яйского лагпункта, разместили в наспех поставленных палатках, обнесенных колючей проволокой. Ждали отправки в Заполярье. Кормили удовлетворительно. Рядом в тупике стоял эшелон с женским этапом. Откуда он прибыл никто не знал. Мы только знали, что и они, эти несчастные женщины, тоже будут отправлены в Заполярье.
Еще утром нас предупредили, что вечером будет посадка на баржи, а ночью караван должен будет оставить Красноярск. Но замешкались с какой-то дополнительной погрузкой и наш караван смог двинуться в путь только утром 9 июня.
Цвела черемуха и шел густой снег. С севера дул холодный ветер. Енисей, недавно очистившийся ото льда, медленно пробуждался от долгой сибирской спячки, и быстро наполнялся полою водою. Буксирный пароход «Красноярский рабочий» стал в голове каравана из 13 барж и лихтеров, вытянул их на середину реки и медленно начал набирать скорость. Развернулась панорама города и ближайших гор, и всё стало от нас удаляться…
– Прощай, Красноярск! Сколько на своем веку ты видел разных этапов? Сколько по твоим улицам прошло несчастных, обездоленых, гонимых? Но где же этот конец? Обманутый народ России ожидал его в 1917 году.
Тогда пели:
«Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землей!»
Церкви сравняли, а тюрьмы остались… И количество их увеличилось во много раз!
Раздался гудок с буксира, выбравшегося на речной простор и дающего полный ход всему каравану.
– Прощай, Красноярск! Увижу ли я тебя снова, когда пробьет мой «звонок» и я смогу возвращаться обратно на родину? Или меня завезут туда, где «Макар телят не пасет» и откуда возврата уже не будет?
Заключенные толпились на палубе барж и каждый думал о себе и своем горе, об оставленных где-то близких и родных, о будущей жизни в далеком Заполярьи. И сжалось сердце, и глаза наполнились слезами.
Уже далеко за поворотом гористого берега я с ясностью почувствовал, что мне суждено будет еще раз увидеть его… И у меня на душе стало так радостно и спокойно, словно я плыл не за 59 параллель северной широты, а на какое-то торжество. Молитва – великая сила!
Нарушили тяжелое молчание и остальные зэ-ка. Появились песенники, – понеслись по Енисею песни, то весело-бодрящие, то грустные и печальные. Так караван наш вошел в бесконечную тайгу, сплошным массивом обрамлявшую оба берега. Иногда кое-где у подножья невысоких холмов показывались небольшие сибирские деревушки, сперва с церковками и часовеньками, а потом и без них – два-три десятка рубленых изб. Но чем ниже мы спускались по реке, тем реже стали попадаться нам эти деревушки. Иногда появится на берегу несколько изб, махнет нам оттуда какое-то человеческое существо рукой – и снова тайга бесконечная и дремучая.
А вот на десятки, а может быть и на сотни километров следы от лесных пожаров… Енисей становится полноводнее и шире: два, три, пять километров, а караван всё плывет да плывет. Прошли сутки, другие, третьи. На баржах – люди, лошади, коровы, мешки с провиантом, ящики, тракторы, станки и штабели сена… А на них – стайка воробьев: плывут вместе с нами в Заполярье. Без статей и сроков плывут. Днем они весело чирикали, а ночью спали в тюках сена. А на месте, в Дудинке, они устроятся в конюшне. Но они уже никогда не возвратятся в Красноярск… Может быть, они со временем тоже акклиматизируются и побелеют, как заполярные куропатки и совы, и станут заполярными воробьями. Но до самого октября 1939 года я видел их такими же, какими мы привезли их из Красноярска. Заключенные их называли: «Добровольные арестанты».
Кажется, на четвертый день наш караван добрался до Енисейска. кто-то с берега принес нам местную газетку. В ней писалось о нашем караване, что он везет в Карское море многочисленные артели рыбаков, а о нас заключенных ни слова.
Большевики не только умеют творить злодеяния, но и скрывать их от чужих глаз. Трехтысячный этап заключенных был превращен в «рыбаков» и под этой вывеской мы так и доплыли до Дудинки.
Под Туруханском мы вошли в область белых ночей, а за ним, спустя сутки, достигли, наконец, полярного круга. Часов в 12 ночи вбегает в трюм один заключенный и кричит:
– Ребята, вставайте и выходите на палубу, посмотрите, как солнце начинает всходить с запада… Мы пересекали полярный круг. Где-то здесь в Енисей впадает речка Курейка, на которой есть небольшой поселок, носящий название этой речки. В поселке этом когда-то находился в ссылке Иосиф Джугашвили… Здесь он обзавелся семьей, нажил сына, а затем бежал из ссылки и от новой семьи…. Только спустя много времени, кажется, в начале тридцатых годов Сталин вспомнил о них. Сын уже был директором какого-то учреждения и имел свою семью, а мать-старуха – при сыне доживала свои дни. Они ответили ему, что в помощи его не нуждаются, и просили оставить их в покое. Когда они остались без него и влачили полуголодную жизнь, он не считал нужным вспомнить о них. А теперь они и без него обойдутся.
Сибиряки, лично знавшие этого сибирского сталинского сына, передавали мне, что он очень похож на своего папашу, которого ненавидит всей душой.
Приближаясь к Игарке, наш караван должен был пройти пороги Два Брата, через которые буксиру пришлось перетаскивать караван по одной барже. В этом месте Енисей суживался до 100 метров, и между двух каменных утесов быстро падал вниз. Караван благополучно перебрался через пороги и снова вышел на величественную ширь пятой в мире по величине реки.
Потом оказалось, что из одной баржи, во время перехода порогов, бежало несколько человек. Один или два выплыли на берег и скрылись в тайге, а остальных, находившихся еще в воде, конвой перестрелял. Мы уже находились в области полярного дня, что очень осложняло всякие побеги, да еще с каравана.
В Игарке постояли недолго и через несколько часов были снова на необъятной ширине разлившегося Енисея. Нагнали плывший большими массами лед. На берегу местами лежали полосы снега. Тайга кончилась и начиналась лесотундра. Воздух становился холоднее, моросил густой мелкий дождь. Перед нами вдали показались небольшие горы, а затем и селение Дудинка.
На 13 день нашего плавания буксир «Красноярский рабочий» дал длинный гудок и стал подавать караван к берегу.
Все заключенные высыпали на палубу и унылыми взорами вглядывались в неведомую тундру, покрытую туманом и белыми оазисами вечных снегов. На берегу ютился небольшой поселок в 50–60 жалких лачужек, на восточной окраине его – здание бывшей церкви, без купола и креста и один большой деревянный дом здание местного Совета. Да внизу, возле самой реки, небольшая электростанция, выстроенная год тому назад первой партией заключенных… Они теперь все стояли на берегу, некоторые выбрались на ледяную гору, воздвигнутую из льдин напором воды, и радостными криками приветствовали нас. Все они были бесконвойными и свободно передвигались по Дудинскому берегу.
Урки удивлялись:
– Неужели без конвоя! Смотри, у них нет никакого лагеря с попками да с зоной. Вот пойдет житуха на большой!
– Не радуйся, псих, тундра будет тебя стеречь похлеще лягавых. Куда убежишь?
– Кругом одна тундра. До Игарки 300 километров, до Красноярска 2300, а до Харькова тысяч 10 будет!
– Вот это, братва, так заехали мы с вами в гиблое место! Капут нам тут. Прощай воля и «зеленый прокурор».
23 июня наш этап начали идеологически обрабатывать. На нашу баржу, где большинство были инженерно-технические работники, явился «воспитатель», тоже заключенный бытовик из бывших чекистов, и повел беседу.
– Так вот, граждане, – говорил он, – мы находимся на 69 параллели, в 300 километрах на север от Игарки. Вокруг нас, как видите, необъятная тундра, покрытая многочисленными небольшими озерками, мхами, торфянниками и карликовыми деревьями. Вот березка, скажем, толщиной с карандаш, а высотою чуть более метра – имеет 200–300-летний возраст… Да и расти она больше не может, т. к. летний период тянется здесь всего 5–6 недель, да и то дождливых. Как вы сами видите, зима еще сегодня не совсем кончилась, а в начале августа уже появляются первые заморозки.
Зимы здесь бывают крепенькие, морозы доходят до 60°, пурга срывается такая, что Дудинку заносит, над двухэтажным домом Советов по снегу дорогу устроили… В особенности страшна «черная пурга» в трехмесячную полярную ночь. Прошлой зимой пурга эта замела в тундре наших трех человек с трактором. Ребята погибли, а трактор обнаружили только летом. Летом здесь полярный трехмесячный день, а зимой такая же трехмесячная полярная ночь с северным сиянием. Первый восход солнца, после полярной ночи тунгузы празднуют здесь, как у нас когда-то праздновали Пасху…
Суровая здесь природа, но и страшно богатая своими недрами. В Норильских горах обнаружены залежи полиметаллической руды, серебро, золото, платина. И рядом же в соседней горе – громадные пласты угля… А дальше – еще горы – «золотые», «платиновые», «никелевые» и «серебряные». И вот партия и правительство постановили у подножья этих гор выстроить полиметаллический комбинат и город Норильск, связав его с Дудинским портом первой в мире заполярной железной дорогой. На эту работу нас всех сюда и привезли. Нам дается красноармейское питание, плюс заполярный витаминозный паек, возможность пользоваться лагерным ларьком, теплое первосрочное обмундирование, бесконвойное хождение на территории строительства, летом обычная почтовая связь с родиной, а зимой гидропланы и радио. Честным своим трудом мы должны искупить нашу вину перед советской страной и возвратиться в социалистическое общество ударниками и героями труда, а, может быть, и орденоносцами…
Не бойтесь никаких трудностей, ни пурги, ни морозов. Нет таких крепостей, которых бы не сумели взять большевики. Помните, что этой стройкой непосредственно будет руководить сам товарищ Сталин! закончил «воспитатель» свою беседу и неожиданно обратился с вопросом к плохо слушавшему его молодому парню-урке.
– Вы, гражданин, какую имеете специальность?
– Токарь, – спокойно ответил парень.
– Токарь? По дереву или по металлу?
– По пайкам, – улыбнулся урка и звонко чмокнул губами.
Баржа загоготала и загудела. «Воспитатель» смутился, записал себе в блокнот фамилию шутника и быстро сошел на берег. Ему вслед понеслись восклицания урок.
– От работы кони дохнут! Работа дураков любит!
– Подумаешь, паразит, сам за портфель скорее ухватился, а нас агитировать пришел – комбинат строить! Мы ему настроим – жди!
– Нужно, брат, больше напирать на это, чем на это! – и говоривший показал пальцами сперва на мышцы рук, а затем на горло.
– Пойдем, Кацо, в тундру искать яиц гусиных; говорят, можно набрать их тысячи, а молодых гусят руками ловят… Здесь птица дурная – политграмоты не проходила – не пугливая. В озерах рыбы – нет спасу, баграми вытаскивают на берег, по пуду штучка. Во лафа, Кацо!
– Микинтош, пойдем скорее на берег, там наша братва мертвецов за ноги из кладбища вытаскивает ценностей ищут. Памятники и кресты уже все поразбивали. Здесь хоронят не в могилах, а под пластами торфа, потому вечная мерзлота, – ну, наши и взбудоражили всех покойников.
Потом мне пришлось побывать на этом бывшем кладбище. Действительно, кресты, памятники, решетки – всё было изломано, побито и осквернено… Бугорки торфяные, под которыми лежали останки похороненных, все были разрыты, кости разбросаны по кладбищу и загажены человеческими испражнениями. И эти безобразия и кощунства никто не только не пресекал, но они даже поощрялись разными «воспитателями», безбожниками из КВЧ и УРЧ. Этому не приходилось удивляться, так как такие же разрушения и осквернения церквей и кладбищ имели место по всему Советскому Союзу.
Не могу не вспомнить про один случай, как в 1932 г., на Кубани, из одной станицы, после закрытия и разгрома в ней безбожниками храма, в районный центр ехали три арбы, нагруженные церковной утварью: иконами, хоругвями, крестами. На передней подводе, что везла изломанный иконостас, покрытый полотнищами хоругвей, сидел колхозный подросток лет 13, и под скрип арбы насвистывал какую-то модную советскую частушку.
Я знал, откуда и куда идут подводы и что они везут, но мне хотелось знать, как на мой вопрос будет реагировать этот мальчуган. Поравнявшись с ним, я спросил у него:
– Что это вы везете на подводах?
– До районного архиву Иисуса Христа везем сдавать! – смеясь, ответил мне подросток и стегнул кнутом по полотнищам хоругви.
Его ответ меня поразил. Я никогда не мог предполагать, что мальчуган из глухой кубанской станицы с такой предельной принципиальной ясностью мог сформулировать отношение большевиков к религии и всей христианской культуре.
И он не только вез «Иисуса Христа» в районный архив сдавать, но и продолжал, смеясь, хлестать Его своим кнутом. Он выполнял «социальный заказ» Кремля! И выполнял так, как та старушка, которая принесла вязанку дров, чтобы сжечь Яна Гуса. Но ни на Кубани – этому подростку, ни в Дудинке – этой орде громил, разорявших и осквернявших храмы, кладбища и всё святое в душе человеческой, не подходили слова Гуса: «О, святая простота!». Это совершенно другое явление – мятежное и грозное.
27 и шесть нулей
Его судили за какую-то железнодорожную катастрофу, в которой он не был повинен, дали десять лет и привезли в Заполярье. Здесь ему поручили руководить работой бревнотаски – громаднейшего транспортера, устроенного на стометровой эстакаде, спускавшейся в реку. Хвойный лес плотами сплавлялся с верховья и притоков Енисея к Дудинке, затем «кварталами» подгонялся по воде к бревнотаске и здесь по одному бревну направлялся на ленту, которая подхватывала его снизу несколькими парами специальных зубьев и тащила вверх. В одну и другую сторону от бревнотаски были проложены длинные покаты, по которым скатывались бревна и укладывались по стандартам в штабели. Двести тысяч кубометров строительного леса нужно было «выкачать» из реки до наступления морозов, иначе вмерзнет в лед и весной уйдет в Карское море.
Полярный день, длившийся здесь около 100 суток, приближался к своему «полдню», солнце кружилось над головой, необозримая тундра быстро одевалась в свои пестрые наряды, перелетные птицы торопились с своими выводками, а люди спешили с сезонными работами.
Не было ни сумерек, ни луны, ни звезд, работали посменно, спали по часам. Бригады лагерников с баграми, ломами и специальными проволочными кольцами, одетые в накомарники, рассыпались по бревнотаске и в течение десяти часов вели страшную напряженную «борьбу» за выполнение плана.
Бревнотаска быстро обрастала покатами и штабелями, и сверху казалась каким-то грозным чудовищем, которое ползло из реки на берег. Оно беспрерывно стучало, гремело, трещало. И только в часы перерыва электромотор останавливался и чудовище затихало. Иногда бревна соскальзывали с поката и в беспорядке, с треском и грохотом падали вниз на землю. Тогда на них налетали люди, и яростно по команде кричали:
– Раз-два – взяли! Е-е-ееее-еще взяли! Раз-два двинули! Бревно кинули!
И бревна послушно снова ложились на покат, вздрагивали, скрипели и опять с гулом бежали к штабелям.
Иногда среди бревен время от времени вспыхивала украинская песня, озаряла утомленные лица рабочих, рассказывая им об их осиротелых семьях, далекой родине и похищенной у них свободе…
Но бревна продолжали катиться, песня вынужденно обрывалась, и крылатое чудовище, казалось, еще ожесточеннее ползло, гремело и трещало.
Инженер Костин несколько раз в смену обходил свои «владения», следил за ходом работы на бревнотаске и все время вполголоса повторял про себя одно и то же:
– 27 и шесть нулей! 27 и шесть нулей! Однажды он сказал своему помощнику:
– С таким народом можно «выкачать» из реки не только лес, но и воду. Как ужасно живуч наш человек! Ему нацепили 10 лет, оторвали от семьи, загнали в эту заполярную пустыню, а он песни поет! Только наш народ и может творить такие чудеса. Загоните сюда европейцев, и всем им крышка здесь будет… А мы вот собираемся освоить тундру и выстроить в ней полиметаллический комбинат. Разве нам не хватает места на материке, что нас ведьмы притащили сюда? Значит, некуда уже девать арестованных…
– С горя орут, – печально сказал помощник. Умирать никому не хочется, а жить тяжело, вот и поют. Если бы можно было достать «горючего», то напивались бы, а так волками воют, – песней развлекаются… Лучше не заниматься этими анализами, а то не выдержит никакая гайка. Самое лучшее лекарство от всякой болезни, это не думать о ней… Махорин думал, думал, да и повесился в уборной, а я хочу жить… Семья на воле осталась, шесть лет как-нибудь отбудем, может быть, по зачетам снимут 2–3 года, а там амнистия какая-нибудь подвернется, – так и звонок зазвонит.
– У меня эта мудрость никак не выходит, – снова заговорил Костин, – не получается она у меня… Вы только внимательно подумайте: 27 и шесть нулей!
– Я вас не понимаю, – перебил его помощник, что значат эти цифры, которые вы везде повторяете. Что они значат?
– Сейчас вы меня, уважаемый, поймете, что они значат. Когда в 1906 году, будучи еще студентом политехникума, я от имени социал-демократов делал политический доклад в Киевском депо и объявил рабочим тогдашнюю цифру общего количества репрессированных царизмом в 500 тысяч человек, собрание от неожиданности ахнуло и заревело бурным протестом. Эта цифра так поразила их, что один старик-кузнец, помню, подошел ко мне вплотную, большой складкой сдвинул свои брови и как-то особенно испытующе спросил: «Товарищ студент, неужели вы правду говорите, что 500 тысяч?». Я поклялся ему и всему собранию, поклялся честью своего студенческого мундира, что эта цифра точно проверена и соответствует действительности. Кузнец выслушал меня, быстро сорвал с себя шапку, бросил на стол, сжал кулаки и грозно простонал, скрипя зубами: «Смерть кровавому Николаю!». А. что поднялось в собрании?
– Ужас! Никогда я не забуду этого гнева и возмущения! Это было тридцать лет тому назад. Да, да, уважаемый, при кровавом Николае! 500 тысяч бедных страдальцев!
А по секретным данным НКВД за годы «бескровной» и до первого января 1935 года было подвергнуто репрессиям советских граждан 27 и шесть нулей, т. е. 27 миллионов человек!
Так те 500 тысяч хоть что-то там делали, бунтовали, шли против царизма, а эти… Более 10 миллионов закулачено и выслано одних честных наших кормильцев – крестьян-хлеборобов…
А остальные миллионы, если разобрать их дела при свете любого европейского, американского или азиатского права, – тоже невинные жертвы большевистских экспериментов. А? 27 и шесть нулей! И никакого тебе гнева и протеста нет! Наоборот! Они даже сами себя охраняют… При «кровавом» царизме две или три сотни арестантов охранялись командой из 40–50 человек, и всё-таки совершались побеги. А у нас, например, в лагере 13 тысяч, и их охраняют всего 20 человек вольнонаемных, а остальные охранники навербованы из самих же заключенных бытовиков. И эти последние бдительнее охраняют нас, нежели профессиональные и наемные держиморды. Вот как тонко устроена система – а? И никакого вам бунта и гневного кузнеца с сжатыми кулаками. И никакой Толстой не вопит: «Не могу молчать»! Даже песни поют!. Соц. соревнования устраивают… Борьба за переходящее красное знамя… Нет, я не могу! Эта хитрая штука никак не вкладывается в мои мозговые клетки, а когда я пытался впихнуть ее туда, немедленно же ощущал, как сознание мое давало опасный крен… 27 и шесть нулей! Это ведь почти целая Польша! Пусть половина из них как-нибудь выкрутилась из-под опеки ГПУ, а другая тянет лямку, потихонечку переселяясь в звездные миры, а? 27 и шесть нулей!
– И что же вы, Костин, предлагаете, исходя из этих цифр? – глухо спросил помощник.
– Что я предлагаю? – переспросил Костин и неожиданно выпалил:
– Если бы мне попался надежный компаньон, я сорвался бы из этого гиблого места. Всё равно: десятки своей я здесь не выживу, а умирать, так умирать с музыкой!
И он взглянул на своего помощника, собиравшегося заворачивать «козью ножку».
Уклоняясь от прямого ответа, помощник, закуривая и дымя цыгаркой, стал рассказывать об участившихся побегах из лагеря.
– Вчера из Дудинского лагпункта тоже ушло несколько человек зэ-ка. Воспользовавшись туманной погодой, заготовили продуктов и ушли. Ушли не на юг, а на север к Ледовитому океану. Дошли до Усть-Енисейского порта и напоролись на засаду. Их привели обратно. Посадили в «кандею» и готовят им дополнительных 3 года. У них оказался бинокль, компас и две сшитых простыни, на которых мазутом выведены 3 буквы «SOS». На допросе они сознались в том, что собирались сигнализировать какому-нибудь иностранному пароходу, если бы заметили его в море!.. В крайнем случае, имели намерение присоединиться к тунгусам, обжиться у них и дожить до зимы. А потом уж с их помощью, пробираться к Уралу или на юг. Да, тундра надежная охрана! Летом комары да мошкара заедает, а зимой – пурга с морозами. А ведь только до Игарки 300 километров, а за нею еще две тысячи до Красноярска. При этом еще не забывайте, что вы политический… Как вам известно, на 4-й дистанции сбежала целая бригада землекопов, захватив с собою лошадь и все продукты питания из кладовой дистанции. Если их поймают, отделаются каждый 3 годами и несколькими месяцами изолятора. А если бы мы с вами учинили это дело – верная шлепка!
В бревнах снова запели и песня опять стала звать к берегам далекого Днепра.
– Как хотите, а я дошел «до ручки», – после некоторого молчания сказал Костин.
– Мне пятьдесят три года. Порох в пороховницах еще есть, и я попробую познакомиться с «зеленым прокурором», а вам оставляю блестящую возможность добиться получения переходящей красной тряпки… Можете на меня доносить, можете не доносить, – дело вашей совести, но забыть деповский гнев я не могу… 27 и шесть нулей! «Кровавый Николай» и «бескровная» революция. Помощник тяжело сопел и молчал. Песня снова оборвалась и затихла. А крылатое чудовище по-прежнему рычало и ползло на берег.
…Через несколько суток инженер Костин исчез. По бревнотаске ходил один помощник и мрачно бормотал:
– 27 и шесть нулей. 27 и шесть нулей!
* * *
Бригада землекопов, сбежавшая с 4-й дистанции, состояла из 24 человек уголовников, главным образом, урок, молодых и здоровых ребят, от 18 до 30 лет. Почти две недели они уже находились в пути, но больше 200 километров не могли сделать, так как всё время приходилось обходить бесконечное количество малых и больших озер, встречавшихся им на пути их следования, а также переправляться через речки и реки, впадавшие в Енисей. Эти обходы и переправы поглощали очень много и времени и сил, что не могло не отражаться на общем положении беглецов. Захваченные из кладовой продукты питания давно уже были съедены, была уже съедена и лошадь, тащившая на себе в течение первой недели вьюки с продуктами, и последние 2 или 3 дня беглецы вынуждены были питаться птичьими яйцами, маленькими гусятами и рыбой, которую приходилось ловить в озерах. Это еще больше стало отнимать у них времени и бежавшие еле-еле продвигались вперед, делая в сутки не более 10 километров. Более опытные из них утверждали, что еще неделя – и они очутятся на восток от Игарки, где смогут в лесо-тундре передохнуть, наловить и навялить в дорогу рыбы, а также, быть может, удастся заглянуть в самый городишко и раздобыть спичек, курева, хлеба и соли.
Измученные, голодные и обессиленные, беглецы с большим трудом добрались до какой-то большой и бурной реки и расположились на отдых. Чтобы преодолеть это новое и неожиданное препятствие, нужно было срубить несколько штук толстых деревьев, распилить их на бревна, притащить к месту переправы, связать плот, а затем уже на канатах и жердях переправляться. Эта новая работа должна была снова отнять у них много времени и последние физические силы. Двое из беглецов уже хворали и нуждались в постоянной помощи, а остальные еле держались на ногах. И о немедленной переправе на тот берег реки никто и не думал. Все разбрелись по сухим отложениям торфа и мха и погрузились в тяжелый сон.
Сколько они проспали так, неизвестно, но, когда проснулись, друг друга не узнали. Несмотря на имевшиеся у них маски, лица и руки опухли, – от укусов комаров и мошкары.
На общем совете было решено через реку не переправляться, а идти по берегу вниз до самого Енисея. Может они набредут на рыбаков или на какое-нибудь стойбище тунгусов. Может быть, встретится русское селение… А может быть, река разольется по широкому руслу и они смогут перейти ее в брод.
Подкрепивши себя небольшими порциями свежепойманной рыбы, беглецы, еле передвигая ноги, медленно стали спускаться вниз по течению. Через несколько километров они наткнулись на два разлагавшиеся трупа зэ-ка, ранней весной сбежавших с 5-й дистанции. Их опознали, обшарили у них карманы и сумки, но ничего съестного не нашли. Махорки тоже не было. Пустые котелки валялись на берегу. Всем было понятно, что несчастные умерли от истощения.
Как долго они шли и сколько сделали километров, никто сказать не мог, но после долгих часов томительного путешествия им показалось вдруг, что в ближайших кустах что-то неподвижно чернеет. Они подошли ближе и увидели спящего человека в накомарнике и лагерной одежде, и стали его будить.
Спавшим оказался инженер Костин. Отобрав у него несколько килограммов жиров, сахару и сухарей, урки немедленно съели и, не насытившись, предложили ему стать их первой жертвой.
– Всё равно, батя, ты уже нажился на свете, срок у тебя великоват, статья паскудная – давай мы тебя слопаем, – предложили Костину урки и серьезно стали его обступать.
С большим трудом удалось их успокоить уверениями, что он выведет их к Енисею и спасет от голодной смерти.
Подкрепившись немного отобранными у Костина продуктами, урки согласились следовать за ним и через несколько часов все беглецы очутились на патрульном посту недалеко от Енисея. Несколько рыбачьих домиков и землянок обозначали какое-то никому неведомое селение, находившееся в нескольких десятках километров от Игарки.
Они были задержаны и препровождены обратно в Дудинку.
Направляясь под конвоем в изолятор, Костин издали поглядывал на грохочущую бревнотаску и тихо ворчал:
– 27 и шесть нулей!
Прошел год. Свирепый разгул ежовского террора докатился и до Норильлага. Были сняты со всех должностей, взяты в подконвойные бараки и изолированы от остальных заключенных почти все политические. Их плохо кормили, посылали на самые тяжелые работы и еженедельно выбирали из среды их по 20–30 человек «тяжеловесов», гнали в тундру и там расстреливали. Таким порядком было уничтожено около 700 человек инженеров, техников, врачей, педагогов, бывших колхозников, рабочих, духовенства…
Попал в эти бараки и Костин. Он очень одряхлел и осунулся, оброс седыми волосами, беспрерывно болел, стонал и кашлял. В конце навигации к нему из Харькова приехала жена с 14-летней дочерью и стала добиваться разрешения на свидание с ним.
После нескольких дней безуспешных хлопот 3-й отдел в свидании ей отказал, и выпроводил с территории лагеря. Несчастную женщину, прибывшую к мужу за 10 тысяч километров, эта чекистская жестокость так потрясла, что она тут же, у лагерных ворот, свалилась и умерла от разрыва сердца.
Оставшейся сироте один из комендантских негодяев, некто Волков, пообещал устроить свидание с отцом, если она отдастся ему на одну ночь. А когда утром девочка потребовала, чтобы ей выдали обещанный пропуск, обманутую схватили, куда-то утащили и больше ее никто не видел ни в лагере, ни в Дудинке…
А спустя несколько месяцев был расстрелян и ее несчастный отец инженер Костин.