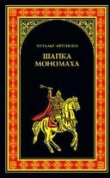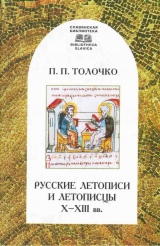
Текст книги "Русские летописи и летописцы X–XIII вв."
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
4. Литературные и летописные труды Владимира Мономаха
Владимир Мономах не только осуществлял редакторский надзор над киевским летописанием второго десятилетия XII в., но и сам пробовал силы в этом жанре. Ему принадлежит уникальный для древнерусской исторической письменности труд, исполненный в форме летописи – автобиографии. В литературу он вошел под названием «Поучения Мономаха своим детям». Хронологически охватывает период в полстолетия, от 1066 до 1117 г. Он состоит как бы из двух частей: собственно поучения и книги путей Мономаха – краткой летописи его княжеских побед и путешествий по Руси. Перу Мономаха принадлежит также письмо к Олегу Святославичу и, по-видимому, молитвенное обращение.
Сочинения Мономаха дошли до нас в составе Лаврентьевской летописи, ставшей известной ученым-летописеведам в самом конце XVIII в. благодаря графу А. И. Мусину-Пушкину. Как явствует из приписки монаха Лаврентия, летопись представляла собой копию с древнего «Летописца», снятую по благословению суздальского епископа для великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского. Лаврентий просит читателей не бранить его за вероятные ошибки, поскольку «книгы ветшаны», а он «умъ молодь, не дошелъ», то есть молодой и неопытный.
Археографическая судьба Лаврентьевского летописного списка и его протографа хорошо освещена во многих работах и поэтому нет нужды пересказывать ее вновь. [201]201
Приселков М. Д.История рукописи Лаврентьевской летописи и ее изданий. Ученые записки Педагогического института им. А. И. Герцена. Т. XIX. М., 1939; Орлов А. С.Владимир Мономах. М.; Л., 1946.
[Закрыть]Важным для нас является только вопрос, связанный с нахождением в этой летописи сочинений Мономаха. Тут мы имеем ряд загадок, которые до сих пор не нашли удовлетворительного объяснения. В первую очередь это относится к месту расположения и последовательности изложения сочинений Мономаха. Они явно не на своем месте, вставлены в статью 1096 г., причем не в конец ее, а в середину. Чья это ошибка? Лаврентия, который предусмотрительно попросил прощение за это у читателей, или же его предшественника?
М. Д. Приселков предполагал, что Лаврентий получил для переписки книгу, в которой эти листы находились уже не на своем месте. Первоначально сочинения Мономаха, как он думал, находились в начале «Летописца», но затем при обветшании книги эти тексты могли быть вложены в случайное место. Наверное, в реальной жизни все так и было за исключением «случайности» места переложения листов. Ведь попали они именно в текст статьи 1096 г., а не в какой-либо другой. Следовательно, прежде чем вставить оторвавшиеся листы в книгу, летописец ознакомился с их содержанием и попытался найти им надлежащее место. Вероятнее всего, своим новым местом в летописи сочинения Мономаха обязаны его письму к Олегу Святославичу. В отличие от последующих исследователей древний летописец интуитивно почувствовал, что послание Мономаха мятежному князю Олегу предшествовало княжескому съезду в Любече, состоявшемуся в 1097 г.
Труднее объяснить, почему письмо к Олегу Святославичу помещено после «Поучения» и «Летописи путей», а не перед ними, что сегодня кажется вполне естественным. Возможно, причиной этому было отсутствие в этих текстах отчетливых хронологических определений, а может, сочинения Мономаха изначально были сшиты именно в такой последовательности. Первым как наиболее значительное шло «Поучение», затем «Летопись путей» и только последним – «Письмо к Олегу Святославичу». Завершало сборник небольшое «Моление».
Исследователей давно интересует вопрос, когда сочинения Мономаха оказались в летописи. А. А. Шахматов полагал, что составитель Лаврентьевской летописи имел в своих руках так называемый «Владимирский полихрон начала XIV в.», который содержал мономаховы тексты. Первоначально же они были включены в летопись еще на этапе редакции «Повести временных лет» летописцем Мономаха – Мстислава и вписаны в конец свода. [202]202
Шахматов А. А.Повесть временных лет. Т. 1. Пт. 1916. С. XLI.
[Закрыть]
Такое предположение не кажется убедительным. Если бы сочинения Мономаха вносились в летопись уже в 1117–1118 гг., то они были бы введены в нее более органично. Письмо к Олегу заняло бы место в статье 1096 г., а «Поучение» и «Летопись путей» вошли бы в статью, соответствующую времени редактирования «Повести временных лет» летописцем Мономаха – Мстислава. Скорее всего произведения Владимира Мономаха в древнерусское время жили своей отдельной от летописи жизнью и оказались в ней только благодаря деятельности позднейших суздальских хронистов. Наверное, Лаврентия. В пользу такого вывода свидетельствует тот факт, что сочинения Мономаха сохранились в составе лишь одного Лаврентьевского списка. Будь они включены в древнерусскую летопись уже в 1117–1118 гг., они непременно были бы в составе Ипатьевской летописи, в которой последняя редакция «Повести временных лет» сохранилась наилучшим образом, а также и в других общедревнерусских летописных списках.
После краткого вступления, поясняющего авторское отношение к истории включения сочинений Мономаха в летопись, перейдем к их историческому анализу.
Письмо Олегу Святославичу. Сохранилось оно не полностью, что породило различные суждения о его датировке и текстовом объеме. Издатели Лаврентьевской летописи 1926 г. относили написание письма к 1098 г., а за начало его принимали слова «но все дьяволе наученье». На такую мысль их натолкнуло то обстоятельство, что указанные слова шли сразу же за пропуском текста в полторы строчки. И. И. Срезнезовскому казалось, что письмо Мономаха начиналось словами «да се ти написах зане принуди мя сын мой». Первые издатели полагали, что началом письма следует считать восклицание: «О многострастныи и печальны азъ». Впоследствии эта мысль была поддержана и развита И. М. Ивакиным, считавшим, что такой молитвословный зачин являлся отражением душевного состояния Мономаха, узнавшего о смерти сына. [203]203
Ивакин И. М.Князь Владимир Мономах. Ч. 1. М., 1901. С. 3–4.
[Закрыть]
Конечно, письмо писалось Мономахом под впечатлением этой смерти, случившейся под Муромом 6 сентября 1096 г., и в надежде на привлечение Олега Святославича к участию в съезде князей. Мысль обратиться к черниговскому князю с грамотой, признается Мономах, подсказана ему сыном Мстиславом. Убедившись в бесплодности борьбы с Олегом, Мономашич заключает с ним мир, просит примириться с Владимиром и другими русскими князьями. При этом Мстислав готов простить Олегу и смерть брата. «Азъ пошлю молитися з дружиною своею къ отцю своему и смирю тя со отцомь моим, аще и брата моего убил еси, то есть недивьно, в ратех бо и цари и мужи погибають». [204]204
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 237–238.
[Закрыть]
Характерно, что такой же тональностью отличается и письмо Владимира Мономаха, как будто оба текста написаны одним человеком или по ним прошлась одна редакторская рука. В письме проводится идея братолюбия и прощения грехов. Мономах вслед за сыном смиряет свою обиду и заявляет, что мстить за смерть сына не будет: «Судъ от Бога ему (Изяславу. – П. Т.) пришел, а не от тебя». Продолжая эту мысль, Мономах почти дословно повторяет слова Мстислава: «Дивно ли, оже мужь умеръ на полку ти?»
Единственное, чем озабочен Владимир, это судьба Русской земли. Ради нее он кается в своих прегрешениях и призывает Олега сделать то же самое. А еще прибыть на княжеский съезд. При этом Мономах сообщает, что он уже сослался с Давидом Святославичем, но тот не может «рядитися» без брата.
Исследователи согласно отмечают дружелюбный и примирительный тон письма и полагают, что написано оно было через какое-то время после гибели Изяслава, когда горе успело смягчиться в сердце Мономаха. И. М. Ивакин думал, что это случилось в декабре-январе 1096 г. еще до решающей битвы между Мстиславом и Олегом на Колокше. В пользу этого он приводит слова из письма Мономаха «Аки хочеши тою (Мстислава и Юрия Владимировичей. – П. Т.) убити» – которые будто бы указывают на то, что борьба еще не окончена и участь Изяслава могли разделить также и его братья.
Вряд ли это серьезный аргумент в пользу предложенной даты написания письма Мономахом. Успех в битве под Муромом вскружил голову Олегу и он не желал идти на мировую. На грамоту Мстислава, в которой он предложил смирить Олега с Мономахом, черниговский князь ответил отказом. Невозможно предположить, чтобы, получив такой ответ, Мстислав стал уговаривать отца смириться с Олегом. Ведь у самого его высокомерие Олега вызвало сильный гнев и желание силой вынудить его к мирным переговорам. Собрав войско, он двинулся в Северо-Восточную Русь. Не принимая боя, Олег отступил сначала к Ростову, затем Суздалю, а вскоре, отдав приказ зажечь город, бежал к своему родовому владению Мурому. Преследуя Олега, Мстислав направил ему из Суздаля предложение прекратить войну и заключить мир. Он вновь заявляет, что готов стать посредником между Олегом и Мономахом.
На этот раз Олег ответил согласием, хотя, как уверяет летописец, сделал это неискренне. Мстислав поверил ему и распустил свою дружину по селам. Очень скоро он пожалел об этом, Олег нарушил свое слово и выступил против Мстислава. Об этом коварстве стало известно в Киеве и Мономах немедленно двинул в помощь Мстиславу половецкий корпус под водительством младшего сына Вячеслава.
В состоявшейся битве на Колокше Олег потерпел сокрушительное поражение и вынужден был просить мира, на этот раз уже без лести. Мстислав еще раз предлагает свои посреднические услуги. «Не бѣгай никаможе, – говорит он Олегу, – но пошлися к братьи своей с мольбою не лишать тя Русьскыѣ земли, и азъ пошлю к отцю молитися о тобѣ». [205]205
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 240.
[Закрыть]
Олег пообещал исполнить волю Мстислава, и последний, посчитав свою миссию исполненной, вернулся сперва к Суздалю, а затем и вовсе ушел в Новгород. Было это, как замечает летописец, на исходе 1096 г. Только теперь сложились условия для мирной переписки. Мстислав отослал отцу грамоту с просьбой примириться с Олегом, а Мономах смог приняться за сочинение своего обширного послания. Наверное, это было уже весной 1097 г. В письме Владимир приглашает Олега на княжеский поряд и вслед за ним в летописи в статье 1097 г. сообщается о том, что такая встреча с участием черниговского князя действительно состоялась.
Идейно письмо Мономаха Олегу Святославичу близко к «Поучению» и может рассматриваться как его предтеча. Есть в обоих текстах и общие места.
Письмо: «Днесь живи, а утро мертви, днесь в славѣ и въ чти, а заутра в гробѣ». [206]206
ПВЛ. Ч. 1. С. 164.
[Закрыть]
Поучение: «Но рцѣмъ: смертни есмы, днесь живи а заутра в гробѣ». [207]207
Там же. С. 157.
[Закрыть]
« Поучение Мономаха своим детям». Это уникальное произведение явилось результатом раздумий Мономаха о судьбах Русской земли и было создано им не без влияния древних поучений, известных на Руси в переводах с греческого языка. От них позаимствована форма литературного произведения, а отчасти и содержательное наполнение. Особенно заметна приверженность Мономаха к трудам Василия Великого, с которыми он мог познакомиться по Изборнику Святослава 1076 г. Он ссылается на своего тезоименитого предшественника, заимствует у него отдельные высказывания. Начиная от слов «якоже бо Василий учаше» и до слов «умертви грѣхъ» текст целиком взят из Поучения Василия Великого. Много в «Поучении» также цитат из Псалтыри. В свое время возникла мысль, что Мономах пользовался этой книгой как гадательной. На нее исследователей навели слова «Поучения», сообщающие о том, как Мономах, отпустив посланцев от братьев, обратился к Псалтыри. «И отрядивъ я, вземъ псалтырю в печали, разгнухъ я, и то ми ся выня: всякую печалуеше душе, всякую смущаеши мя? И прочая. И потомъ собрах словца си любая и складохъ по ряду и написах». [208]208
Там же. С. 153.
[Закрыть]
Вряд ли есть необходимость продолжать здесь примеры заимствования или параллелей из библейской и церковно-отеческой литературы, которыми воспользовался Мономах при написании своего «Поучения». Ценность его не в этом, а в том, что вся эта вековая церковная мудрость подчинена цели научения детей добрым делам на благо родной земли. Владимир размышляет над вечной проблемой добра и зла, праведника и грешника. Словами из Псалтыри он призывает: «Уклонися от зла, створи добро, взыщи мира и пожени и живи в вѣкы вѣка» и верит в торжество добра: «И еще мало – и не будеть грѣшника; взыщеть мѣста своего, и не обрѣщеть. Кротции же наслѣдять землю, насладяться на множьствѣ мира». [209]209
ПВЛ. Ч. 1. С. 153–154.
[Закрыть]
Обращения Мономаха к своим детям в ряде мест сливаются с молитвами к Богу и Богородице, у которых он просит спасения, защиты от врагов, людей, творящих беззаконие, живущих неправдой и коварством из-за собственной гордыни и мирской суеты. «О Владычице Богородице! Отъими от убогого сердца моего гордость и буесть, да не възношюся суетою мира сего; в пустошнѣмь семь житьи. Научися, вѣрный человѣче, быти благочестию дѣлатель». [210]210
Там же. С. 155.
[Закрыть]
От высоких абстракций Мономах переходит к конкретным наставлениям своим детям. Они должны жить по справедливости, думать о бедных и униженных, о сиротах и вдовах, не позволять сильным мира сего оскорблять людей. Он призывает к верности крестоцелованию. «Аще ли вы будете крестъ целовати у братьи или к кому, а ли управивъше сердце свое, на нем же можете устояти, тоже цѣлуйте, и цѣловавше блюдѣте, да не приступни погубите душѣ своеѣ». [211]211
Там же. С. 157.
[Закрыть]
Мудрый князь призывает своих детей не иметь гордыни в своем сердце и уме, подчеркивает быстротекучесть земной жизни и славы: «Смертни есмы, днесь живи, а заутра в гробѣ». Все, чем обладает человек, не его, но Божье: «Се все, что ны вдалъ, не наше, но твое, поручилъ ны еси на мало дный». [212]212
Там же.
[Закрыть]Для Мономаха важным является сохранение души: «Лжѣ блюдися и пьянства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть». [213]213
Там же.
[Закрыть]
Мономах просит молодых князей не лениться и не препоручать свои заботы помощникам. В качестве доброго примера он приводит своего отца Всеволода, который, сидя дома, изучил пять языков. Что знаете, говорит он детям, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.
Не забыл Владимир отметить и свои добродетели. Он не полагался на посадников или биричей, но сам творил, что было необходимо. Не давал сильным в обиду ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Всегда примерно исполнял церковные обряды и службы.
Наверное, Мономах не во всем соответствовал своему же литературному образу, однако он полагал, что именно таким должен быть князь. В завершение «Поучения» он просит детей и всех, кто прочтет его труд, творить добрые дела и Бог им отплатит тем, чем отплатил ему. «Не хвалю бо ся ни дерзости своея, но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя грѣшнаго и худаго селико лѣт сблюл от тѣхъ часъ смертныхъ, и не лѣнива мя быль створилъ худаго, на вся дѣла человѣчьская потребна». [214]214
ПВЛ. Ч. 1. С. 163.
[Закрыть]
Исследователей давно занимает вопрос времени создания этого удивительного литературного произведения. Со времен Н. М. Карамзина в литературе бытует мнение, что «Поучение» написано Мономахом в 1117 г. В его подтверждение исследователи приводили такие аргументы: счет походов Мономаха доведен до 1117 г., Мстислав назван «дитям новгородским», а переехал он в Белгород только в 1117 г., и, наконец, сам характер произведения с его «стариковскими интонациями».
М. П. Погодин, исходя из того, что «Поучение», как утверждает сам Мономах, задумано в дороге на Волгу, и принимая во внимание слова братьев «потъснися къ нам да выженемъ Ростиславича», – которые могли быть сказаны, когда Мономах еще не был великим князем, полагал, что наиболее подходящим моментом для этого сочинения был 1099 г. Описание же в «Поучении» событий от 1099 по 1117 г. М. П. Погодин считал позднейшей вставкой. Иначе, как ему казалось, невозможно объяснить, почему до 1099 г. Мономах подробно описал свои походы, а собственному княжению он посвятил только четыре строки. [215]215
Погодин М. П.О Поучении Мономаховом. Известия Отделения русского языка и словесности АН. Т. X. СПб. 1861–1863. С. 235.
[Закрыть]
М. П. Погодина и других исследователей смущала фраза «И се нынѣ иду Ростову». Настоящее ее время будто бы вызвано тем, что именно на этом пути в Ростов Мономах написал свое «Поучение». В последующем такое прочтение фразы было признано ошибкой переписчика. А. С. Орлов, а также Д. С. Лихачев полагали, что в оригинале фраза стояла в прошедшем времени: «И – Смолиньска идохъ Ростову».
Впоследствии обе даты обрели своих сторонников и противников. С. М. Соловьеву предпочтительнее казалась ранняя дата. Правда, он несколько уточнил ее, полагая, что «Поучение» было написано после Витачевского съезда 1100 г., покончившего с усобицами. [216]216
Соловьев С. М.Сочинения. Книга I. История России с древнейших времен. М., 1988. С. 370.
[Закрыть]И. М. Ивакин поддержал идею, что Мономах писал это завещание детям в преклонных годах, то есть после 1117 г., когда ему шел уже седьмой десяток.
А. А. Шахматов высказал мысль, что Мономах начал свое «Поучение» еще в 1096 г., но продолжал его до 1118 г., когда оно было внесено в летопись.
Д. С. Лихачев, приведший в своих комментариях к «Повести временных лет» подробный историографический обзор трудов, затрагивающих дату создания «Поучения», пришел к выводу, что этот свой труд Мономах написал не позже 1117 г. [217]217
ПВЛ. Ч. 2. С. 431.
[Закрыть]
Необычный подход к хронологии «Поучения» продемонстрировал Б. А. Рыбаков. Согласно ему, начало и заключительная часть этого произведения написаны около 1099 г. и представляли собой своеобразную предвыборную программу князя – претендента на киевский трон. [218]218
Рыбаков Б. А.Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 267–272.
[Закрыть]Ему не кажется убедительным аргумент в пользу позднего сочинения «Поучения», указывающий на «старческие» его интонации. Ведь даже в случае принятия ранней даты Мономах к концу XI в. имел больше чем тридцатилетний княжеский опыт и был уже дедом. Что касается даты 1117 г. летописи путей Мономаха, то она, по мнению ученого, указывает только на то, что в этом или близком к нему году была завершена личная летопись Мономаха, которая не обязательно должна была совпадать по времени с собственно «Поучением». Последнее писалось отдельно, как самостоятельное произведение. Б. А. Рыбакову кажется не случайным, что Мономах в самом начале своего «Поучения» рассказывает о приглашении князей принять участие в походе против Ростиславичей, которое застало его на Волге. Здесь имеется в виду поход Святополка на Василька и Володаря Ростиславичей, который великий князь осуществил в 1099 г. Участвовать в неправедном походе Мономах отказался и, погадав на Псалтыри, якобы приступил к написанию «Поучения».
В подобных рассуждениях есть определенная логика. Не исключено, что мысль обратиться к князьям с призывом к братолюбию и заботе о Русской земле действительно могла появиться у Мономаха под впечатлением его отказа присоединиться к походу против Ростиславичей. В пользу этого как будто говорит фраза: «Сѣдя на санех, помыслих в души своей». Однако в пути такой значительный литературный труд, требовавший серьезной подготовки, наличия под рукой хорошей библиотеки, конечно же, создать невозможно. Да и приведенные выше слова Мономаха не следует понимать буквально. Это литературная метафора, образ завершения земного пути.
В свое время Н. М. Карамзин вроде бы так и понимал эти слова, но его смущала следующая похожая фраза «Поучения»: «На далечи пути, да на санех сѣдя безлѣпицу си молвилъ». [219]219
ПВЛ. Ч. 1. С. 153.
[Закрыть]Из нее он сделал вывод, что Мономах написал свою грамотицу, готовясь к походу на Ростов. И. М. Ивакин склонялся к переносному толкованию первой фразы – «седя на санехъ» = «приближаясь к гробу», – но вторую понимал буквально. При этом доказывал, что в ней идет речь не о первом походе Мономаха к Ростову, а о втором, который имел место в 1102 г.
Д. С. Лихачев понимал слова «седя на санехъ» как выражение образное, которое могло иметь два значения: либо «во время зимнего пути» вообще, либо «в преклонных годах», «на краю смерти». Пытаясь определить, в каком смысле оно употреблено в данном контексте, Д. С. Лихачев склонялся ко второму пониманию этого выражения. Это завещание Мономаха, в котором он подводит итог не только своим «путям» и «ловам», но и всему житейскому и государственному опыту. [220]220
ПВЛ. Ч. 2. С. 433.
[Закрыть]
На Руси имел распространение обычай перевозить тело умершего к месту погребения на санях. Так хоронили Владимира Святославича в 1015 г., Изяслава Ярославича в 1078 г. Святополка Изяславичав 1113 г. На сани, как тонко подметил Д. С. Лихачев, клали также и умирающего. Это хорошо показано летописцем в рассказе о смерти Феодосия Печерского. Почувствовав приближение смерти, Феодосий повелел вынести себя на двор, а братия положила его на сани и занесла в церковь. Затем Феодосий, находясь на санях, обратился к монастырской братии с последней волей. [221]221
ПВЛ. Ч. 1. С. 124.
[Закрыть]
В пользу поздней даты сочинения Владимиром «Поучения» свидетельствует продолжение цитированной выше фразы, которое следует понимать уже буквально: «И похвалих Бога, иже мя сихъднев, грѣшного, допровади». Н. В. Шляков, предложивший датировать «Поучение» 1106 г., полагал, что эти слова могли указывать на «пост». [222]222
Шляков Н. В.О «Поучении» Владимира Мономаха // ЖМНП. 1900. Ч. CCCXXIX, № 5, отд. 2.
[Закрыть]Думается, больше оснований утверждать, что Мономах благодарит Бога за то, что он дожил до такого почтенного возраста. В конце «Поучения» он еще раз выразит эту мысль, но уже более определенно: «Но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя грѣшнаго и худаго селико лѣт сблюл от тѣхъ часъ смертныхъ». [223]223
ПВЛ. Ч. 1. С. 163.
[Закрыть]
О том, что «Поучение» написано пожилым человеком, думающем уже о душе, видно из его содержания. Мысль о смерти и спасении души пронизывает все его произведение: «Смертны есмы, днесь живи, а заутра в гробѣ», «Смерти бо ся, дѣти, не боячи», «А же от Бога будет смерть, то ни отець ни мати, ни братья не могут отьяти», «Над мертвеця идѣте, яко вси мертвени есмы». В душах своих страх имейте и не губите их неправедными делами, призывает Мономах своих сыновей.
Есть основания предположить, что «Поучение» написано не просто пожилым человеком, но уже готовившимся покинуть этот свет. Это политическое завещание «цесаря» Русской земли, которому не безразлична будущая судьба его страны. Не случайно обращение к сыновьям перерастает эти узкие рамки и адресуется фактически всем русским князьям.
После 1117 г. Владимир Мономах занимал великокняжеский киевский стол еще восемь лет и его завещание кажется немного преждевременным. Это смущало сторонников поздней даты «Поучения», а поэтому они чаще утверждали, что оно написано после 1117 г. Первый издатель А. И. Мусин-Пушкин, руководствуясь свидетельством летописи о том, что последний поход в Северо-Восточную Русь Мономах осуществил в 1119 г. и, будучи убежден в непосредственной связи этого похода с замыслом «Поучения», утверждал, что «писана сия грамота между 1119 и 1125 годом».
Думается все же, что при определении точной даты написания Мономахом «Поучения» предпочтение следует отдать 1117 г. Мы имеем здесь в виду не время рождения замысла этого произведения, которое может относиться и к 1099 г., или работы над этим необычным литературным трудом, на что, возможно, ушел не один год, а именно время его завершения.
Так думать позволяет нам следующее обстоятельство. В 1117 г. Мономах срочно переводит на юг Руси старшего сына Мстислава, княжившего больше двадцати лет в Новгороде. «В лѣто 6625. Приведе Володимеръ Мьстислава из Новгорода, и дасть ему отецъ Бѣлъгородъ». [224]224
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 284.
[Закрыть]Не может быть и малейшего сомнения в том, что Мономах рассчитывал закрепить за сыном Киев. Разумеется, не передать ему при своей жизни – такого древнерусская практика престолонаследия не знала, – а иметь его под рукой на случай своей смерти. Срочность с переводом свидетельствует, что Мономах не исключал своего скорого ухода из жизни. Мы не знаем, что было причиной этому – старческая мнительность или же Мономах мог почувствовать резкое ухудшение своего здоровья. Косвенным подтверждением этому может быть просьба Мономаха, обращенная к Богу, продлить его жизнь, чтобы он мог покаяться в своих грехах и оправдать свою жизнь. «И еще Господи, приложи ми лѣто къ лѣту, да прокъ, грѣховъ своихъ покаявъся, оправдивъ животъ, тако похвалю Бога». [225]225
ПВЛ. Ч. 1. С. 158.
[Закрыть]
О том, что Владимир подводил итог своей политической жизни в 1117 г., свидетельствует и летопись его путей. Она доведена только до этого года и хотя не являлась собственно «Поучением», была объединена с ним в качестве его органической части для назидания своим детям.
Смена власти в Киеве в 1117 г., как известно, не состоялась. Бог продлил годы жизни Владимира, но литературным и летописным творчеством он уже не занимался. Н. В. Шляков объяснял это тем, что Владимир, отправляя в 1119 г. своего последнего и любимого сына Андрея княжить во Владимир Волынский, благословил его своим «Поучением», которое было в единственном списке. Вряд ли это предположение заслуживает серьезного обсуждения. Ведь даже если бы труд Мономаха действительно был в одном экземпляре, что совершенно невероятно, ибо предназначался он многим адресатам, полагать, что передача его в другие руки лишила его возможности продолжить свое любимое занятие, нет оснований. Истинную причину отхода Мономаха от собственного летописания, по-видимому, выяснить так и не удастся. Можно только догадываться, что Владимир в это время заинтересовался летописью Печерского монастыря и, под своим и Мстиславовым присмотром, занялся ее редактированием. Продолжать перечень своих подвигов не было нужды, так как это с великим усердием делалось теперь его летописцем. Не исключено также, что у престарелого Мономаха на продолжение собственного творчества уже не было сил.
Летопись путей. Перед нами бесспорно самостоятельное произведение, общий хронологический диапазон которого составляет более пятидесяти лет. Первая запись касается событий 1066 г., когда Владимир 13-летним мальчиком ехал «сквозе Вятичи» в Ростов, а последняя сообщает о его походе на Ярослава Святополковича к Владимиру Волынскому в 1117 г. Уникальность летописи путей заключается в том, что она написана как автобиографическое произведение. Мономах рассказывает о самом себе.
Собственно летописные достоинства произведения Мономаха весьма скромны. Летопись слишком лаконична и не отличается широтой охвата событий. В «Повести временных лет» история Руси 1066–1117 гг. представлена неизмеримо полнее и ярче. И тем не менее нельзя смотреть на «Летопись путей» как на краткий конспект того, что нам уже известно. В ней есть оригинальные сведения, существенно дополняющие летопись. К числу таковых относятся свидетельства о вокняжении Владимира в 13-летнем возрасте в Ростове (1066 г.); о переводе его (около 1069–1070 гг.) в Смоленск, а затем и во Владимир Волынский (1073 г.); о возвращении Мономаха после смерти Святослава (1076 г.) в Смоленск; о рождении старшего сына Мстислава (1076 г.); о потере им Чернигова и переходе в Переяславль (1094 г.); о походах на половецкого хана Урусобу (1107–1109 гг.) и Боняка (1107 г.) и др.
У Мономаха имеются также сведения, дополняющие летописные. Под 1076 г. в «Повести временных лет» читаем: «Ходи Володимеръ, сынъ Всеволожъ, и Олегъ, сынъ Святославль, ляхомъ в помочь на чехы». В летописи Мономаха это событие рассказано существенно подробнее. Из него узнаем, что чешский поход длился четыре месяца, а русские дружины достигли Чешского леса возле Гологовы. Под Чешским лесом следует понимать лес Силезско-Моравских гор, а под Гологовой – город Глогау на Одере. Особый интерес вызывает сообщение о том, что после заключения мира с Тугорханом (1094 г.) Владимир «у Глѣбовой чади пояхом дружину свою всю». Русское имя Глеб принадлежало в данном случае какому-то половецкому воеводе. Летописное известие 1107 г. о смерти жены Мономаха дополняется тем, что это была мать младшего сына Юрия («и Гюргева мати умре»).
Княжеская карьера Владимира Всеволодича была богатой на события. Только за первые 12 лет он сменил пять удельных городов, совершил, согласно Б. А. Рыбакову, 20 больших «путей» и проскакал от города к городу не менее 16 000 км (не считая внутренних разъездов). Этот период его княжеской жизни характеризуется участием во многих военных кампаниях как внутри страны, так и за ее пределами. Он воюет с Всеславом Полоцким, защищает западные русские земли (Берестье) от поляков, четыре месяца проводит в походе против чехов, сражается с черниговскими князьями на Нежатиной ниве и, обретя в ней победу, утверждается в 1078 г. на черниговском столе.
Шестнадцатилетний черниговский период княжения описан Мономахом на удивление скупо, к тому же со значительными пропусками. Судя по географии его походов, он, как считает Б. А. Рыбаков, был не столько черниговским князем, сколько правой рукой Всеволода, выполнял его поручения. Из коротких записей явствует, что Мономах в этот период не только воевал с половцами, но и пользовался их помощью в междоусобной борьбе. Отдельные записи отличаются необычной откровенностью, которая явно диссонирует с пафосом «Поучения». «И на ту осень (1084 г. – П. Т.) идохом с черниговци и с половци с Читѣевичи к Мѣньску; изъѣхахом городъ и не оставихом у него ни челядина, ни скотины». [226]226
ПВЛ. Ч. 1. С. 160.
[Закрыть]
Неудачу первого столкновения с половцами под Прилуками Мономах объясняет тем, что его войско не успело соединиться с обозом оружия, который был отправлен наперед. «И хотѣхом с ними ради битися, но оружье бяхомъ услали напередъ на повозѣхъ». [227]227
Там же.
[Закрыть]Пришлось спешно укрываться в городе.
Более подробно описал Мономах свой уход в 1094 г. из Чернигова. Сделал он это якобы по двум причинам: не хотел проливать кровь христианскую и решил восстановить историческую справедливость, уступив Чернигов его законному обладателю Олегу Святославичу. В действительности это был вынужденный поступок, так как все обернулось против него. Битву за Чернигов он, по существу, проиграл, а черниговцы в любую минуту были готовы от него отступиться. То, что с Мономахом ушло из города только 100 дружинников (с женами и детьми), подтверждает сказанное.
Особый интерес для определения хронологии создания летописи Мономаха имеет следующая запись. «И сѣдѣхъ в Переяславли 3 лѣта и 3 зимы, и с дружиною своею, и многы бѣды прияхом от рати и от голода». [228]228
Там же. С. 161.
[Закрыть]Если бы эта часть летописи писалась в 1117 г., справедливо замечает Б. А. Рыбаков, то такое определение было бы странным и непонятным, ведь мы знаем, что Мономах просидел в этом городе 19 лет.
Конечно, эта статья была написана не в 1117 г. Скорее всего, как и полагал Б. А. Рыбаков, она появилась в 1097 г., когда закончились переяславльские три лета и три зимы. [229]229
Рыбаков Б. А.Древняя Русь… С. 270.
[Закрыть]Но ведь и невозможно на этом основании утверждать, что вся летопись написана Мономахом в 1117 г. Она, в полном соответствии с жанром, составлялась в течение многих лет. Судя по всему, Мономах не был особенно прилежным хронистом. В его работе над летописью были перерывы, возможно фиксируемые пустыми годами самой летописи.
Как определил Б. А. Рыбаков, разделивший записи летописи на шесть групп, таких пустых лет было довольно много. Между первой (1066–1078 гг.) и второй группами (1084–1086 гг.) имеем пропуск в пять лет, между второй и третьей (1093–1110 гг.) – семь, между третьей и четвертой (1110–1117 гг.) – также семь, пятая и шестая группы разделены двумя пустыми годами – 1114-м и 1115-м. Можно согласиться с Б. А. Рыбаковым в том, что перед нами не дневник Мономаха, в который из года в год вносились записи, как считал А. А. Шахматов, а летопись, писавшаяся им от одной надобности к другой. [230]230
Рыбаков Б. А.Древняя Русь… С. 271.
[Закрыть]