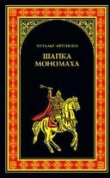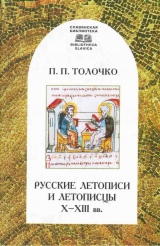
Текст книги "Русские летописи и летописцы X–XIII вв."
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
«Сыну сгрѣшихъ, не давъ тобѣ Галича, но давъ иноплеменьнику. Судислава лѣстеца свѣтомъ обольсти бо мя. Аж Богъ восхочеть, поидивъ на ня, азъ всажу Половци, а ты своими. Аще Богъ дасть его нама, ты возьми Галичь, а азъ Понизье». [658]658
Там же. Стб. 752.
[Закрыть]
У нас нет оснований подозревать летописца Данила в сочинении этих слов. Наверное, Мстислав их действительно произнес. Однако, может быть, более важным здесь представляется то, как они преподнесены в летописи. Мстислав не только изменил завещание, но еще и намеревался вместе с Данилом исправить свою ошибку. А чтобы у читателя не возникло сомнения в истинности его слов, летописец уверяет, что сказаны они в разговоре с Демяном, то есть при свидетеле. Конечно, этот краткий рассказ не случаен в летописи Данила. Он крайне важен как юридическое основание для его претензий на галицкий стол.
Анализ статей за 1218–1228 гг., с их своеобразной двойной экспозицией, не оставляет сомнения в том, что перед нами не отдельная и самостоятельная авторская повесть о борьбе Данила за собирание Волынского отцовского наследия, а соединение двух повестей – Мстислава Удалого и Данила Галицкого. Б. А. Рыбаков объясняет сохранение элементов летописания Мстислава в составе летописи Данила родственными связями князей, в частности тем, что Данило был женат на дочери Мстислава Анне. [659]659
Рыбаков Б. А.Русские летописцы… С. 163.
[Закрыть]Думается, что и без этих связей летописец Данила не отказался бы от использования дополнительных источников для своей повести.
Нет сомнения, что оба источника повести создавались во время, близкое к описываемым событиям. Что же касается обьединенного текста, как он представлен в Ипатьевской летописи, то его появление следует, видимо, относить уже к галицкому периоду княжения Данила. В пользу этого свидетельствует, в частности, вставка в рассказ о сражении на Калке сюжета об особой роли в ней Данила Галицкого. Он смело повел на татар свой полк и врубился во вражеский строй. Был ранен, но, не замечая этого, продолжал храбро сражаться. Татары дрогнули, а Данило со своим полком бесстрашно избивал их. Летописец восхищается мужеством Данила, который «Бѣ бо дерзъ и храборъ от главы и до ногу его, не бѣ на немь порока». [660]660
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 744–745.
[Закрыть]Когда же чаша весов начала склоняться в пользу татар, Данило, «обрати конь свой на бѣгъ», то есть оставил поле боя.
Трудно сказать, сколько в этом рассказе правды. Возможно, все так и было, хотя киевский летописец этого частного эпизода не заметил и в своей повести о нем ничего не написал. Нет сомнения, что перед нами более позднее воспоминание самого Данила или же кого-то из его соратников по Калкскому сражению. Упомянув в нем Мстислава Немого (Ярославича), сражавшегося рядом с Данилом, летописец замечает, что это тот самый князь, который передал перед смертью свою отчину (Луцкое княжество) Данилу. «Ему же поручивше по смерти свою волость, дая князю Данилови». [661]661
Там же. Стб. 744.
[Закрыть]
Разумеется, такая ремарка могла появиться только после смерти Немого, то есть не ранее 1227 или 1228 г. В действительности же значительно позже, поскольку летописец уже не мог вспомнить, сколько лет было Данилу в год Калкской битвы: «Бѣ бо возрастомъ 18 лѣтъ».
Некоторые данные о времени объединения летописей Мстислава Удалого и Данила Галицкого в единый текст дает нам статья 1223 г., содержащая сведение о закладке Данилом города Холма. «Данилъ созда градъ, именемъ Холмъ, создание же его иногда скажем». [662]662
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 740.
[Закрыть]Выполнить свое обещание летописец забыл, а поэтому мы так и не знаем, когда точно произошло это событие. Согласно исследованию Н. Ф. Котляра, Холм основан между 1236 и 1238 гг., что вполне вероятно. [663]663
Котляр М. Ф.Галицько-Волинський літопис… С. 34–35.
[Закрыть]Следовательно, упоминание города Холма отодвигает время редактирования повести по меньшей мере к 1237–1238 гг.
Еще более позднюю редакцию предполагает запись в статье 1217 (1221) г., в которой рассказывается о гордом венгерском воеводе Филе. Сообщив о непомерных его претензиях на русские земли, летописец заметил, что «Богу же того не терпящю, во ино время убьенъ бысть Даниломъ». [664]664
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 736.
[Закрыть]Как известно, случилось это в 1245 г. и, таким образом, запись об этом событии не могла появиться раньше 1246 г.
Из всего сказанного выше видна вся условность наименования этой части Галицко-Волынской летописи «Повестью о собирании Данилом волынской вотчины». Содержательно она значительно шире обозначенной темы и, по существу, освещает события как в Галицкой, так и в Волынской землях. В Галицкой, пожалуй, даже больше и полнее, чем в Волынской. На этом основании совершенно невозможно обозначить комплекс известий за 1218–1228 гг. единым названием, да, собственно, в этом нет и особой надобности. Ведь чтобы мы ни придумали, оно не будет соответствовать полной мерой замыслам древних летописцев.
Третья часть Летописца Данила Галицкого также имеет сборный характер. Кроме собственно повести о борьбе Данила за Галич, в ней использованы сообщения киевских и волынских летописцев, а также иные известия, не всегда имеющие прямое отношение к основной теме.
По существу, повесть о возвращении Данилом галицкого стола начинается примерно с середины летописной статьи 1229 г. Вернувшись из польского похода, Данило неожиданно получил от галицких бояр приглашение занять Галич. В нем говорилось, что «Судиславъ шелъ есть во Понизье, а королевичь в Галичи осталъ, а поиди борже». [665]665
Там же. Стб. 758.
[Закрыть]Данил внял просьбе галичан и немедля выступил с малой дружиной к Галичу. Оказалось, что там его не очень-то и ждали. Ворота города перед ним были закрыты, а вернувшийся срочно из Понизья боярин Судислав предпринимал энергичные меры для недопущения Данила в Галич. Не бездействовал и Данило. Для овладения Галичем он, как пишет летописец, «собравъ землю Галичкую ста на четыре части окрестъ его». [666]666
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 759.
[Закрыть]После длительной осады галичане открыли ворота и впустили в город Данила.
Казалось, сбылась мечта Данила, но трудности его только начинались. Уже вскоре ему пришлось вступить в борьбу с венгерским королем Белой, приведшим к Галичу свои полки. Посланному на переговоры тысяцкому Демяну король заявил, что перед его полками невозможно устоять, а поэтому лучше добровольно сдать город. Демян же «грозы его не убоявся» и вместе с Данилом собирал силы для отражения венгров. Интересно, что обе стороны заручились поддержкой половцев: к Данилу пришел хан Котян, а к Беле – «половци биговарсовы». Началось длительное противостояние. Первым дрогнул король и начал отход от города. Попытка перейти Днестр у Галича оказалась безуспешной и венгры направились к Василеву. По пути на них нападали галичане и многих перебили. Затрудняли отход венгров и погодные условия, как пишет летописец, в это время разверзлись «хляби небесные». Завершил этот сюжет летописец следующей фразой: «Данилъ же Божьею волею одерьжа градъ свои Галич». [667]667
Там же. Стб. 761.
[Закрыть]
Согласно хронологии С. М. Грушевского, Данило овладел Галичем в 1230 г. Акция его в представлении летописца выглядит вполне законной, не случайно он подчеркнул, что Данило одержал «свой Галич». С этого времени он уже галицкий князь и все злоключения, которые ожидали его впереди, обусловливались именно этим обстоятельством. По существу, все предстоящее десятилетие пройдет под знаком борьбы Данила за галицкий стол. Окончательно он утвердится на нем только в 1238 г., а до этого ему придется еще трижды уступать его под давлением венгерского короля, князя Михаила Черниговского, а главное из-за коварства своевольных галицких бояр.
Не случайно редактор-составитель повести, приступая к изложению событий, связанных с борьбой Данила за Галич, предпослал ему такие слова: «По семь скажем многии мятежь, великия лести и бесчисленные рати». [668]668
Там же. Стб. 762.
[Закрыть]В его руках определенно были записи, сделанные по горячим следам. К таковым, бесспорно, принадлежит драматический рассказ о попытках галицких бояр убить Данила, предпринимавшихся ими в 1230–1231 гг. совместно с князем Александром Белзским и слугами венгерского короля. Сначала они хотели сжечь Данила в здании думы, но их замысел был разрушен Васильком Романовичем, случайно вышедшим из помещения и обнаружившим какие-то подозрительные приготовления. Обнажив меч, он двинулся на заговорщиков, а те, полагая, что замысел их раскрыт, разбежались.
Затем коварные бояре придумали новый план устранения Данила. Они приглашают его на пир в замок Вишню, чтобы там убить. «А Филипъ безбожный зва князя Данила во Вишьню, другий свѣтъ створиша, на убьенье его, со Александромъ братучадомъ его». [669]669
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 762.
[Закрыть]На этот раз спас князя тысяцкий Демян, срочно отправивший к Данилу посла с предупреждением не ехать в Вишню. «И приде ему солъ от тысячского его Демьяна, рекше ему: „Яко пиръ золъ есть, яко свѣщано есть безбожнымъ твоимъ бояриномъ Филипомъ и братучадомъ твоимъ Олександромъ, яко убьену ти быти“». [670]670
Там же. Стб. 762–763.
[Закрыть]
Летописец сообщает, что седельничий Иван Михалкович арестовал 28 бояр из кланов Молибоговичей и Волдрысей, но князь Данило казнить их не решился, проявив великодушие. При этом он вспоминает давний случай, когда на пиру кто-то из бояр залил Данилу лицо вином, тот стерпел это унижение, полагая, что возмездие будет ему от Бога. В действительности великодушие Данила диктовалось жестокой реальностью. У него в Галичине еще не было надежной опоры. Когда после раскрытия заговора Данило созвал вече, то на него явилось только 18 «отроков верных», а также тысяцкий Демян. К тому же он знал, чем закончилась для князей – Игоревичей казнь их противников – галицких бояр. Они, как и прежде, были сильны и коварны, и с этим приходилось считаться. Соцкий Микула, использовав известную пословицу, заявил Данилу: «Господине, не погнетши пчелъ меду не ѣдать». [671]671
Там же. Стб. 763.
[Закрыть]Однако в домонгольский период выполнить это пожелание Данило полной мерой не смог.
Уже вскоре ему пришлось в очередной раз убедиться в льстивости галицких бояр. Сначала они приняли решение оказать помощь Данилу, но сделали это, как пишет летописец, неискренне. «Невѣрнии же вси на помощь ему идяху, мнящеся яко вѣрни суть». [672]672
Там же. Стб. 764.
[Закрыть]Когда же убедились, что в схватке Данила с венгерским королем последний начал одерживать верх, дружно переметнулись на его сторону. «Климята же с Голыхъ горъ убѣжа от князя Данила ко королеви, и по немь вси бояре Галичькыи предашася». [673]673
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 765.
[Закрыть]В результате Данило вынужден был вновь оставить Галич. Там сел сын венгерского короля Андрей. Случилось это в 1232 г.
Знакомство с летописным рассказом о событиях 1230–1232 гг. не оставляет сомнения в том, что он практически современен им. Восстановить сложную связь взаимоотношений Данила с оппозиционными князьями, боярами, а также венгерским королем, при этом назвать всех действующих лиц по имени через много лет практически невозможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к тексту, рассказывающему об обороне Ярославля от осаждавших его сил венгерского короля. Руководили действиями осажденных ярославльцев бояре Давид Вышатич и Василько Гаврилович. Первый натиск венгров горожане успешно отразили. Но тут в дело вмешалась теща Давида – сторонница провенгерски настроенного боярина Судислава – и начала уговаривать зятя сдать город. Присутствовавший при этом Василько Гаврилович резко воспротивился такой предательской мысли. Он заявил, что невозможно «погубить честь князя своего», был убежден в неприступности города: «Яко рать си не может града сего прияти». [674]674
Там же.
[Закрыть]Давид же прислушался к совету тещи, а не Василька, и Ярославль был сдан королю. После этого путь на Галич был открыт.
С неменьшей подробностью изложен ход борьбы Данила с вторгшимися на Волынь венграми, водимыми королевичем Андреем. С русской стороны в ней принимали участие, кроме самого Данила, его брат Василько, тысяцкий Демян, боярин Мирослав, на заключительном этапе кампании к ним присоединился также и князь Александр. Состоялось несколько сражений, у Шумска и Торчева, в которых, согласно свидетельству летописца, Данило Романович проявил буквально чудеса героизма. Когда во время битвы у Торчева у него сломалось древко копья, он вынул меч и с его помощью проложил себе путь к окруженному брату Васильку. «Обнаживъ мѣчь свои: идущу ему брату на помощь, многы же язви, и инии же от меча его умроша». [675]675
Там же. Стб. 768.
[Закрыть]
Из летописного рассказа не ясно, принесла ли эта храбрость князя победу русским в тот день. Много мужества проявил Данило и в повторном сражении. Летописец отмечает, что он находился на волосок от смерти, но раненый конь вынес его из гущи сражения. Пришлось отступить и всей дружине Данила («Наворотися дружина Данилова на бѣгъ»), однако, поскольку венгры не решились на ее преследование и также отступили, летописец полагает, что в выигрыше оказались волынские полки. Его радует, что венгров полегло много, а Данило потерял только пять бояр. Он называет их по имени и это также свидетельствует о том, что запись сделана вскоре после окончания военных действий.
Новый поход венгров на Волынь, предпринятый ими в том же 1233 г., окончился их поражением. Данило подвел свои войска к Галичу. Галичане, как это часто с ними случалось, начали переходить на сторону сильного. Летописец знает, что первыми переметнулись от королевича Глеб Зеремеевич и Доброслав, а затем и «инии бояре мнози». Вслед за этим из осажденного Галича пришло известие о скоропостижной смерти королевича Андрея, которая, по-видимому, случилась не без помощи льстивых галичан, а также приглашение Данилу занять галицкий стол.
Время от времени «Повесть о возвращении Данилом галицкого стола» прерывается вставками об участии его в южнорусских и польских событиях. До сих пор эти сюжеты не были связаны с основной темой повести, однако рассказ, который находится в летописных статьях 1234 и 1235 гг. о походах Данила в Киевскую и Черниговскую земли, определенно не может считаться вставочным. Уже хотя бы потому, что южнорусские авантюры Данила стоили ему галицкого стола, что и отметил летописец.
После вокняжения в Галиче Данило получает от киевского князя Владимира Рюриковича грамоту, присланную через его сына Ростислава, в которой тот просит помощи против черниговских князей Михаила Всеволодича и Изяслава Владимировича. Данило, как отмечает летописец, «вѣдавъ ею любовь», собрал наскоро полки и выступил к Киеву. Начало кампании было удачным. Он вынудил Михаила покинуть пределы Киевщины, а затем вместе с Владимиром пошел к Чернигову. По пути князья овладели многими подесенскими городами – Хоробром, Сосницей, Сновском и другими – и осадили столицу княжества. Взять ее им не удалось, а поэтому между сторонами был заключен мир – так пишет летописец, а на самом деле только непрочное перемирие. Как только Данило и Владимир ушли в Киев, вслед за ними устремились половцы, приведенные на Русь Изяславом, князем новгород-сиверским. В состоявшейся у Торческого городка битве Данило терпит сокрушительное поражение и бежит в Галич. Оппозиционные бояре, возглавляемые Судиславом Ильичем, отказывают ему в поддержке и требуют покинуть город. При этом еще и пригрозили расправой: «Не погуби себя, поеди прочь». [676]676
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 774.
[Закрыть]Данилу пришлось подчиниться этому жесткому ультиматуму.
В Галиче при поддержке половцев и поляков сел Михаил Всеволодич. Вскоре ситуация начала меняться в пользу Данила. Сперва покинули Михаила союзные ему половцы, а затем ушел в свою землю и польский князь Конрад. Воспользоваться благоприятной ситуацией Данило, однако, не смог. Его поход на Галич в 1237 г. закончился заключением между ним и Михаилом мира, согласно которому Данило должен был удовлетвориться получением Перемышля. Второй поход на столицу Галичины, в которой к тому времени сидел сын Михаила Ростислав, оказался успешным. Ростислав бежал в Венгрию, а Данило занял галицкий стол.
Летописец с восторгом описывает это событие. На вопрос Данила к градским мужам: «Доколѣ хощети терпѣти иноплеменьныхъ князий?» они будто бы воскликнули: «Яко се есть держатель нашь Богомъ даныи, и пустишася яко дѣти по отчю, яко пчелы к матцѣ, яко жажющи воды ко источнику». [677]677
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 744.
[Закрыть]Торжественно звучат слова о вхождении Данила в Галич: «Прииди княже Данило, прими градъ. Данило же вниде во градъ свой, и прииде ко Пречистѣ Святѣи Богородици, и прия столъ отца своего и обличи победу, и постави на Ньмѣчьскыхъ вратѣхъ хоругов свою». [678]678
Там же. Стб. 778.
[Закрыть]
Читая эти строки, как, собственно, и всю повесть, трудно себе представить, как могли галичане столь длительное время отказывать Данилу в доверии. В изображении летописца он само совершенство, можно сказать, идеальный правитель.
Кто мог быть автором этой повести? В. Т. Пашуто высказал предположение, что таковым следует считать тысяцкого Демяна, одного из ближайших и верных соратников Данила. Правда, позднее ее текст якобы был основательно отредактирован владимирским редактором. [679]679
Пашуто В. Т.Очерки по истории Галицко-Волынской Руси… С. 74–79.
[Закрыть]Л. В. Черепнин полагал, что повесть 1238–1245 гг. использовала и некоторые более ранние заметки, сделанные близким соратником Данила. Таковым он также считал Демяна. [680]680
Черепнин Л. В.Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. М., 1941. № 12. С. 251.
[Закрыть]В последнее время мысль об участии тысяцкого Демяна в написании повести о возвращении Данилом галицкого стола получила развитие в работе Н. Ф. Котляра, полагающего, что он мог иметь отношение к написанию тех или иных вставок. [681]681
Котляр М. Ф.Галицько-Волинський літопис… С. 44
[Закрыть]
Каких-либо серьезных аргументов в пользу такого предположения, кроме тех, что Демян являлся верным соратником Данила, а его имя часто фигурирует при описании различных событий, у нас, по существу, нет. Функциональные обязанности тысяцкого, постоянное его нахождение при Даниле, участие в походах и битвах не совсем совместимы с занятиями исторической письменностью. Даже если у Демяна и были склонности к писательству, реализовать их в тех экстремальных обстоятельствах было бы чрезвычайно сложно. Ведь практически все эпизоды трудной борьбы Данила с галицкими боярами и их венгерскими союзниками описаны не по истечении какого-то времени, как воспоминания, а по свежим впечатлениям, как хроника событий. Ее незаурядные литературные достоинства выдают в авторе не сурового воина, а грамотея-книжника, мастерски владевшего пером.
Он разукрашивает свой текст поэтическими цитатами, изречениями из святого письма, различными притчами. При этом автор не чужд и церковной фразеологии. Когда венгерский король Бела IV двинул свои войска на Галич, то «Посла на ны Богъ Архангела Михаила отворити хляби небесные». [682]682
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 760.
[Закрыть]Рассказывая об очередном столкновении Данила с венграми (статья 1232 г.), летописец заметил: «Данилови же рекшу: „Яко же писание глаголить, мьдляи на брань, страшливу душю имать“». [683]683
Там же. Стб. 767.
[Закрыть]В статье 1233 г. летописец цитирует афоризм, принадлежащий якобы Гомеру. Сообщив об измене князя Изяслава, летописец воскликнул: «О лесть зла есть, якоже Омиръ пишеть: „До обличенья сладка есть, обличѣна же зла есть, кто в нѣи ходить конѣць золъ прииметь. О злѣе зло есть“». [684]684
Там же. Стб. 770.
[Закрыть]В статье 1229 г. летописец, рассказывая о потоплении угров в Днестре, воспользовался в качестве аналогии выражением Малалы о реке Скирт, которая сыграла злую игру с горожанами Эдесса. «Яко инде глаголять: „Скыртъ рѣка злу игру сыгра гражаномъ, тако и Днѣстръ злу игру сыгра Угромъ“». [685]685
Там же. Стб. 761.
[Закрыть]
Приведенные примеры не исчерпывают афоризмов, метафор и цитат, почерпнутых летописцем из мировой литературы и использованных в своей повести, но и их достаточно, чтобы убедиться в незаурядной его образованности, а также в том, что историческая письменность была его основной профессией.
Тысяцкий Демян, участвовавший во всех предприятиях князя Данила, как думается, мог быть одним из информаторов летописца, сообщавшим ему не только сухие факты, но нередко и прямые речи участников драматической борьбы за Галич. Впрочем, не исключено, что в руках летописца имелись и какие-то письменные источники. Переговоры между венгерским королем и Данилом, наверное, сопровождались обменом грамотами, копии которых затем передавались в княжескую канцелярию.
И уж совсем нет оснований называть повесть Галицкой, а ее автора считать галичанином. Она, бесспорно, волынская и написана волынским автором. {24}24
Это было бы справедливо даже и в том случае, если бы повесть написал тысяцкий Демян. Он ведь являлся волынским боярином. В. Т. Пашуто относил волынские предпочтения повести на счет владимирского редактора.
[Закрыть]Это отчетливо следует из самого содержания повести. Летописец не скрывает своих чувств и эмоций при описании действий галицких бояр. Они у него всегда «безбожные», «неверные», «льстивые», «кромольные». Наверное, эти обобщения не всегда адекватны. Часть галицких бояр в отдельные периоды симпатизировала Данилу, однако летописец концентрирует свое внимание только на боярах-отступниках. Иногда, как в случае с Молибоговичами, он сравнивает их со Святополком Окаянным, убившим братьев. В ряде мест эпитет «невернии» вообще приложен ко всем галичанам. «Королеви же посадившу сына своего Андрея в Галичи, свѣтомь невѣрныхъ Галичанъ». [686]686
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 766.
[Закрыть]Конечно, будь автором «Повести» галичанин, он, несомненно, ушел бы от такой откровенной антигалицкой направленности.
Выдает в авторе «Повести» волынянина и его особое отношение к Владимиру. Он неоднократно подчеркивает, что Данило препоручал столицу Волыни брату Васильку, чтобы тот охранял ее от неприятелей. Данило неустанно боролся за Галич, но истинным его домом летописец считал Владимир. Когда после возвращения из Венгрии Данилу не удался его поход на Галич (статья 1235 г.), он «воротися домовь», то есть во Владимир. [687]687
Там же. Стб. 774.
[Закрыть]С особой гордостью он описывает впечатление, которое произвел Владимир на венгерского короля: «Оттуда король поиде ко Володимѣрю, дивившуся ему, рекъшу: „Яко така града не изобрѣтохомъ ни в Нѣмѣчькыхъ странахъ, тако сущу оружьникомъ стоящимь на немь, блистахуся щити и оружници подобии солнцю“». [688]688
Там же. Стб. 765.
[Закрыть]
Аналогичную мысль в свое время высказал М. С. Грушевский. Согласно ему, хотя центром рассказа является «галицкий мятеж», все же особой ознакомленности и близости к Галичине его автора не заметно. Тот тон, каким он говорит о «неверных» и «безбожных» галичанах, скорее свидетельствует о том, что жил он не в Галичине, а на Волыни или в Побужье. [689]689
Грушевський М. С.Історія української літератури. Т. 3. С. 165.
[Закрыть]
Думается, нет смысла гадать о том, где жил автор «Повести» после возвращения Данилом галицкого стола. По происхождению он бесспорно волынянин, что же касается места жительства, то без особого риска впасть в ошибку можно сказать, что он проживал там же, где и его сюзерен Данило Галицкий.
М. С. Грушевский полагал, что похвальные выражения в адрес «печатника Кирилла», Данилового канцлера, наводят на мысль, не был ли летописец одним из писарей княжей канцелярии, помощником печатника. [690]690
Грушевський М.С. Історія української літератури. Т. 3. С. 165.
[Закрыть]Предположение вероятное, хотя доказать его на основании имеющихся данных чрезвычайно сложно. Не исключено, что этим летописцем мог быть и сам печатник Кирилл.
Следующая повесть Ипатьевской летописи озаглавлена «Побоище Батыево». Название ее, конечно же, условное. В действительности содержание этой части летописи значительно шире. В ней отчетливо прочитывается несколько тем: новая – о вторжении в пределы Руси монголо-татар и две старые – о борьбе Данила за восстановление своего положения в Галичине и о войнах с Польшей, Литвой и ятвягами.
Собственно повесть «Побоище Батыево» не является оригинальным творчеством галицко-волынского летописца. Большая ее часть позаимствована им у северо-восточных и киевских коллег. Еще А. А. Шахматов предполагал, что основным источником повести являлся Владимирский Полихрон, созданный при дворе митрополита Максима после его переезда из Киева во Владимир на Клязьме в начале XIV в. В свою очередь, в Полихроне были объединены записи как северорусских, так и южнорусских летописей. [691]691
Шахматов А. А.Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 73–79, 130–131.
[Закрыть]
Более поздние попытки представить повесть «Побоище Батыево» как целиком южнорусское, точнее киевское произведение, принадлежащие В. Т. Пашуто, А. И. Генсерскому и другим исследователям, не кажутся убедительными. [692]692
Пашуто В. Г.Очерки по истории Галицко-Волынской Руси… С. 85–86.
[Закрыть]
Здесь нас интересует не вся повесть, но лишь та ее часть, которая бесспорно написана галицко-волынским летописцем. Теоретически это рассказ о прохождении монголо-татар по Волыни и Галичине, практически к нему следует отнести и некоторые вставки в более ранних записях. Видимо, прав Н. Ф. Котляр, полагавший, что вполне отчетливую галицко-волынскую окраску имеет эпизод, в котором речь идет об изгнании из Киева Ростислава Смоленского Данилом Романовичем и вручение древней столицы Руси его посаднику Дмитрию. [693]693
Котляр М. Ф.Галицько-Волинський літопис… С. 73–74.
[Закрыть]«Данилъ же ѣха на нь, и я его, и остави в немь Дмитра, и вдасть Кыевъ в руцѣ Дмитрови обьдержати противу иноплеменьнихъ языкъ, безбожныхъ Татаровъ». [694]694
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 782.
[Закрыть]Это событие произошло после того, как Михаил Всеволодич, напуганный приходом к Киеву монголо-татар Менгу-хана, бежал из города и его занял Ростислав Мстиславич. По времени это конец 1239 г.
Несомненно, галицко-волынскому летописцу принадлежит и рассказ о «бегах» Михаила по владениям Данила и польским землям. Уйдя из Киева с женой и верными боярами, Михаил останавливается в городке Каменец. Данило расценил это как недружественный акт по отношению к себе. Он шлет послов к Михаилу и требует отослать к нему (и Васильку) их сестру. Михаил выполнил это требование и, опасаясь возмездия от Данила за самоуправство, бежит с сыном Ростиславом «ко уеви своему в Ляхы, къ Кондратови». [695]695
Там же. Стб. 783.
[Закрыть]Оттуда он шлет к Данилу послов, просит прощения за все его предыдущие согрешения и клянется никогда больше не иметь с ним вражды.
Данило и Василько прощают Михаила, возвращают ему жену и обещают Киев. «Данилъ же свѣтъ створи со братом си, обѣща ему Кыевъ Михаилови, а сынови его Ростиславу вдасть Луческъ». [696]696
Там же.
[Закрыть]Когда же Михаил, как пишет летописец, «за страхъ Татарскыи не смѣ ити Кыеву», Данило разрешил ему жить в его земле, при этом обеспечил всем необходимым: «Даста ему пшеницѣ много, и меду, и говядь, и овѣць доволѣ». [697]697
Там же.
[Закрыть]
Из приведенного рассказа можно сделать по меньшей мере два любопытных наблюдения. Первое относится к хронологии «бегов» Михаила. Это, бесспорно, конец 1239–1240 гг. Киев еще не взят монголо-татарами. Он являлся владением Михаила и поэтому Данило решил вернуть его законному обладателю. Второе касается авторства рассказа. В нем опознается скорее волынянин, чем галичанин. В пользу этого говорит ненавязчивое, но последовательное введение в число действующих лиц Василька Романовича. Михаил обращается с просьбами и покаянием к обоим князьям и также от обоих получает добродеяние: «Приела бо Михаилъ слы Данилу и Василку», «Данилъ же и Василко не помянуста зла», «Данилъ же свѣтъ створи со братом». Если бы этот рассказ писался галичанином, он, зная, кто был фактическим распорядителем судеб южнорусских князей и их владений, вряд ли бы стал упоминать волынского князя.
Хронологически следующим событием было взятие Киева, но летописец, писавший свой труд, когда уже пронесся над Русью монголо-татарский смерч, продолжил рассказ о киевском князе. Узнав о падении Киева, Михаил с сыном бежал в Польшу, а когда монголо-татары приблизились к ее границам, ушел еще дальше – в немецкие земли. Там он подвергся нападению, людей его убили, а самого ограбили. Когда татары были уже в Венгрии, он вновь вернулся к Конраду.
Завершив свой рассказ о Михаиле Всеволодиче и понимая, что тем самым нарушил последовательное изложение, летописец возвращает читателя к более ранним событиям традиционным выражением: «Мы же на преднее возвратимся».
Вслед за этой фразой помещен подробный рассказ киевского летописца о взятии и разорении Киева монголо-татарами. Не исключено, что сообщение о помиловании раненого посадника Дмитра восхищенными якобы его мужеством татарами является вставкой галицко-волынского летописца. Ему же принадлежит и наивная сказка о том, как тот же Дмитр надоумил Батыя оставить пределы Руси и идти в Венгрию. «Про то же рече ему (Батыю. – П. Т.), видѣ, бо землю гибнущу Рускую от нечестиваго, Батый же послуша свѣта Дмитрова иде во Угры». [698]698
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 786.
[Закрыть]
Внимательное прочтение этой части повести, очень кратко и сбивчиво рассказывающей о завоевании Батыем Владимира и Галича, оставляет впечатление некоторой идеологической нечеткости позиции ее автора. На какое-то время фигура Данила Галицкого отходит на второй план, а на первый выдвигается его тысяцкий Дмитрий. Он герой обороны Киева и он же спаситель Галицко-Волынских земель. В то время как Дмитрий подвергает свою жизнь опасности и проявляет чудеса изобретательности, чтобы спровадить завоевателей из Руси, Данило пребывает вне пределов отечества. Это исследователи, чтобы спасти честь харизматического князя, пишут, что Данило поехал в Венгрию просить помощи для отражения монголо-татар. Из летописи этого вовсе не следует. Летописец определенно утверждает, что этот вояж Данило предпринял еще до прихода монголо-татар к столице Руси. «В то же время ѣхалъ бяше Данилъ въ Угры къ королеви, и еще бо бяшеть не слышалъ прихода поганыхъ Татаръ на Киев». [699]699
Там же. Стб. 785–786.
[Закрыть]Да и цель поездки была скорее матримониальная, нежели военная. Данило поехал с сыном сватать королевскую дочь, но получил отказ. «Преже того ѣхалъ бѣ Данило князь Ко королеви угры, хотя имѣти с ним любовь сватьства, и не бы любви межи има». [700]700
Там же. Стб. 787.
[Закрыть]
Странно, но Данило не вернулся в Русь и тогда, когда уже узнал о страшной катастрофе Киева и походе Батыя в западные русские земли.
Только Колодяжин был сдан врагу добровольно, да и то после длительной осады. Остальные города, в том числе Владимир и Галич, отчаянно сопротивлялись. У Данила было достаточно времени, чтобы вернуться и возглавить оборону Галича. Он как будто и хотел это сделать, но, встретив у Синеводского монастыря Святой Богородицы множество беженцев, «воротися назадъ во Угры». Летописец оправдывает поступок Данила тем, что у него было мало дружины. «Не може бо проити Руское земли, зане мало бѣ с нимь дружины». [701]701
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 787.
[Закрыть]
Не очень убедительными кажутся и последующие действия Данила. В Венгрии он оставляет сына с галицкой дружиной, а сам отправляется в Польшу. И вновь летописец ничего не говорит о собирании Данилом антитатарской коалиции. Последующее сообщение о встрече жены, детей и брата свидетельствует, что это и было основной целью его поездки в Польшу. От Сандомира Данило идет в Мазовию к князю Болеславу, получает от него в управление город Вышгород и спокойно ожидает, когда монголо-татары покинут русские пределы.
«И бысть ту дондеже вѣсть прия, яко сошли суть изъ земли Руское безбожнии, и возвратися в землю свою». [702]702
Там же. Стб. 788.
[Закрыть]
Таким образом, Данило отсутствовал на Руси по меньшей мере пять месяцев. Ушел в Венгрию не позже ноября 1240 г., а вернулся из Польши не ранее конца марта 1241 г., когда татары покинули пределы Руси и вторглись в Венгрию. Можно сказать, что Данило перестрадал лихую годину для родной земли на чужбине.
Исследователи, пытающиеся ответить на вопрос, почему монголо-татары так сравнительно легко завоевали Южную Русь, по существу, не обращают внимания на то обстоятельство, что она была брошена на произвол судьбы своими деморализованными правителями. Фактически самообезглавлена: Михаил покинул Киев, Василько – Владимир, а Данило – Галич. Современники оценили эти малодушные поступки адекватно. Летописец не акцентирует внимание читателя на этом специально, но его рассказ о возникших проблемах между князем Данилом и подданными говорит об этом недвусмысленно. Оказалось, что при возвращении на Русь Данилу пришлось утверждать свою власть и авторитет заново.