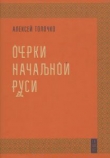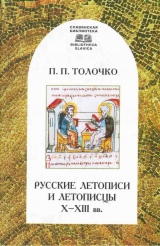
Текст книги "Русские летописи и летописцы X–XIII вв."
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Подтверждением существования киевского летописания первой половины XIII в. может быть рассказ Ипатьевской летописи о разгроме монголо-татарами трех старых центров Руси – Переяславля, Чернигова и Киева. Запись эта не очень пространная, но содержащиеся в ней подробности не оставляют сомнения в ее южнорусском происхождении. Говоря о взятии Переяславля, летописец сообщает о разрушении татарами главного храма города – церкви архангела Михаила и ее тотальном разграблении, а также об убийстве епископа Семеона. Более подробно описано сражение под Черниговом. На выручку осажденному городу поспешил князь Мстислав Глебович со своими полками. В состоявшемся сражении русские дружины были разбиты, а город взят и подожжен. Епископа Порфирия татары пощадили, но увели почему-то в Глухов.
Можно полагать, что информаторами о страшных разгромах Переяславля и Чернигова были жители этих городов, бежавшие от татар в Киев и поведавшие о зверствах орды.
После сообщения о падении Чернигова следует известие о появлении монголо-татар под Киевом. Стилистическое единство предыдущего и последующего текстов указывает на то, что они принадлежат одному автору. О том, что он был киевлянином, свидетельствует характерное замечание, что Менгу-хан со своим воинством стал «на оной странѣ Днѣпра». [463]463
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 782. Галицкий летописец вместо «Днѣпра» написал «Днѣстра», что указывает на использование им чужого текста. В своем он такой описки не допустил бы.
[Закрыть]На «оной» по отношению к пишущему, который находился на «этой» стороне, то есть в Киеве. Уточнение месторасположения монголо-татар – «во градъке Пьсочного» – также выдает местного автора, хорошо знавшего историческую топографию киевских околиц. Не исключено, что он мог и воочию наблюдать стояние монголо-татарской орды у Песочного городка.
Удивленный «красотой и величеством» Киева, Менгу-хан направил к князю Михаилу Всеволодичу посольство с предложением добровольно сдать город. Михаил ответил отказом, после чего татары, как пишет владимиро-суздальский летописец, ушли на зиму в Мордовскую землю.
Здесь киевское повествование прерывается вставкой галицкого автора, рассказывающего о бегстве из Киева Михаила, утверждении в нем смоленского князя Ростислава Мстиславича, а также изгнании его Данилом Романовичем и вручении города боярину Дмитрию – «в руцѣ Дмитрови». Продолжив свое повествование о «бегах» Михаила в «Угры и Ляхи», а также по Волынской земле, он затем вновь возвращается к киевской повести и помещает под 1240 г. драматический рассказ о взятии татарами Киева.
Вчитайтесь в него внимательно и вы услышите сквозь «скрипение телег, ревение верблюдов, ржание коней» тревожный голос киевлянина, свидетеля и, возможно, участника этого трагического для Киева события. Он знает о пленении татарина Товрула, который поведал киевлянам о том, кто из монголо-татарских воевод привел свои войска к Киеву. Подробно описывает ход сражения, отмечает, что Батый приказал подвести к Лядским воротам стенобитные машины, что киевляне после прорыва татарами первой линии обороны «создаша пакы другии градъ около святое Богородицѣ». [464]464
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785.
[Закрыть]Такое впечатление, что летописец сам находился в гуще этих событий. На разбитых стенах, согласно ему, можно было видеть «ломъ копѣины и щетъ скѣпание», а вражеские стрелы летели на обороняющихся такой тучей, что «омрачиша свѣтъ побѣженым». [465]465
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785.
[Закрыть]
Последним убежищем для киевлян, по утверждению летописца, была Десятинная церковь, она же стала для них и общей могилой. По замечанию летописца, от большого скопления в церкви людей, собравшихся на хорах и закомарах со своими пожитками, стены ее не выдержали и рухнули. «Людем же, узбѣгшимъ и на церковь, и на комаръ церковныя и с товары своими, от тягости повалишася с ними стѣны церковныя». [466]466
Там же.
[Закрыть]
Некоторые подробности, отсутствующие в Ипатьевской летописи, содержатся в Лаврентьевской. Среди них известия о разграблении Софии и монастырей, об убийстве всех захваченных татарами киевлян – «а люди от мала и до велика вся убиша мечем», о точной дате падения Киева: «Си же злоба приключися до Рождества Господня, на Николинъ день». [467]467
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 470.
[Закрыть]Можно думать, что все эти сведения почерпнуты владимиро-суздальским летописцем из киевской записи, ибо невозможно представить, чтобы она не содержала такого печального перечня злодеяний монголо-татар, содеянных над древней столицей Руси, а также указания на время этой страшной трагедии.
В историографии, посвященной «Повести о побоище Батыевом», высказаны различные суждения по поводу места и времени ее создания. Согласно А. А. Шахматову, она была написана при дворе митрополита Максима после его переезда из Киева во Владимир на Клязьме в начале XIV в. Сведения для нее почерпнуты из южнорусских и северорусских летописей. [468]468
Шахматов А. А.Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 73–79, 130–131.
[Закрыть]А. Н. Насонов полагал, что «Повесть» написана в 1234 г., а М. Д. Приселков относил ее создание к 1239 г., разумеется, без событий 1240–1241 гг. [469]469
Насонов А. Н.История русского летописания: XI–XVIII вв. М., 1969. С. 180 и сл; Приселков М. Д.История русского летописания… С. 87–94.
[Закрыть]
В литературе высказано также мнение о южнорусском происхождении «Повести». К такому выводу склонялся В. Т. Пашуто, а также А. И. Генсерский, полагавший, что «Повесть о побоище Батыевом» является составной частью киевского летописания, доведенного до 1240–1246 гг., и только позже была использована при создании Галицко-Волынского свода. [470]470
Генсьорський А. І.Галицько-волинський літопис (процес складання, реакції і редактори). К., 1958. С. 18–19.
[Закрыть]Н. Ф. Котляр считает, что источником «Повести» являются записи, составленные в разных местах Русской земли после нашествия орд Батыя, а в летопись Данила Галицкого она вошла в уже скомпонованном южнорусским редактором виде. [471]471
Котляр М. Ф.Галицько-волинський літопис XIII ст. К., 1993. С. 73.
[Закрыть]
Для темы данного исследования не имеет принципиального значения, где и когда составлена вся «Повесть», более существенным представляется вывод о том, что одним из ее источников несомненно являлась киевская запись о нашествии Батыевой орды на старую Русскую землю.
Подводя итог исследованию киевского летописания первой половины XIII в., приходится признать, что дать убедительную его реконструкцию на основании фрагментов, сохранившихся в ряде летописей, чрезвычайно сложно. Практически у исследователей нет убедительных данных, кроме собственной интуиции, для утверждения о существовании особого киевского свода, приуроченного к конкретному году. Не удивительно, что М. С. Грушевскому казалось наиболее вероятной его датой 1223 г. В. Т. Пашуто обосновывал 1238 г., а А. И. Генсерский датировал последние киевские записи 1240–1246 гг.
Наверное, по этому поводу еще долго будут продолжаться дискуссии среди летописеведов. И все же комплекс специфических киевских сообщений о событиях южнорусской истории первой половины XIII в., содержащихся в Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской, а также в ряде более поздних летописных списков, не оставляет сомнений в существовании в Киеве летописной традиции, по меньшей мере до его разгрома монголо-татарами в декабре 1240 г.
8. Новгородское летописание XI–XIII вв.
Новгородская летописная традиция древнерусского времени сохранилась в нескольких списках. Древнейшим их них является Синодальный, получивший название «Новгородской первой летописи старшего извода». Памятник дошел до нас в списках XIV в., однако часть текста (до 1234 г.), как можно судить по палеографическим особенностям, написана еще в XIII в. Начало летописи до 1017 г. отсутствует. Кроме летописи старшего извода, известна также «Новгородская первая летопись младшего извода», представленная несколькими редакциями. Наиболее исправным считается Комиссионный список XV в., охватывающий время от 854 по 1447 г.
Исследователей давно занимает вопрос соотношения Синодального и Комиссионного списков Новгородской первой летописи. Б. М. Клосс и Я. С. Лурье полагали, что поскольку оба списка близки между собой в текстах после 1017 г., то аналогичная близость должна была иметь место и в более ранних известиях. На этом основании они пришли к выводу, что утерянная часть Синодального списка определенно была сходна с параллельным текстом Комиссионного. [472]472
Клосс Б. М., Лурье Я. С.Русские летописи XI–XV вв. В кн.: Методические рекомендации по описанию славянорусских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976, вып. 2. С. 82.
[Закрыть]Иной точки зрения придерживается В. Л. Янин. Сопоставив тексты обоих изводов за 1016–1074 гг., он не обнаружил в них совершенного тождества. Новгородская первая летопись младшего извода содержит целый ряд избыточных записей, отсутствующих в Синодальном списке, а в последнем имеются известия, которых нет в первом. В результате В. Л. Янин пришел к убеждению, что «протограф Новгородской первой летописи младшего извода в рассмотренной части не опирается на Синодальный список, а пользуется летописным текстом иного вида, более насыщенным историческим содержанием». В пользу особого характера текст на утраченных тетрадях Синодального списка свидетельствует и его меньший по сравнению с Комиссионным списком объем. До 1074 г. Синодальный и Комиссионный списки, согласно В. Л. Янину, представляют две разные летописные версии, отражающие особую новгородскую традицию Начального свода. Совпадение текстов Синодального списка и Новгородской первой летописи младшего извода начинается со статьи 1075 г. и продолжается до статьи 1204 г., хотя и на этом пространстве в них имеются существенные разночтения. [473]473
Янин В. Л.К вопросу о роли Синодального списка Новгородской первой летописи в русском летописании XV в. // Летописи и хроники. 1980. М., 1981. С. 166–171.
[Закрыть]
К Новгородской первой летописи принадлежит летописный отрывок до 1015 г. – Троицкий список XVI в. Важные известия о древнерусском периоде жизни Новгорода и Руси содержатся также в Софийской первой и Новгородской четвертой летописях.
Исследователи по-разному датировали начало новгородского летописания. Согласно схеме А. А. Шахматова, составной частью древнерусского летописного древа являлся Новгородский свод 1050 г. с дополнениями 1079 г. Он составлен якобы по распоряжению новгородского епископа Луки и князя Владимира Ярославича, и в своей основе имел древнейшую киевскую летопись 1039 г. Впоследствии Новгородский свод 1050 г., как думал А. А. Шахматов, оказал влияние на Начальный киевский свод. [474]474
Шахматов А. А.Разыскания о древнейших русских летописных сводах… С. 170–185, 412, 514–515.
[Закрыть]
Вывод А. А. Шахматова был решительно поддержан Б. А. Рыбаковым, значительно расширившим и углубившим аргументацию предшественника. Существенной его новацией явилось то, что гранью между новгородской летописью XI в. и приписками к ней он считал не 1050, а 1054 г. – год смерти Ярослава Мудрого и смены новгородского посадника, которым по велению Изяслава Ярославича стал Остромир. Последний и явился инициатором создания летописи, время оформления которой приходится на 1054–1060 гг. Одним из главных аргументов в пользу такого предположения может быть определенная идеологическая предубежденность летописца, принижающая в ряде известий князя Ярослава Мудрого. Принадлежать она могла только Остромиру, приходившемуся сыном посаднику Константину Добрыничу, казненному Ярославом. Таким образом, сын мстил Ярославу за смерть отца и старался очернить князя перед потомством. [475]475
Рыбаков Б. А.Древняя Русь. М., 1963. С. 193–198, 205.
[Закрыть]
Идея Новгородского свода 1050 г. не нашла поддержки в работах М. Д. Приселкова, А. Н. Насонова, Д. С. Лихачева, М. Н. Тихомирова. Как замечал М. Н. Тихомиров, если существовал Новгородский свод 1050 г., то он должен был включить в свой состав все новгородские известия за XI в., которые затем вошли бы в киевскую летопись. Между тем «Повесть временных лет» содержит в своем составе лишь ничтожное количество их. [476]476
Тихомиров М. Н.Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М., 1940. С. 55.
[Закрыть]Согласно Д. С. Лихачеву, источником новгородских известий в «Повести временных лет» были устные рассказы Вышаты и его сына Яна. [477]477
Лихачев Д. С.«Устные летописи» в составе «Повести временных лет». «Исторические записки». 1945. № 17.
[Закрыть]
Наличие противоположных взглядов на раннее новгородское летописание свидетельствует о том, что решение этого вопроса не находится в прямой зависимости от присутствия (или отсутствия) новгородских известий за XI в. в киевской летописи. Во-первых, они действительно могли быть внесены в нее киевскими летописцами со слов своих новгородских информаторов, а во-вторых, даже если бы и вовсе отсутствовали, это не значило бы, что в Новгороде в это время не было летописной традиции.
А. А. Шахматову казалось, что содержание новгородских записей в Начальном своде не оставляет никакого сомнения в том, что они были составлены в Новгороде. Основания к такому однозначному выводу сводятся, по существу, к незамысловатой формуле, что новгородцам это было ближе и они лучше знали свои события. Между тем многие из приведенных им «новгородских» записей при внимательном их прочтении ничего специфически новгородского не обнаруживают, а некоторые и вообще отсутствуют в новгородских летописях. Вот только несколько примеров.
Статья 6478 г., рассказывающая о приглашении князя Владимира на новгородское княжение. А. А. Шахматов полагал, что перед нами народное новгородское предание, на что указывает, в частности, активная роль Добрыни – одного из популярных новгородских посадников. [478]478
Шахматов А. А.Разыскания о древнейших русских летописных сводах… С. 173.
[Закрыть]Как видим, аргумент более чем сомнительный. Новгородское предание рассказа доказать нечем, а Добрыня был не только новгородским, но и киевским деятелем. И киевским в первую очередь.
Если мы обратимся к стилистике записи, то окажется, что она принадлежит киевлянину. Летописец находится там, куда пришли новгородцы. «В се же время приидоша людье новгородстѣи, просяще князя себѣ». Получив Владимира, они уходят в Новгород: «И поиде Володимеръ с Добрынею, уемъ своим, к Новуграду». [479]479
НПЛ. С. 121.
[Закрыть]Если бы об этом событии писал новгородец, он, несомненно, употребил бы другие глаголы: в Киев новгородцы бы «поидоша», а с Киева «прииде» или «приидоша».
Статья 6496 г., рассказывающая о распределении волостей между сыновьями Владимира. А. А. Шахматов не отрицает того, что вся статья составлена редактором Начального свода, но убежден, что известия о Вышеславе и Ярославе почерпнуты им из Новгородского свода 1050 г. Форма глагола «посадиша» больше соответствует новгородцу. Киевлянин употребил бы слово «посади». [480]480
Шахматов А. А.Разыскания о древнейших русских летописных сводах… С. 176.
[Закрыть]Конечно, если бы запись касалась только Вышеслава и Ярослава, можно было бы рассуждать на тему о языковых предпочтениях. Кстати, весьма сомнительных, так как в данном случае в киевской летописи присутствуют обе формы – «И посади Вышеслава в Новгородѣ… Умершю же старѣишему Вышеславу в Новѣгородѣ, и посадиша Ярослава Новѣгородѣ», [481]481
ПВЛ. Ч. 1. С. 83.
[Закрыть]а в Новгородской первой только одна – «посади», которую А. А. Шахматов считал естественной в устах киевлянина. Следуя логике исследователя, нам бы пришлось отыскивать и другие летописные своды, в которых содержались известия о посажении Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, Бориса в Ростове и т. д. Вряд ли может быть сомнение в том, что эти сведения киевскому летописцу не надо было разыскивать в областном летописании. Они имелись в киевском.
Статья 6544 г. А. А. Шахматов считал, что к числу новгородских известий в ней относится следующее сообщение: «Иде Ярославъ Новугороду, и посади сына своего Володимера Новѣгородѣ, епископа постави Жидяту». [482]482
Там же. С. 101.
[Закрыть]Здесь небезынтересно заметить, что аналогичной записи в Новгородской первой летописи вообще нет. Что же касается стилистических ее особенностей, то они даже по наблюдению самого А. А. Шахматова исключительно киевские: не «посадиша» и «поставиша», но «посади» и «постави». К тому же форма глагола «иде» не оставляет сомнения в том, где находился летописец. Если бы фраза принадлежала новгородцу, в ней бы стоял глагол «прииде».
Приведенные примеры, которые можно и продолжить, не позволяют согласиться с тем, что все новгородские известия за XI в. в Начальном киевском своде имеют новгородское происхождение. Они, разумеется, не являются доказательством отсутствия в Новгороде уже в XI в. местной летописной традиции, но и не дают оснований для той реконструкции Новгородского свода 1050 г., с приписками до 1079 г., которую предложил А. А. Шахматов. [483]483
Шахматов А. А.Разыскания о древнейших русских летописных сводах… С. 611–629.
[Закрыть]В ней явно многое взято из киевских летописей. Ссылки на Софийскую первую и Новгородскую четвертую летописи вряд ли спасают положение, поскольку невозможно доказать, что в них новгородские известия за XI в. являются оригинальными, а не позаимствованными. К примеру, статья 6550 г. о походе новгородского князя Владимира Ярославича на греков, составленная А. А. Шахматовым из записей Софийской первой и Новгородской четвертой летописей, несомненно в своей основе базируется на киевских известиях. По существу, в обоих летописях мы имеем дело с вольным пересказом киевской записи, причем сделанной не обязательно в 50-е годы XI в. В Синодальном списке об этом событии помещена лишь краткая фраза – «Володимеръ иде на Грекы», а в Комиссионном о нем вообще не упомянуто.
Если исходить из реальных летописных известий, а не из воображаемой реконструкции свода то ли 1050, то ли 1054 г., то к числу собственно новгородских записей можно отнести только статьи, повествующие о новгородском периоде княжения Ярослава, его сына Владимира, а также так называемые приписки до 1060 г.
Как полагал Б. А. Рыбаков, наиболее интересным разделом новгородской летописи XI в. является «Повесть о Ярославе», написанная, вероятно, новгородцем – современником событий и, может быть, посадником Константином, сыном Добрыни. [484]484
Рыбаков Б. А.Древняя Русь… С. 201.
[Закрыть]Его руку будто бы выдает резко критическое отношение летописца к ряду поступков Ярослава: попытке бежать за море, к варягам, отказу платить дань Киеву, избиению новгородцев.
Трагическая развязка отношений Ярослава и Константина, приведшая к казни посадника в Ростове, делает такой вывод вполне правдоподобным, однако кроме идеологического других аргументов на этот счет у нас нет. Если верно предположение Б. А. Рыбакова о летописной деятельности Остромира, то определенная тенденциозность новгородских записей могла принадлежать и ему.
Со своей стороны считаем, что идеологический момент здесь явно преувеличен. То, что кажется проступком нам – потомкам, не обязательно таковым воспринималось современниками. Отказ Ярослава посылать ежегодную дань Киеву вряд ли мог быть поставлен кем-либо из новгородцев ему в вину. Ведь вместо одной тысячи гривен на содержание дружинников в Новгороде Ярослав намеревался использовать все три, которые собирались с Новгородской земли и две тысячи из них уходило в столицу Руси. Что касается попытки Ярослава уйти к варягам, которая, наверное, была вызвана необходимостью получения военной помощи, то фиксация ее летописцем не носит характера осуждения или иронии по поводу трусливости князя.
Б. А. Рыбаков подчеркивает, что на контрасте с Ярославом описание княжения Владимира дается красочно и доброжелательно. Но ведь в этом описании сообщается не просто о попытке уйти за море, но о паническом его бегстве. «Слышавъ же се Володимѣръ в Новгородѣ, яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся, бѣжа за море». [485]485
ПВЛ. Ч. 1. С. 54.
[Закрыть]
Казнь новгородцев, которые расправились с варягами, творившими насилие в Новгороде, конечно, не украшает Ярослава, но летописец подчеркивает не столько это, сколько горькое и искреннее его раскаяние. «Ярославъ заутра собра новгородцевъ избытокъ, и сътвори вѣче на полѣ и рече к ним: „Любимая моя и честная дружина, юже вы исѣкохъ вчера въ безумии моем, не топѣрво ми ихъ золотомъ окупитѣ“». [486]486
НПЛ. С. 174.
[Закрыть]Из «Повести временных лет» следует, что Ярослав при этом даже прослезился. Новгородцы простили своего князя, не высказав ему ни единого слова упрека, а на его призыв выступить на Святополка, избивающего на юге Руси братьев, ответили единодушным согласием.
После ухода Ярослава в Киев, как заметил Б. А. Рыбаков, он как бы выпал из поля зрения новгородского летописца. На протяжении 1018–1035 гг. записи становятся отрывочными, от 1036 до 1052 г. идет нечто вроде летописи Владимира Ярославича, а затем до 1060 г. мы имеем дело с летописью Остромира, которая объединила все предыдущие части. [487]487
Рыбаков Б. А.Древняя Русь… С. 201.
[Закрыть]
Анализ известий, которые можно связать с творчеством новгородских летописцев, показывает, что число их крайне невелико, к тому же они производят впечатления нерегулярной погодной летописи, но записей, ведшихся от случая к случаю. В так называемой летописи Владимира Ярославича собственно новгородских статей всего три: 1045 г. – о пожаре Софии и закладке нового храма; 1050 г. – о свершении св. Софии и смерти жены Ярослава; 1052 г. – о смерти Владимира и погребении его в Софийском соборе. В Комиссионном списке под 1049 г. содержится еще одна запись о пожаре Софии, но она, несомненно, сделана уже в XII в. Рассказав о пожаре, летописец заметил, что старая София стояла в «конець Пискуплѣ улицѣ, идеже нынѣ поставилъ Сотъко церковь камену Бориса и Глеба над Волховым». [488]488
НПЛ. С. 181.
[Закрыть]Об освящении этого храма сообщается в летописной статье 1173 г.: «Того же лѣта свящаше церковь святу мученику Бориса и Глѣба архиепископъ новрогодъкыи владыка Илья». [489]489
НПЛ. С. 223.
[Закрыть]
Ко времени посадничества Остромира (1054–1060 гг.) относится еще меньше записей. Под 1054 г. сообщается о клевете холопа Дудикы на епископа Луку и суде над ним митрополита Ефрема, а под 1057 г. содержится рассказ о прощении епископа Луки, занятии им своего стола в Новгороде и казни клеветника Дудикы. Не исключено, что новгородское происхождение имеет также сообщение 1060 г. о военном конфликте между Русью и Чудью (Сосолами), в котором были задействованы новгородцы и псковичи. «И изидоша противу имъ (чуди. – П. Т.) плесковцѣ и новгородци на сѣчю, и паде Руси 1000, а Сосолъ бещисла». [490]490
Там же. С. 183.
[Закрыть]Об Остромире в новгородской летописи имеется два сугубо хроникальные известия: о поставлении его посадником Новгороду и о гибели в сражении с Чудью. Оба содержатся в летописной статье 1054 г. «И прииде Изьяслав к Новгороду и посади Остромира в Новегороде. И иде Остромир с новгородци на Чюдь и убиша его Чудь и много паде с ним новгородцев». [491]491
Софийская первая летопись. ПСРЛ.Т. IV. СПб., 1848. С. 139.
[Закрыть]Вряд ли может быть сомнение, что Остромир погиб во время того сражения, о котором сообщается в Новгородской первой летописи под 1060 г.
В Новгороде, таким образом, Остромир посадничал шесть лет. Если предположить, что первый новгородский летописный свод был составлен им (или дьяконом Григорием под его присмотром), то объяснить такое невнимание, если не к собственной персоне, то хотя бы к событиям, в которых ему довелось участвовать, невозможно. Это обстоятельство ставит под сомнение участие посадника Остромира в создании Новгородского летописного свода 50-х годов XI в.
Собственно, и с самим сводом далеко не все так ясно, как казалось А. А. Шахматову и Б. А. Рыбакову. Относить его создание к 50-м годам XI в. решительно нет никаких оснований. Из анализа Новгородской первой летописи сделать такой вывод невозможно. Ни в 1050 г., ни в 1054 г. в ней нет совершенно никаких свидетельств, которые бы указывали на работу сводчика. По-видимому, понимал это и А. А. Шахматов, если в ряде мест своих «Разысканий», вместо определенного утверждения говорил о том, что появление Новгородского свода относится по времени до 90-х годов XI в. [492]492
Шахматов А. А.Разыскания… С. 182.
[Закрыть]Нетвердостью в выводе о Новгородском своде 1050 г. можно объяснить и постоянное подчеркивание А. А. Шахматовым его органического единства с дополнениями 1079 г. После этого новгородское летописание, как ему казалось, было возобновлено только около 1097 г. [493]493
Шахматов А. А.Разыскания… С. 210, 526.
[Закрыть]
В пользу того, что Новгородский свод составлен в 1050 г., как полагал А. А. Шахматов, свидетельствует завершение строительства Софийского собора в 1049 г., а также появление около этого времени точных дат. Так, известие 1049 г. указывает не только на день, но и час, когда сгорела старая дубовая церковь св. Софии. [494]494
Там же. С. 514.
[Закрыть]Отмеченная особенность действительно могла характеризовать новгородское летописание уже первой половины XI в., но свидетельствовать о работе сводчика в это время никак не может. К тому же, о чем шла речь выше, запись эта принадлежит летописцу XII в.
В Новгородской первой летописи младшего извода есть единственное свидетельство работы раннего сводчика, находящееся в статье 1016 г. После рассказа о победе Ярослава над Святополком и одарении новгородцев гривнами летописец отметил, что кроме этого им была дана правда и устав, сопровожденные напутствием князя: «По сеи грамотѣ ходите, яко же списах вамъ такоже держите». [495]495
НПЛ. С. 176.
[Закрыть]Дальше в статье помещена «Правда Ярослава», а за ней и «Пространная Правда», принятая Ярославичами в 1072 г. на съезде в Вышгороде.
Б. А. Рыбаков считал, что помещение «Русской Правды» было сделано позднейшим сводчиком и несколько искусственно, так как сюда попала и «Правда Ярославичей». [496]496
Рыбаков Б. А.Древняя Русь… С. 203.
[Закрыть]Разумеется, позднейшим, вопрос только в том, какого времени. {15}15
А. А. Шахматов, М. Д. Приселков и С. В. Юшков полагали, что краткая редакция «Русской Правды» была включена в новгородские летописи в первой четверти XV в. или в 1448 г. А. А. Зимин думал, что это случилось уже в 1136 г.
[Закрыть]При всей неопределенности этого свидетельства, думается, есть все основания полагать, что оно указывает на то, что составитель первого новгородского свода работал после 1072 г. Когда после, сказать сложно, но определенно в его руках уже была «Повесть временных лет». Сличение Новгородской первой летописи младшего извода с киевской летописью X–XI вв. обнаруживает заметное сходство на пространстве между княжением Игоря Старого и Изяслава Ярославича. Причем их близость проявляется не только в составе киевских известий, но также и в их отсутствии. Блоки так называемых пустых и полупустых лет в обеих летописях практически идентичны. Последней общей записью является летописная статья 1074 г., повествующая о кончине Феодосия Печерского.
По существу, Новгородская первая летопись младшего извода до статьи 1074 г. напоминает структурно и по составу известий «Повесть временных лет», хотя и не совсем адекватна ей. Можно предполагать, что новгородский сводчик начала XII в. использовал киевскую летопись для своей летописи выборочно. {16}16
Д. С. Лихачев считал, что уже раннее новгородское летописание знало третью редакцию «Повести временных лет». В пользу этого свидетельствует летописная статья 1106 г., в которой содержится пояснение, что Святоша – это «тесть Всеволожь».
[Закрыть]По какой-то причине его труд прервался, что называется, на полуслове. Статья 1074 г. осталась недописанной и это дает основание полагать, что этот ее фрагмент завершал собой первый новгородский свод. Последующие летописцы уже не вернулись к прерванной работе по списыванию киевских известий, что объясняется, по-видимому, все большим сосредоточением их внимания на местной истории.
В свое время Н. И. Костомаров, на основании наблюдения над особым наполнением летописи после 1117 г. информацией о Новгороде, пришел к выводу, что с этого времени мы имеем дело с регулярным новгородским летописанием, ведшимся по свежим следам. В пользу этого свидетельствует обилие в летописных записях точных дат, а также таких подробностей, которые невозможно припомнить задним числом. К сожалению, стилистическая однотонность новгородской летописи XII – 40-х годов XIII в., отсутствие в ней характерных литературных зачинов и похвал, ярких посмертных панегириков и назидательных поучений затрудняет разделение всего летописного материала на отдельные авторские части.
После недописанной статьи 1074 г. и до 1116 г. в Комиссионном списке идут пустые и полупустые годы. Последние содержат краткие записи преимущественно южнорусского содержания. В некоторых из них имеются в качестве приписок к основному тексту очень лаконичные новгородские известия, лишенные каких-либо подробностей. При чтении этого фрагмента летописи трудно отрешиться от мысли, что его появлением мы обязаны позднейшему сводчику, пытавшемуся хоть как-то заполнить пространство между 1074 г., на котором обрывался первый новгородский свод, и 1116 г., когда начинается регулярная новгородская погодная летопись. Видимо, прав был А. А. Шахматов, полагавший, что небольшое число новгородских известий за последнюю треть XI в. указывает на то, что в эти годы летописание в Новгороде не велось. Вряд ли только можно согласиться с тем, что погодная летопись, которая составлялась затем без перерывов до 1167 г., начинается записью 1108 г. о смерти епископа Никиты. [497]497
Шахматов А. А.Разыскания… С. 210, 526.
[Закрыть]Рубежной в этом смысле является все-таки статья 1116 г., повествующая о походе Мстислава на Чудь, закладке нового новгородского детинца, а также каменных укреплений Ладоги. Не исключено, к этому году можно отнести составление первого новгородского свода.
На основании наблюдения над присутствием в новгородском летописании южнорусских известий Д. С. Лихачев пришел к выводу, что рубежным в нем следует признать также и 1136 г. В этом году был составлен «Софийский временник» – княжеская летопись, после чего летописание перешло в руки владычных летописцев. [498]498
Лихачев Д. С.Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 154–184.
[Закрыть]Еще раньше считал 1136 г. переломным в новгородском летописании Н. И. Костомаров. [499]499
Костомаров Н. И.Лекции по русской истории… С. 63.
[Закрыть]А. А. Шахматов, как известно, связывал авторство статей 1136–1137 гг. с иеродиаконом Антоньева монастыря Кириком. [500]500
Шахматов А. А.Разыскания… С. 185.
[Закрыть]Согласно исследованию А. А. Гиппиуса, рубежной является статья не 1136, а 1132 г., после чего начинается уже владычная летопись. [501]501
Гиппиус А. А.К характеристике новгородского владычного летописания XII–XV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 357.
[Закрыть]
После статьи 1074 г. оба списка Новгородской первой летописи обнаруживают больше сходства, что, возможно, позволяет возводить их к единому протографу, хотя и переписывавшемуся впоследствии разными авторами. Анализ Синодального списка обнаруживает следы работы двух летописцев или двух сводчиков, говорящих о себе в первом лице. Рассказав о строительстве нового моста через Волхов и расписывании притворов святой Софии под 1144 г., летописец замечает, что в этот год он был освящен на попа. «Въ то же лѣто постави мя попомъ архиепископъ святый Нифонт». [502]502
НПЛ. С. 27.
[Закрыть]Конечно, запись сделана не в 1144 г., а позже. Об этом свидетельствует, в частности, наименование епископа Нифонта святым, что могло быть только после его смерти.
Вероятно, этому священнику принадлежит и статья 1156 г., в которой рассказывается о смерти Нифонта и погребении его в Киеве в Печерском монастыре. Автор решительно опровергает сплетни, согласно которым Нифонт имел намерение уйти в Царьград с реликвиями и казной св. Софии. Обращаясь к современникам, он говорит: «О семь бы разумети комуждо насъ, который епископъ тако украси святую Софию, притворы испьса, кивотъ створи и всю извъну украси; а Пльскове святого Спаса церковь създа камяну, другую въ Ладозѣ святого Климента». [503]503
Там же. С. 29.
[Закрыть]Кроме приведенных слов, современника описываемых событий выдает и фраза, объясняющая причины ухода Нифонта в Киев и его упокоения в Печерском монастыре. «Мьню бо, яко не хотя Богъ, по грѣхомъ нашимь, дати намъ на утеху гроба его, отведе и Кыеву, и тамо прѣставися; и положиша и въ Печерьскемь монастыри, у святѣи Богородици въ печере». [504]504
НПЛ. С. 29.
[Закрыть]
С легкой руки Д. Прозоровского, лицом, говорившим о себе в первом лице в статье 1144 г., считается священник церкви св. Иакова в Неревском конце Герман Воята. На эту мысль навела его летописная статья 1188 г., в которой обстоятельно и сочувственно сообщается о смерти этого священника. «Томъ же лѣтѣ переставився рабъ Божии Германъ, иерѣи святого Якова, завемыи Воята, служившю ему у святого Иякова полъпятадесять лѣт въ кротости и смирении и богобоязньствѣ». [505]505
Там же. С. 39.
[Закрыть]Эти слова, согласно исследователям, принадлежат наследнику летописного дела Вояты, который таким образом почтил своего предшественника.
Думается, что эта догадка не убедительна. Герман был священником церкви св. Якова, а новгородская летопись, с которой сделан Синодальный список, вне всякого сомнения писалась при св. Софии. {17}17
Впервые эту мысль высказал М. П. Погодин, а затем развил и обосновал А. А. Шахматов.
[Закрыть]Кроме того, автор статьи 1188 г. ни единым словом не обмолвился об особой книжности Германа, что в случае его летописной деятельности, продолжавшейся чуть ли не полстолетия, кажется невероятным. В лучшем случае можно предположить, что Герман Воята сделал список новгородской летописи для церкви св. Якова, однако и для этого у нас нет оснований. Согласно летописной характеристике, он был краткий, смиренный и богобоязненный, но вовсе не книжник.