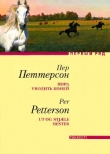Текст книги "Я проклинаю реку времени"
Автор книги: Пер Петтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
15
Это случилось в субботу, около полуночи. Я спускался вниз в город, возвращаясь с маминого пятидесятилетия. Я решил дойти до площади Карла Бернера пешком, хотя легко мог бы доехать на метро, это меньше пятнадцати минут, но мне надо было выветрить из организма этот вечер.
Идти пешком было далеко и темно, хотя фонари вдоль дороги светились, некоторые желтым, некоторые оранжевым, а некоторые холодным синим блеском.
Я ходил этим маршрутом годами, но, пока не съехал от родителей, почти всегда двигался в обратном направлении, потому что любил ходить по правой стороне этой дороги, но обязательно вместе с потоком машин, а тогда оставалось идти из центра, в противном случае мне казалось, что все водители пялятся на меня, а некоторые даже опускают стекла и показывают пальцем – вот, мол, чудак, один из всех прет по жизни не в ту сторону.
Но я переехал от родителей, жил отдельно уже три года. И сейчас шел осенней ночью по городу, возвращался с пятидесятилетия мамы и шагал к центру мимо Орволла, под круговой развязкой на кольце, и дальше вниз мимо района Торсхов и школы в Розенхофе, печально серевшей в конце улочки направо. Я проучился в ней два года, пока не пошел дальше, в гимназию. Здание похоже на тюрьму восемнадцатого века, парижскую Бастилию, например, и годы, что я провел в ее стенах, не были самым радостным периодом жизни. Но теперь школа вместе со школьными годами осталась позади, а я начал спуск к площади Карла Бернера.
Дойдя до нее, я в который раз подумал, какая же это прекрасная площадь, точно солнце с лучами-улицами, сияющими во все стороны, такой, насколько я знал, могла быть городская площадь в каком-нибудь большом городе в мирное межвоенное время, в Берлине из кёстнеровских «Эмиля и сыщиков» или в Цюрихе, в Базеле и Будапеште, где трамвайные пути и автобусные маршруты пересекались в скрупулезно просчитанном орнаменте стальных дуг, блестевших на брусчатке, а в воздухе надо мной, гораздо выше движения, выше трамвайных колес и резинового хода шин вздымалась путаница проводов, протянутых от домов на одной стороне, через красивые металлические столбы посередке на другую сторону и закрепленных на домах там. Провода были как крыша, под которой можно спастись от дождя. Так мне казалось.
Эта площадь – особый мир: вот на запад отходит царственно широкая улица Кристиана Микельсена, по бокам ровными шеренгами замерли липы, правильно зеленые или, как в этот вечер, выпроставшие голые серые ветки в серый сумрак ночи. В другую сторону отпочковывается Гренсевейн, она делает зигзаг за станцией метро и исчезает, на домах этой улицы горит реклама, и за углом на Финнмарк-гате, и наискось через площадь, рядом с заправкой, тоже реклама, а неподалеку от книжного магазина, левее или правее, смотря где вы стоите, сияет красными полосами неоновых ламп вход в кинотеатр «Ринген» с Тронхеймсвейен, но после сеанса, еще плохо ориентируясь на свету, вы выйдете на Тромсё-гате вблизи кондитерской Бергенсена. Еще пересекая площадь, я почувствовал себя лучше. В голове не гудело и не ныло. Было очень поздно, ночь, вокруг высилась темень, вихри снежной крупки кружились в порывах северного ветра, и транспорт реденько полз в сторону центра. А я шел по широкой площади далеко от тротуаров, переступал рельсы и камни брусчатки, это была моя площадь, мой перекресток большого города, ее называли Красной площадью – до войны потому, что в Восточном Осло она была такая одна, а в семидесятые потому, что многие утверждали, будто бы светофоры на площади всегда горят этим цветом.
Я отпер дверь в подъезд, и бодрый запах «Зало» встретил меня на первом этаже и сопроводил до второго, где я вставил ключ в замок и вошел в квартиру. Я аккуратно закрыл за собой дверь, она медленно скользнула на место и тихохонько щелкнула.
Я сразу почувствовал, что она здесь, нутром понял, эта поднявшаяся пониже пупка волна, эта дрожь в животе, и чтобы удержать это чувство как можно дольше, чтобы оно не пропало, и в одних носках прямиком прошел на кухню, не сказав хотя бы «привет» в полуоткрытую дверь в гостиную, где за книжным шкафом стояла постель.
Я дал ей связку ключей, она могла приходить, когда захочет, если захочет. Прийти рано утром и позавтракать со мной, чтобы отдохнуть от своей семьи и поплакать у меня здесь, отдохнуть от езды на метро, потому что ей всегда приходилось выскакивать на «Экерн» из вагона и тошниться за навесом, и еще раз делать так на станции «Хасле». Когда она изредка ночевала у меня и я провожал ее до трамвая на площади Карла Бернера и ехал с ней почти до самой школы, ее рвало за колоннадой Дейхмановской библиотеки. Однажды я ждал ее у входа в метро почти у самого ее дома и видел, как мать ударила ее по лицу, когда она надела не свое пальто, а синее полупальто брата, собираясь идти со мной в кино смотреть «Клют» с Джейн Фондой и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Его повторяли в кинотеатре «Фрогнер». Сам я его уже видел, но она нет.
Я бесшумно положил связку ключей на столик рядом с мойкой, бесшумно налил себе апельсинового сока из холодильника и сел к столу, на котором лежала книга, я читал в тот момент «Отверженных» Гюго, уже кончил первый том и порядком углубился во второй.
Потягивая сок, я листал страницы, вспоминая, что успел прочитать утром, я читал, не вылезая из кровати, примерно до половины двенадцатого, это была суббота. Не в моих привычках так проводить утро, но я знал, что мне важно отхватить как можно больше страниц, пока день не набрал обороты и не грянуло время гнать себя на улицу и ехать шесть остановок на метро к маме на юбилей.
Я снял с себя на кухне всю одежду, положил ее на стул здесь же и пошел в маленькую ванную, чтобы смыть с себя этот вечер с этим празднованием, почистить зубы и босиком прошлепать в темноте к дивану в гостиной за книжным шкафом, обогнув по дороге стол, заваленный стопками книг. На стене рядом со столом висела фотография Мао, но сейчас ее было не разглядеть. Я осторожно проскользнул под одеяло. Диван не был рассчитан на двоих, но нам обоим много места не требовалось, и я рассчитывал, что она будет спать дальше под моей рукой, проснется под утро и удивится – когда я здесь появился? Но она была такая распаренная под одеялом, а я такой холодный, что она сразу проснулась, повернулась и спросила:
– Это ты?
– Конечно, я.
– Как скажешь.
– Кончай, а то буду ревновать.
– Будешь?
– Еще как.
– Это хорошо.
– Ты и я – мы вдвоем, – сказал я, – только ты и я против целого мира.
– Это правда, – сказала она, – так оно и есть: ты и я; ты, я и эта твоя партия, в которую я тоже вступлю.
– Вступишь, когда дорастешь.
– Я не чувствую себя маленькой.
– Я знаю, ты, конечно, совсем не маленькая, – сказал я, хотя она была очень маленькая, на несколько лет младше меня, а я тоже был еще шкетом, и я приподнялся, растер руки, чтобы они согрелись, и сказал: – Иди сюда, – и стал ласкать ее совершенно особым движением, и она замерла и лежала не шевелясь, а потом я сказал: – Черт возьми, как же было хорошо, – и об этой вещи, об этом «черт возьми» знали только мы двое, и никто больше, и ни у кого подобного и в заводе не было; как же мы были молоды тогда, и как мало знали.
– Слушай, но сейчас у нас нет на это времени, – сказала она. – Черт, как же было хорошо. Ты далеко ушел вперед?
– Очень. Я сейчас гораздо дальше, чем когда ты была здесь в последний раз.
– Вот хорошо, – обрадовалась она, мы лежали на спине, плечо к плечу, рука в руке, и глядели в потолок, но ничего не видели, потому что тьма кромешная, и нам едва хватало места на диване, она вжималась в стену, а я скреб левой ногой по полу. И я начал рассказывать с того места, где мы в прошлый раз, лежа так же, остановились, поскольку тогда я не прочитал дальше, и она велела мне читать быстрее, потому что гораздо приятнее не читать самой, а слушать меня, тогда она как будто бы видит картинки и запоминает их, она может в любой момент вызвать их в памяти; и я, естественно, читал взахлеб, а теперь мы лежали рядом, как делали часто, и я рассказывал ей о Жане Вальжане, которого отправили на каторгу за кражу хлеба. Но он умудрился сбежать во время пожара, сменил имя и внешность и в новом качестве прошел все ступени лестницы снизу вверх и стал мэром. Но затем ему снова пришлось пуститься в бега, потому что одержимая ненавистью полицейская ищейка Жавер выследил его.
В книге описывается 1832 год, и в тот вечер я рассказывал, как Жан Вальжан пробирается по катакомбам парижской клоаки и тащит на спине потерявшего сознание Мариуса, возлюбленного своей приемной дочери Козетты, а в городе у них над головами – революция, на улицы вышло четвертое сословие, le people, нетерпеливые, это их час, народ, плебс, такие же люди, как мы, вернее, наоборот, это мы хотим быть как они. И плебс строил баррикады, перегораживая узкие улочки, проспектов тогда еще не было, их прорубили позже, и стало невозможно строить баррикады от края до края улицы, без чего вся затея теряет смысл, зато легче стало маршировать колоннам военных, которых бросают на подавление малейших попыток сопротивления, и в этом смысл проспектов.
Она не заснула, как сморился бы ребенок, которому рассказали на ночь историю. Она лежала в темноте, распахнув голубые глаза, с горячими руками и жадным ртом, и говорила:
– Ничего себе, тащить Мариуса по всей клоаке, это же тяжело, хотя Жан Вальжан и силач.
– Да уж, я бы никогда не справился.
– Откуда ты знаешь? Ты тоже очень сильный.
– Ты думаешь?
– Я не думаю, я знаю, – сказала она, и мне польстило, как она это сказала.
Когда я закончил свое выступление этого дня, или вечера, или ночи, как кому угодно, у меня пересох рот и кончился запал, но тут она сказала:
– Давай пойдем перекусим, а?
– Я бы лучше поспал, если позволишь. Я до смерти устал на празднике.
– А ты не расскажешь о нем? Как все прошло? Понравился ли маме подарок?
– Нет, – сказал я.
У меня не было подарка. Вместо него я написал речь, но, когда пришло время ее произнести, я был уже пьян.
– Не страшно, – сказала она. – Но я все-таки поем, пожалуй. Почему-то когда я так лежу и слушаю, на меня нападает ужасный жор.
– Поешь, конечно, – отозвался я.
– А ты спи, сказала она, потрепала меня по щеке, перелезла через меня и, прежде чем она ступила на пол и дошла до кухни, белокурая, стройная, очень юная, я заснул и уплыл далеко-далеко.
16
Тем утром я валялся в постели, читая Гюго, пока позволяла совесть, а потом встал, принял душ, побрился и босой и мокрый пришел на кухню и встал перед столом, на котором лежала речь. Я несколько раз прочитал ее. Эту речь я написал взамен покупного подарка, это была выношенная мною идея – что я выступлю с речью, и не просто идея, я искренне в нее верил. Я хотел начать с реки Рио-Гранде, что это великая река, что она разделяет континенты, отделяет друг от друга культуры, а ширина ее такова, что трудно переправиться с берега на берег, из США в Мексику, если только ты не гангстер в бегах, которому нечет терять, и что же тогда удивляться, что нам с ней, стоя на разных берегах, трудно докричаться друг до друга, при таком-то расстоянии.
– Река называется Рио-Гранде, – думал я сказать, – а это значит «большой, огромный, гигантский», но, – собирался я продолжить, – есть и хорошие новости, мама, река мелеет. Это полнейшая неожиданность, эксперты посрамлены, от реки осталось несколько луж, так что перейти ее теперь – плевое дело. А причина в том, что осенью не было дождей, и летом тоже, и весной, скажу я и засмеюсь, так что и между нами ничто не упущено, не поздно дойти до противоположного берега или встретиться на полпути, мы лишь немного промочим ноги, а это полнейшая ерунда. Это я собирался сказать, и записал речь на листе формата А4.
Я вытащил и разложил на полу всю свою одежду, ее оказалось на удивление мало, но я не мог пойти на мамино пятидесятилетие в заношенном армейском бушлате, который таскал в хвост и гриву обычно. Я выбрал темный твидовый пиджак, который мне подарила по случаю мама, когда я должен был иметь приличный вид, на похоронах одного из многочисленных папиных братьев. Этот мой дядька остался в квартире на Воллеренга после нашего бегства в Грурюддален. В четырех стенах пахло одиноким мужчиной, одной и той же едой из недели в неделю, год за годом, теми же марками кофе, средствами для мытья посуды и кремами для обуви, трусами и кальсонами в среднем ящике, купленными в расчете на одного человека, шоколадом, от старости покрытым сверху пузырьками и сероватой патиной, а в нижнем ящике лежали коричневые носки, аккуратно разложенные парами, он раз в год затаривался ими на распродаже в Армии спасения. Он жил так, пока не умер на диване, зажатом среди натыканной впритирку мебели, в тускло освещенной гостиной, с опущенными кремовыми жалюзи, так что внутрь проникал лишь хилый лучик света, но с его похорон прошло два года, и я ни разу не надел больше твидовый пиджак.
Я зацепил крючок от вешалки с пиджаком за верх туалетной двери, сложил два листа А4 до формата А5 и сунул их во внутренний карман, спустился в носках на один этаж и вытащил из почтового ящика очередную посылку «Книжного клуба» в коричневой картонной упаковке, на этот раз «По ком звонит колокол» Хемингуэя, первый том из двух, и заодно прихватил две свои газеты и зеленый бланк квартплаты, которая все еще составляла сто семьдесят крон.
Была суббота. Я сел в метро на площади Карла Бернера и проехал надлежащие остановки, «Хасле», «Экерн», «Рислёкка» и так далее; мимо проплыли высокая красная штаб-квартира «Сименса», Эстре-Акернвейн немного внизу, пути и сортировочная станция справа у Алнабру, где множество товарных вагонов медленно катились один за другим по блестящим рельсам, тянувшимся параллельными рядами, или просто стояли на месте, странно оцепенев, уйдя в себя, и так ждали своей очереди.
Солнце еще виднелось на западе выше холмов, но в долине уже было темно, это самое поганое время года, темно, сыро и темно, мглистый свет сочился сквозь облака над сортировочной навстречу огням внизу, но дорогу среди путей было не высмотреть.
Все годы, что я прожил в Вейтвете, я по ночам слушал через открытое окно шум товарняков – стук стальных колес по стальным рельсам, протяжную жалобную песнь тормозов, а вслед за ней клацанье вагонов остановившегося состава, сцепившихся рука к руке, думал я тогда, плечо к плечу, эти звуки утешали меня посреди тишины и тьмы.
Перед станцией «Вейтвет» я встал и подошел к дверям. Там стоял мужчина, которого я знал в лицо и много лет с ним здоровался. Это был отец одноклассника моего брата, того, который шел следом за мной, а не самого младшего.
Он поздоровался, и я поздоровался.
– Привет, – сказал он.
И я сказал:
– Привет.
– Ты переехал, – сказал он, и я ответил «да», – но ты ведь все равно выходишь здесь, на этой станции, – сказал он, и я снова ответил «да», поезд остановился, двери открылись. Но я не вышел. Он вышел, а я стоял, вцепившись в блестящий поручень, пока двери с чавкающим звуком не закрылись. Он остановился на платформе, обернулся и удивленно посмотрел на меня в дверное окно, а потом вдруг поднял руку и стал колотить в стекло и что-то кричать, слов я не разобрал, но лицо у него было перекошенное и страшное. По какой-то причине мужик разозлился, честное слово, он лопался от злости.
Я прижался губами к стеклу и сказал, отчетливо артикулируя:
– Пошел на фиг. Идиот, – и подумал, что понятнее был бы, черт его дери, только язык глухонемых, поэтому я поднял руку и сделал несколько движений, которые, по-моему, вполне могли его заменить.
Мужик уперся руками в двери, но поезд покатился, и ему пришлось руки убрать, я сел, у меня стучало в висках, дыхание щекотало в горле, и я не мог продышаться все четыре станции до «Грурюда». Там я вышел, поднялся по лестнице, наверху постоял (за спиной у меня был киоск, справа открывался вид на пути), скрутил сигаретку, выкурил ее, опалив пальцы, потом перешел на противоположную платформу и стал ждать поезда, который должен был прийти еще через пять минут. И пришел. Я зашел в вагон, но не стал садиться, а стоял, держась за поручень и широко расставив ноги, как если бы вагон был кораблем, который идет поперек волны и кренится, ложась то на правый борт, то на левый, как обычно мотает суда в Северном море, и на этот раз я вышел на станции «Вейтвет».
Я спустился по лестнице и вышел из станции, заткнутой позади торгового центра и боулинга, у входа в который отирались те же, что и всегда, склизкие типы, куря сигареты с кое-чем, подмешанным в табак, и сотрясая воздух лишенной смысла и духа болтовней; некоторые были одеты в неизменные старые-престарые афганские дубленки, они зажимали их у ворота руками от холодного ветра.
Мне вдруг показалось глупым произносить речь только для пятерых членов моей семьи, слишком интимно, слишком некуда спрятаться. Друзей у мамы с отцом не было. Я не помню ни одного раза в детстве или отрочестве, когда к нам в дом приходил бы кто-то, кроме родственников: дядей, тетушек, моего дедушки с Волеренга – баптиста-проповедника по воскресеньям и рабочего-обувщика в остальные дни недели, а потом пенсионера вплоть до того дня, когда он преставился в том же году и в ту же неделю, что и король Хокон VII, или когда мама с папой сказали бы нам, что они уехали в город и вернутся поздно, потому что хотят провести вечер с друзьями. Сходить в кафе, или кино, или в гости к кому-то в Ламбертсэтере, Бёлере, Оппсале или где-то в той округе, где они легко могли знать многих, учитывая, кем они были и где мой отец работал. Но у них не было так заведено, они не дружили ни с кем ни на работе, ни в других местах, насколько мне было известно. А изредка навешали нас только отцовы братья и моя тетушка из Неса со своими половинами, да через год приезжала на Рождество из Копенгагена бездетная сестра мамы, наша богачка – муж ее занимался продажей автомобилей на экспорт, был тот еще свинтус и владел компактным фотоаппаратом, которым снимал все подряд, а из совсем уже благочестивого города в той же стране тем же путем, на корабле по морю, прибывали бабушка с дедом, оба с заскорузлыми руками, седые, одетые в серое, они непонятным образом казались заштрихованными ветром в серый тон, когда стояли на пристани и ждали моего отца, который спускался за ними по Тронхеймсвейн в одиноком такси, и несколько раз я тоже ехал в этом такси, а они стояли маленькие рядом со своими большими чемоданами.
Я спустился по крутой горке с красивой красной телефонной будкой, здесь мы, не щадя живота своего и натянув на самые уши синие шапки, катались на санках в детстве, унесшемся вихрем вдаль, потом я миновал поворот к Родюрвейн, прошел вдоль дома, зашел в подъезд и, наконец, открыл дверь в квартиру. В прихожей были те же обои, что всегда, те же зеркало и шкафчик для шляп с позабытым содержимым, забытыми варежками, забытыми шарфами, которым никто и никогда не пользовался иначе чем как подставкой для сумок. Я захлопнул дверь со стуком, но он потонул в гуле, катившем в прихожую со всех сторон. В кухоньке слева я увидел родственников из двух стран, из двух столиц и двух провинций, они стояли между столом и плитой, и кто-то уселся на край мойки, в гостиной теснились соседи из нашего дома и соседних, а на лестнице, как голуби на жердочке, сидели люди, которых я никогда не видел. Они держали в руках бокалы и сигареты, изо всех углов слышался смех и разговоры. Старенькая панельная квартира раздулась во все стороны сколько было мочи.
Копенгагенская тетка в знак приветствия вложила мне в руку бокал. Она хоть слегка и выдохлась, но все еще казалась дамой знатной и весьма сексапильной в своем облегающем блестящем платье, хотя ей было сорок с гаком и она была не дура выпить. Я никогда не любил ее. Из-за нее мы все выглядели идиотами.
В бокале было шампанское, уж не знаю, где они разжились деньгами на него, но я не медля выпил весь бокал и взял с подноса еще один и еще один – когда все пошли к столу, чтобы занять обозначенные именными карточками места.
Поднялся сосед и пожелал всем приятного застолья, в силу неведомых причин он всегда называл меня Арварсом, но относился ко мне тепло, и это было, что скрывать, приятно, так что ему можно было называть меня Арварсом, мы с ним всегда симпатизировали друг другу. Он был водителем грузовика, страстно влюбленным в рысаков, даже держат одного, пока не переехал сюда, и он от имени мамы и отца, которым приличествовало бы взять слово самим, пригласил всех нас на празднование пятидесятой годовщины той, которую все они так нежно любят, одной из живущих здесь, но нее же выделяющейся из всех, за что, видимо, они ее и любят. Ее хлебом не корми, дай поговорить не о том, к чему они тут привыкли, а о других феноменах, как он выразился, а дело в том, наверное, что она датчанка и все время читает книги, и слава Богу, продолжал этот милый сосед, а то разговоры у нас здесь в подъездах и на лавочках после ужина ведутся часто на один фасон, все перетираем до бесконечности те же унылые темы. Это надо признать. Но хорошо, что есть мама – с ее неизменной сигареткой, загадочной улыбкой и грудным смехом. Но она и от мира сего и может дать дельный совет относительно сложного агрегата со стеклянной колбой, который стоит у этого соседа на кухне рядом с мойкой, но иногда перемещается в прачечную, к старому чану в подвале, где его содержимое бродит и созревает трижды в год, – уж непонятно, откуда мама все это знает, возможно, вычитала в толстых книгах на иностранных языках. Оба составленных углом стола захохотали, и я тоже засмеялся, громко, а мама не покраснела ни на гран, а спокойно сидела, положив руки на колени, рядом со своим мужем, она улыбалась, и он смущенно улыбался стене на другом краю комнаты.
Эти слова и еще много других сказал маме сосед, называвший меня Арварсом, которого я любил. Я никогда до того не слышал, чтобы он восходил на такие речи, и позже тоже, он был приятный человек с тонкой душой, распирал грудью ремень безопасности и получал отличную зарплату. Смех не стихал, а когда он закончил речь анекдотом, никакого отношения к теме не имеющим, который мы слышали уже раз двадцать пять, довольно грубым, по чести говоря, про чукчу и бумажку, то вытянул вверх руку с бокалом и возгласил мамино здоровье, и все тоже подняли бокалы, опустили, выпили, и быстрее всех выпил, кажется, я.
Больше речей не последовало, никто их и не ждал, от них часто становится неловко и безмолвно, поэтому, когда я с трудом встал в узком зазоре между столом и стеной и постучал по бокалу, уже пустому, требуя тишины, все удивленно обернулись в мою сторону, осторожно и несмело улыбаясь. Они побаивались, как бы чего не вышло. Все знали, что я против маминой воли бросил школу рядом с площадью Карла Бернера, куда мама загнала меня почти силком, потому что мечтала сама ее закончить, но у нее не оказалось такой возможности. Эту тему обсуждали в двух странах, во всех корпусах, на всех этажах, за каждой дверью судачили, что я теперь заделался коммунистом, то есть маоистом, о которых они слышали только по телевизору, и пошел в рабочий класс, как будто я, черт возьми, успел из него выйти, я и так был им всегда с рождения. А они наоборот мечтали, чтобы я стал не рабочим, вышел в большие люди, и они бы мной гордились. Они желали мне добра, любили меня, а я любил их.
Собираясь произнести первую фразу, я вдруг понял, что пьян. Я с утра еще ничего не ел, то ли забыл, то ли аппетита не было, а теперь опрокинул на пустой желудок три бокала шампанского и один вина. Когда я встал и выпрямился, в голове пронесся шипучий вихрь, в мозгах полыхали молнии и шумела весенняя гроза, я сделал шаг в бок и налетел на стул крестьянина в костюме, от него пахло хлевом и зерном, это мой дядя, я уверен, что видел его раньше и этот сельский дух мне совершенно не противен, наоборот, он связан с детством, не моим, но чьим-то, а я в довершение к тому, что напился, еще и забыл два листка с речью в кармане пиджака, а он висел вместе со всеми пиджаками в прихожей. В квартире была страшная жара, и все поснимали пиджаки, но пробираться в прихожую, чтобы взять речь, – об этом нечего было и думать. Слишком тесно. И слишком унизительно. Тогда пришлось бы всех поднимать, чтобы пройти, а я уже постучал ножом по бокалу.
Я собирался говорить о Рио-Гранде, это я помнил, но вот что я собирался сказать, чем эта река важна, этого я вспомнить не мог, поэтому тему реки решил оставить в покое. Обычные согласные теснились во рту как-то боком, я чувствовал, что извлекать их целыми и невредимыми окажется нелегко. Мама смотрела на меня спокойно, почти мечтательно, лицо немного расплывалось, она ждала, а отец отвернулся к стене, и не он один.
Я незаметно держался за стул соседа. Я чувствовал себя прескверно. Еще ничего не сказал, а уже мечтал сделать перерыв. Я поискал на столе свой стакан, чтобы сделать глоток, но не нашел, да в нем и не было ничего. Мой крестьянин-дядя увидел, что я шарю рукой по столу, взял бутылку, налил в стакан воды и сунул его мне в руку. Я взглянул на помощника сверху вниз, он кивнул и слабо улыбнулся мне, а я кивнул в ответ, он был хорошим дядей, без сомнения, лучшим из имевшихся у меня. Я сделал большой глоток и поставил стакан обратно на стол. Открыл рот, постоял так и снова его закрыл. В комнате ни звука, ни одного ножа, или вилки, или бокала в движении. Я тужился собраться с мыслями, то, что я пьян, было заметно всем. Я опустил глаза в тарелку и тер глаз тыльной стороны руки, как ребенок, день подошел к концу, спокойной ночи, малыши.
– Арвид, ты хотел что-то сказать, да? – спросила мама мягко. В голосе сквозило удивление, я не глядя знал, какое у нее сейчас выражение лица.
– Мне кажется, нет, – ответил я. – Я ничего о тебе не помню, ни-че-го.
– Может, это и неплохо, – вдруг ответила она.
Я поднял голову и увидел старшего брата на дальнем конце стола. Он смотрел на меня в упор, он был в ярости. Видимо, пора было уходить со сцены, но я не знал, могу ли я идти. Я сделал еще глоток. Привалился к своему соседу и сел, я протянул ему руку, он стиснул ее крепко, по-крестьянски.
– Простите, – сказал я, – не вышло.
– Не вышло, – сказал он. – В другой раз выйдет лучше.
Я развернулся и посмотрел на него. У меня вдруг начисто выветрилось из памяти, когда я видел его в последний раз и видел ли вообще.
– Вы мой дядя, верно?
– Нет, – сказал он, – но это не важно.
Я не ушел сразу же, но что было дальше, не запомнил, разговаривал ли я с кем-то, обращался ли кто-то ко мне, что не так вероятно, принимая во внимание обстоятельства. Когда я наконец собрался идти, часы на кухне показывали одиннадцать с большим хвостом. Вот это я запомнил.
В прихожей я отыскал свой твидовый пиджак со сложенными листками с речью в кармане, открыл дверь и вышел наружу. Я спускался по песчаной тропинке, дул холодный ветер, и там и тогда я принял решение идти пешком до площади Карла Бернера.