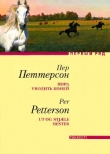Текст книги "Я проклинаю реку времени"
Автор книги: Пер Петтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Пер Петтерсон
Я проклинаю реку времени
Стину
I
1
Это было теперь уже много лет назад. Мама долго чувствовала себя плохо. Все вокруг нее, особенно мои братья, и отец тоже, так докучали ей из-за этого своей тревогой, что в конце концов она пошла к врачу, который всегда ее лечил, который пользовал всю нашу семью от сотворения мира и был, я думаю, уже древним стариком, потому что я не помню времени, когда бы мы не ходили к нему, но не помню и чтобы он когда-нибудь был молод. Я и сам продолжал лечиться у него, хотя давно жил довольно далеко.
Бегло осмотрев маму, старый семейный врач тут же отправил ее на обследование в Акер, в городскую больницу. После нескольких, полагаю, болезненных, процедур в комнатах с белыми стенами – или светло-зелеными, или цвета зеленого яблока – в недрах огромного больничного корпуса, стоявшего почти у кольцевой развязки на Синсен, на той стороне реки, о которой мне всегда нравилось думать как о нашей, восточной, стороне Осло, маме велели ехать домой и две недели ждать ответа. Когда результаты наконец пришли, оказалось, что у нее рак желудка. Ее первая мысль была такая: «Какого черта! Я годами, пока дети не выросли, лежала ночами без сна, боялась, что умру от рака легких, а он завелся в желудке. Сколько времени даром убила!»
Вот такая она была. И она курила, как и я смолю всю свою взрослую жизнь. Я отлично знаю это ночное ощущение, когда лежишь, сжавшись под одеялом, глаза пересохли и зудят, ты пялишься в темноту, и этот противный пепел во рту и есть вкус жизни, правда, меня больше волновала моя судьба, а не что дети потеряют отца.
Потом она просто сидела, с конвертом в руке, за кухонным столом и смотрела в окно на этот газон, и этот крашеный белый штакетник, эти веревки для сушки белья, эти одинаковые серые щитовые домики, на которые смотрела все эти годы, и думала, как она думала почти все эти годы, что все ей здесь поперек души на самом-то деле. Ей не нравится повсеместный в этой стране серый камень, не нравятся ельники и высокогорные равнины, не нравятся горы. Сейчас их не было видно, но она знала, что горы везде и каждый день накладывают отпечаток на людей, которые здесь, в Норвегии, живут.
Она встала, пошла в коридор, коротко поговорила по телефону, вернулась и снова села за стол ждать моего отца. Отец уже не первый год был на пенсии, а она, на четырнадцать лет его младше, работала, но сегодня у нее был выходной. Или она взяла отгул.
Отец вечно куда-то уходил по своим делам, о которых мама редко имела представление и плодов которых никогда не видела, но если раньше они с отцом, бывало, ссорились, то к тому времени давно перестали – воцарилось перемирие. Пока он не пытался командовать ее жизнью, ему было дозволено спокойно распоряжаться своей. Она стала даже защищать и выгораживать его. Если я позволял себе поддакнуть ей и отпустить в его сторону критическое замечание (в ложной попытке выразить солидарность и поддержать женское равноправие), то получал совет заниматься своими делами. Тебе легко критиковать, тебе все разжевали и в рот положили. Шкет.
Тоже мне, баловень судьбы. Меня стремительно затягивал развод. Первый, поэтому мне казалось, что жизнь кончается. Бывали дни, когда я не мог добраться от кухни до ванной, чтобы хоть раз не опуститься на колени и постоять так, прежде чем находил в себе силы идти дальше.
Когда отец вернулся домой, покончив с неотложным, в его представлении, делом где-то в Волеренга, откуда он родом, и где я появился на свет на восьмой год после войны (туда он частенько ездил, чтобы пообщаться с «ребятами», мужиками того же возраста и положения, «старперами», как они себя называли), мама по-прежнему сидела в кухне за столом. Курила сигарету, думаю, «Салем» или «Кули», – тем, кто боится рака легких, достается сплошь ментол.
Отец стоял в дверях со старым портфелем в руке, с таким же точно я ходил в школу в шестом-седьмом классе, тогда все с такими ходили, я так понимаю, это мой портфель и был. То есть ему было уже лет двадцать пять.
– Я сегодня уезжаю, – сказала мама.
– Куда? – спросил отец.
– Домой.
– Домой? Сегодня? – спросил он. – Нам стоит, наверно, сперва это обсудить? Мне надо подумать.
– Обсуждать ничего не надо, – сказала мама. – Я уже заказала билет. Я только что полу-чипа письмо из больницы в Акере. У меня рак.
– У тебя – рак?
– Да. Рак желудка. И мне надо съездить домой.
Мама называла «домом» Данию, то местечко на севере этой небольшой страны, где она выросла, хотя она прожила в Норвегии, в Осло, ровно сорок лет.
– Так ты хочешь поехать одна? – спросил он.
– Да, – сказала мама, – хочу одна. – Хотя она знала, что теперь отец почувствует себя обиженным и виноватым, в чем ей не было никакой радости, наоборот, она считала, что он заслуживает лучшего, после стольких-то лет, но чувствовала, что у нее нет выбора. Она должна ехать одна. – Я ненадолго, – сказала она. – На несколько дней. И вернусь. Мне надо будет ложиться в больницу. На операцию. По крайней мере, я на это надеюсь. Я еду вечерним паромом. – Она взглянула на часы на руке. – Он отходит через три часа. Пойду-ка соберусь.
Они жили в щитовом малосемейном домике, на первом этаже кухня и гостиная, на втором – три небольшие спальни и крохотная ванная. Я в этой квартире вырос. Знал в ней каждую трещину на обоях, каждую щель в полу, все до одного страшные закутки в подвале. Это было жилье из категории доступного. Если хорошенько долбануть по стене ногой, она высунется у соседей.
Мама затушила сигарету в пепельнице и встала. Отец по-прежнему стоял в дверях с портфелем в руке. Вторую он нерешительно и неловко протянул к маме. Отец всегда смущался прикосновений, разве что в боксе, и мама в этом отношении была такой же, но сейчас она бережно, почти нежно подвинула мужа в сторону, чтобы пройти. Он посторонился, но так неохотно, так вяло, словно через силу, что она поняла – он хотел посочувствовать ей, не выражая этого словами. Но теперь уже поздно, сказала она про себя, слишком поздно, сказала она, однако он ее не слышал. Она же милостиво позволила отцу задержать ее подольше, чтобы он понял: после сорока лет совместной жизни и четырех сыновей, один из которых уже умер, их по-прежнему столь многое связывает, что они могут жить в одном доме, в одной квартире и сидеть и ждать друг друга, а не нестись прочь сломя голову, когда случается что-то важное.
Судно, на котором ей предстояло плыть, то самое судно, на котором плавали мы все, если наш путь лежал в этот край земной тверди, называлось «Датчанин Хольгер». Под конец своих дней, вскоре после маминой поездки, оно превратилось в общагу для передержки иммигрантов сперва в Стокгольме, позже, как я выяснил, в Мальмё, а теперь уже много лет лежит грудой металлолома в какой-то азиатской стране, в Индии или Бангладеш, на пляже. Но в те дни «Датчанин Хольгер» еще курсировал между Осло и городом на севере Ютландии, малой родиной моей мамы. Она любила этот корабль и считала незаслуженной его дурную репутацию – его звали то «Дотянем-Хольгер», то «Датчанин-с-моргом», хотя он был куда безопаснее ходящих сегодня по тому же маршруту плавучих казино, где безумно велик риск упиться до безумия, а что «Датчанина Хольгера» болтало в непогоду с борта на борт, из-за чего пассажирам иной раз приходилось поблевать, так это еще не значит, будто он норовил пойти ко дну. Я сам блевал на «Датчанине Хольгере», но не сдрейфил.
Маме нравилась команда корабля. В ненавязчивой манере она постепенно перезнакомилась почти со всем экипажем, благо размеры корабля это позволяли, и они тоже запомнили, кто она, узнавали, когда мама поднималась по трапу, и здоровались с ней как со своей.
Быть может, в той поездке они обратили внимание, что она необычно серьезна, приметили это в ее манере держаться, смотреть по сторонам; она часто улыбалась, хотя на самом деле это была не улыбка как таковая (окружающие видели, что улыбаться нечему), а привычка укрываться за ее подобием, когда что-то маму сильно увлекало и она уносилась мыслями далеко от стоящих рядом. Мне кажется, именно тогда она была еще и особенно красива. Маленьким мальчиком я часто подолгу во все глаза рассматривал ее, когда она не знала, что я в комнате, или – это случалось чаще – успевала об этом забыть, и я чувствовал себя одиноким и брошенным. Хотя и своя радость в этом тоже была, потому что мама выглядела точно как в фильме, шедшем по телевизору, – как Грета Гарбо в «Королеве Кристине», когда она в конце картины стоит на корабле, изогнув стан, вся в мечтах, уплывая к другим, более духовным берегам, – и в это же время каким-то чудом оказалась у нас на кухне, присела на минутку на один из стульев из нержавейки с красным сиденьем, в руках подрагивает сигарета, а перед ней на столе – открытый, но не тронутый еще кроссворд. Или как Ингрид Бергман в «Касабланке», потому что у моей мамы была такая же прическа и так же выступали скулы, но она никогда бы не сказала «думай ты за нас обоих» ни Хамфри Богарту, ни кому-нибудь другому.
Если команда «Датчанина Хольгера» и заприметила это или подумала, что мама как-то иначе поприветствовала их, поднявшись по трапу с маленьким коричневым чемоданчиком из кожзаменителя, который я унаследовал и неизменно беру с собой, куда бы ни ехал, то вслух никто из них ничего не сказал, чему она была рада, я думаю.
Спустившись в каюту, она положила чемодан на столик, взяла стаканчик с полки для зубных щеток и хорошенько его ополоснула, а потом открыла чемодан и вытащила засунутую среди одежды небольшую бутылку. Пол-литра «Аппертен», виски, который она предпочитала всему крепкому алкоголю и пила, я думаю, гораздо чаще, чем мы привыкли считать. Хотя это не нашего ума дело, но братья мои полагали этот сорт дешевым пойлом, во всяком случае в поездке, когда можно выгодно отовариться беспошлинными напитками. Они ценили солодовый виски, «Гленфиддич» или «Чивас Ригал» – применительно к ассортименту беспошлинной торговли на датских судах, и произносили целые речи о том, с какой неподражаемой мягкостью касается гортани односолодовый виски, и прочую чушь в том же роде, и мы слегка подгнабливали маму за ее плебейский вкус. Тогда она окидывала нас ледяным взглядом и говорила только: «И это мои сыновья? Эти снобы?» И добавляла, что если грешишь, то никакой тебе мягкости, должно обжигать. По правде, я был с ней согласен и, чтобы оставаться честным с собой, тоже покупал норвежский «Аппертен», когда отваживался зайти в монопольку [1]1
В Норвегии алкоголь официально продается только в государственных винных монополиях.
[Закрыть]. Этот виски не был односолодовым и не касался гортани с нежностью, но ошпаривал горло и вызывал слезы на глазах, если ты не успевал мысленно настроиться на первый глоток. Это вовсе не значит, что виски был плохой, – но он был дешевый.
Мама резким движением откупорила бутылку, налила примерно четверть стакана и выпила в два глотка – рот и глотку так опалило, что мама долго кашляла и заодно всплакнула, раз все равно больно. Потом она быстро сунула бутылку снова в чемодан, поглубже, словно это контрабандный товар, а под дверью с кандалами и наручниками стоят таможенники, смыла слезы над раковиной перед зеркалом, тщательно вытерла лицо, походя одернула платье, как часто делают слегка полноватые женщины, и отправилась в судовой кафетерий, непритязательное во всех отношениях заведение с таким же непритязательным меню из нескольких блюд, как она и хотела, потому что «Датчанин Хольгер» был правильным кораблем.
С собой она взяла книгу, которую в тот момент читала, – мама никогда не забывала сунуть ее в сумку; она читала непрерывно, и если Гюнтер Грасс в это время выпустил новую книгу, то, без сомнения, именно эта книга – на немецком – и была у мамы. Когда я почти сразу после гимназии перестал читать все, написанное по-немецки, по той простой причине, что теперь этого не требовалось по программе, мама задала мне перцу и окрестила интеллектуальным лодырем, а я полез было защищаться и сказал, что дело не в лени, а в моих принципах, ибо я – антифашист. Она рассвирепела. Тыча мне в нос дрожащий указательный палец, она сказала: да что ты знаешь о Германии, о ее истории, о том, что там на самом деле происходило? Тоже мне, шкет. Она часто говорила так: шкет, говорила она. Роста я действительно был небольшого, в нее пошел, зато я был шустрый, сызмальства этим отличался, а в прозвище «шкет» заложены оба этих смысла, и что я не очень высокий, в нее, и что я шустрый, в отца, и что она, возможно, любит меня таким. По крайней мере, я на это надеялся. Поэтому, когда они меня ругала и одновременно обзывала «шкетом», я всерьез не беспокоился. И о Германии я в момент той беседы знал не так чтобы очень много. В этом она была права.
Я не могу себе представить, чтобы ее тянуло на общение тогда в кафетерии на «Датчанине Хольгере», что она подсела за столик к кому-то и завела беседу с попутчиками, то ли ее же круга, то ли, наоборот, с людьми из совсем другого теста, чтобы послушать, что они думают о жизни, о чем мечтают, потому что различия как раз всегда и интересны, это источник новых возможностей, она всегда ими интересовалась, да еще с большим прибытком для себя. Но на этот раз она села одна за столик на двоих, молча поела, за кофе вдумчиво читала, а когда чашка опустела, сунула книгу под мышку и встала. Но, уже оторвав себя от стула, она внезапно почувствовала сильную слабость и решила, что сейчас грохнется и больше уже не встанет. Она вцепилась в край стола, мир качался как корабль, она не понимала, как ей пересечь все помещение, пройти мимо стойки стюарда и спуститься вниз. Но все-таки в тот раз она справилась с этим. Сделала глубокий вдох и с тихой решимостью прошла между столов, вниз по лестнице и к каюте, выражение ее лица я уже описывал, и она лишь пару раз подержалась за стену, пока высматривала на дверях вдоль длинного коридора нужные цифры, а там вытащила ключи из кармана, переступила порог и заперла за собой дверь. Сев наконец на кровать, она налила приличную порцию «Аппертена» в стаканчик для полоскания рта и со слезами на глазах опорожнила его в три поспешных глотка.
2
Сойдя по трапу с «Датчанина Хольгера» на пристань северо-ютландского городка, где она родилась и выросла и который продолжала называть «домом», уже сорок лет имея постоянной почтовый адрес в Осло, мама прошла вдоль причалов и верфи, которая умудрилась уцелеть в восьмидесятые годы, когда практически все верфи в Дании развалились, словно карточные домики. Затем она миновала белую оштукатуренную пороховую башню Торденшёльда, которую муниципалитет перевез на то место, где она стоит теперь, то есть на сто пятьдесят метров ближе к краю пристани. Они подвели под башню старые железнодорожные шпалы, придумали и построили какие-то гигантские тягловые механизмы и разлили больше тонны жидкого мыла, чтобы улучшить скольжение. Как ни странно, план сработал. Сантиметр за сантиметром они передвинули круглую, весом в незнамо сколько тонн, каменную башню на новое место, тщательно подготовленное заранее, выгадав таким образом возможность пристроить к верфи сухой док, не уничтожая одну из считанных достопримечательностей города. Но со времени этой подвижнической операции прошло много лет, и мама не была полностью уверена, что версия с жидким мылом и шпалами правдива до последней подробности – звучит она как-то странно, а мамы в тот момент в городе не было. Судьба как раз тогда выслала ее в Норвегию, против желания, почти заложником. Как бы то ни было, власти своего добились – башня определенно переехала на другое место.
Тремя годами раньше ее отца (неизменно раздраженного и суетливого) похоронили на погосте фландстрандской церкви, примыкающем к красивому парку «Платан», с которым кладбище делит свои кущи, буки, ясени и клены, похоронили в той же могиле, куда ее растерянная голубоглазая мать чуть не по собственной воле легла за два года до него и куда еще двадцать пять лет назад лег ее брат, потрясенный вопиющей краткостью своей жизни.
На общем могильном камне сидит голубка и смотрит вниз. Она металлическая и улететь никуда не может, но время от времени пропадает, и тогда из камня торчит голый штырь. Кто-то таскает голубя, возможно, у него дома в шкафу стоит целое собрание голубок, ангелочков и другой милой христианской бронзовой скульптуры малых форм, и поздними вечерами, задернув шторы на окнах, он достает их из шкафа и бережно проводит пальцем по гладким изгибам холодных тел. Так или иначе, но, когда голубка пропадает, маме приходится заказывать новую в похоронном бюро, расположенном на той же улице. Возможно, они химичат, потому что за три года голубка пропадала трижды.
Теперь, приходя на кладбище, она не может оттуда пройти или проехать на велосипеде мимо инвалидного приюта к доходному дому с туалетом на улице, дому в самом центре города, на улице Лодсгаде, спускающейся от главного прешпекта в порт, и сперва показать на цветочные горшки в окнах второго этажа и сказать, что там была ее комната, что это там она стала тем, кем стала, а потом указать на окошко каморки на первом этаже, рядом с молочной лавкой, которую держала ее мать, и попробовать передать словами, каким был ее брат, и сбиться и бросить попытку. И войти ранним утром в кованые ворота, и постучаться в дверь за ними, только-только сойдя с корабля из Осло и держа в руках кулек из папиросной бумаги со свежими булочками, – она теперь тоже не может. Дверь ей не откроют. Это больше не ее улица, поэтому она не стала подниматься вверх по Лодсгаде в сторону центра, а, наоборот, с каким-то странным стеснением в груди, все еще не свыкшись с таким порядком за три прошедших года, прошла вдоль всего порта, дошла до нового вокзала и там села в такси. Оно, мигая, отъехало от тротуара, развернулось и покатило в сторону Страндвей, миновало мореходное училище и Бастион Торденшёльда, притаившийся со своими аккуратными валами и пушками за высокими придорожными тополями, затем Гребной клуб и выехало из города. В клубе был кафетерий, и она часто приезжала сюда на велосипеде, садилась с кружкой пива за столик у панорамного окна с видом на маленькую гавань и море и смотрела, как красные и синие суденышки пыхтя пробираются через узкий разрыв в моле, заходя на постой или уходя в плавание с рыбацким снаряжением на борту, уже для развлечения, потому что весь серьезный промысел прекратился на всем побережье еще за несколько лет до того.
Такси ехало дальше по открытому, продуваемому ветром взморью с водорослями, песком и кустами, которым шквальный ветер день за днем не давал подняться с колен, море в этот ранний час лежало без единой морщинки, как серо-голубая пористая кожа, а воздух над морем был молочно-белый.
Там, где кончился асфальт и началась проселочная дорога, такси свернуло на аллейку между вековыми кустами шиповника и корявыми соснами. Дорога заняла всего-то четверть часа. Как странно, подумала она, я словно еду в замедленном кино; легкая роса на стеклах машины, серый свет над водой, остров вдали, и на нем мигает бледными, дрожащими всполохами маяк, на кустах висят последние ягоды шиповника – ярко-ярко-красные, чуть не до синевы, они похожи на маленькие китайские фонарики. Когда она обернулась посмотреть в другое окно, ее голова плавно перелегла с боку на бок. Мама облизала сухие губы, взглянула вниз на руки и медленно пошевелила пальцами – кожа была неэластичная, натянутая, и мама улыбнулась без причины.
Прежде чем отпустить таксиста, мама договорилась, что он заберет ее здесь же на рассвете через четыре дня. Шофер сказал, что на рассвете – это кстати, заодно он проснется пораньше, с этим у него проблемы, признался он, люблю вечером пропустить кружечку или пять кружечек пива.
– Обещаю такие чаевые, что хватит на десять кружечек, – сказала мама. – Только не забудь заехать за мной утром. Это важно. У меня есть план. – И она почти с угрозой уставила в таксиста палец, но молодой человек только фыркнул в ответ, и тогда она тоже улыбнулась.
– Заеду, – сказал он. Проводив ее мимо кривой сосны до террасы и поставив там чемодан, таксист вернулся в машину, сказал «До скорого!», сдал задом, развернулся, выехал с поросшего травой пустыря перед летним домиком, где ему досталась приличная плата и щедрые чаевые, на прощанье махнул маме рукой и в ранних рассветных сумерках направился обратно в город, светя табличкой на крыше; был вторник, начало ноября.
II
3
Я был не в курсе, что мама уехала. Слишком много всего происходило в моей собственной жизни. Мы с ней не разговаривали с месяц, если не больше, что было в порядке вещей в то время, в восемьдесят девятом году, но я ощущал это как странность. Странным было еще и то, что я делал это сознательно. Я избегал мамы. Избегал, не желая слышать, что она имеет сказать о моей жизни.
Тем вечером, когда мама с коричневым чемоданом из кожзама в руках в одиночку доехала от станции метро «Вейтвет» до станции «Железнодорожный вокзал» с намерением пересечь сырую площадь между зданием старого Восточного вокзала и морем, подставляя прическу встречному ветру, и попасть в низкий, насквозь продуваемый терминал, принадлежащий компании J. C. Hagen&Co,и дальше на кособокий причал, у которого был пришвартован «Датчанин Хольгер», ходивший, как оказалось, последнюю в своей жизни неделю, я на чужой машине возвращался с неасфальтированных просторов Ниттедала, а сзади сидели мои дочери, одна десяти, другая семи лет. Машина – пятилетний серебристо-серый «фольксваген-пассат» – принадлежала человеку, которого я знал десять лет и который готов был одолжить мне что угодно.
Начинало смеркаться. Темнота упала, как накатывал прилив в Ютланде, когда я был в возрасте моих девочек, – стремительно и неожиданно, и так каждый раз, и сейчас, поди, тоже. Были первые дни ноября, девчонки сзади распевали песню «Битлз» с одной из старых моих пластинок, как сейчас помню, Michelleиз альбома Rubber Soul,не самый главный шедевр, но они любили Пола Маккартни, он писал песни, которые детям легко даются. И песня звучала вполне себе прилично, даже фразы якобы по-французски, так что я отпустил руль на прямом участке между Хеллерюдсшлетта и Шеттеном и от души захлопал. Мне нравилось, что они сидят сзади. Так они могли разговаривать со мной о чем хотят, не глядя мне в глаза, и я тоже мог не смотреть им в глаза, а бывало, что и они друг на друга не смотрели, и тогда мы все трое глядели в свои окна и молчали, а машина накручивала километры, и каждый понимал, что всё не так. Это знали девочки, знал я, а лучше всех знала та, которой с нами в машине не было, – именно по этой причине она не ездила с нами на прогулки.
Так обстояли дела.
– Эй, кто со мной колесить по дорогам? – кричал я, стоя дома в прихожей, и почти всегда обе девчонки кричали:
– Я! – каждая из своей комнатки. – Мы с тобой!
А та, на которой я был женат, говорила:
– Вы езжайте, я дома побуду.
В том и состояла наша затея, что она откажется ехать. Скажи она вдруг «и я с вами», никто не знал бы, что делать: как довести такую поездку до конца, о чем говорить, куда девать глаза. А так мы с девчонками спускались по лестнице в подвал, входили в желтые железные двери, которые тяжело и гулко хлопали у нас за спиной, и ехали прокатиться, чаще всего в Ниттедал, выше к северу, а иногда в Наннестад, если время не поджимало; случалось, мы уезжали даже в Эйдсволл, на реку, и медленно катили по красивому чугунному мосту, глядя вниз на воду, которая плавно текла прямо под нашей машиной, а потом парковались в центре и ели вафли в одном проверенном кафе. Но больше всего мы любили грунтовые проселочные дороги, серые в ухабах дороги через поля и луга, вдоль клетчатых изгородей овечьих пастбищ, вдоль старых оград под током с белыми фарфоровыми шишечками на столбах, вдоль ржавой обвислой колючей проволоки. Вписываться в кривые повороты, кружить по дорогам, распевая песни «Битлз», то взбираться на холм, то спускаться, то справа поля изумрудно-бледные, а слева коричнево-серые, то наоборот, и снова наоборот – вот как все было осенью восемьдесят девятого года и в матовом свете Ниттедала, и в Наннестаде, и высоко в Эйдсволле, деревья вдоль русла ручья стояли голые, на открытых ровных лугах и квадратах полей желтели стога сена, вдруг за каким-то поворотом в глаза бросался нездоровый цвет рыжего пятна только что обработанной «раундапом» стерни, а дальше – там, где поле успели вспахать, – лиловый и сжирающий все черный, пока не обрушилась зима и не извела весь свет, сделав мир бессветным и бесцветным. Мы проезжали такие места побыстрее, мы храбрились, смеялись и кричали испуганно тонюсенькими голосами:
– Осторожно, ради Бога! Сбоку – черная дыра!
Я как раз рассказал им о черных дырах, что они затягивают в себя все подряд, и с концами – в них пропадают жизни, миры, может, и наш мир уже затянут в дыру, и я шарахался на другую сторону дороги, на обочину, девчонки визжали сзади, мы чудом спасались в последнюю секунду. Потом переводили дух и принимались хохотать, никогда еще космическая утроба не угрожала нам так явственно, и мы голосили I should've known betterпо крайней мере на два голоса, а я отбивал такт на руле.
А потом рано темнело, ничего не было видно, в машине темнота окутывала наши плечи и головы. Только волосы девочек вспыхивали рыжим и золотым огнем в сиянии придорожных фонарей, и светились цифры на спидометре, и маленькая синяя лампочка индикатора дальнего света включалась и гасла в такт встречному потоку; мы переставали петь песни, проезжая Шеттен, а на мосту у станции Стрёммен замолкали вовсе.
Бывало, с тех пор, как мы выехали из гаража под нашим блочным домом, проходило полдня, мы были такие голодные, что голова плыла и немела по краям, если можно сказать, что у головы есть края, но никто не хотел разрывать немую темноту в машине, только поворотник мигал зеленым справа на щитке, отмеряя последний отрезок пути, сперва опушкой леса, потом вялой петлей вокруг огромной больницы, перед старой церковью свернуть на пустырь и назад в пригород, где мы жили, долго взбираясь по длинным склонам холмов, и хотел бы я знать, что думали девочки, сидя вот так на заднем сиденье и не разговаривая друг с другом. Но я думал о разводе, который каждый день придвигался все ближе, вдруг тихо оказывался перед глазами, как филин ночью, хотя по-прежнему оставался всего лишь договоренностью – без даты, без времени года – между нами двумя, живущими вместе пятнадцать лет, народившими этих двух девочек, с рыжими и золотыми волосами, а если совсем честно, это она так постановила. Я чувствовал, что у меня стягивает скулы и дерет пересохшее горло. Спроси меня кто-нибудь: «Как ты сейчас?» – я бы ответил: «Болит вот здесь», и ткнул бы в точку вверху груди, вернее, в самом низу горла. На работу я уезжал все раньше и раньше, трясся в автобусе, под веками горячий песок. Я не знал, чего мне ждать. Вдруг потом, когда я останусь один, станет еще хуже? Меня пугало, что может стать хуже. Я боялся за свое тело – что будет с ним? Ноющая боль в груди еще усилится; проглотить кусочек пищи удается лишь через не могу, а станет хуже; странное онемение ног, мысли, скачущие туда-сюда, как радиостанции в неисправном приемнике, кошмары во сне, что я куда-то падаю или проваливаюсь, – все станет хуже; вдобавок меня ужаснуло открытие, что со всем этим я ничего не могу поделать. Ни вывести себя из этого состояния усилием воли, ни перестроить свои мысли на оптимистический лад. Подчас я только и мог, что сидеть на стуле и долго ждать, пока мне станет чуть получше и я сумею совладать с самым насущным делом: отрезать кусок хлеба, дойти до туалета, одолеть изматывающий путь от стула в гостиной через коридор и до кровати в спальне. Бывало, я признавал свое поражение и засыпал на стуле, а просыпался рывком со сверлящим голубым светом в голове от звука ее ключа в замке.
Справлялся я только с поездками на природу, в Ниттедал, Наннестад, Эйдсволл. Мне помогали эти краски ожидания тихого начала зимы, точнее, отсутствие красок, эти обрисованные края леса и эти изгибы дороги – я буду помнить их и потом, когда все переменится, думал я. И само движение: что я не стоял на месте, а неторопливо катил на собственной «мазде» цвета шампанского или, как в этот раз в начале ноября восемьдесят девятого года, на серебристо-сером чужом «фольксвагене-пассате». Да и девчонки тоже, как они сидели на заднем сиденье и распевали Eleanor Rigbyи When I'm sixty-fourтого же Маккартни. Я никогда прежде не слышал этих песен в таком исполнении и думал, что и их надо бы сохранить в памяти.
Мы спустились на третьей передаче с последней горки, длинной, крутой и неприятной в зимнее время, когда поворот блестит льдом, проехали по верхней круговой дороге мимо низких корпусов, стоящих вдоль леса, свернули, наконец, к одному из них и вкатились в подземный гараж – автоматические ворота были подняты, они сломались и уже несколько недель не работали. В дальнем углу гаража я остановился и тихонько стал сдавать задом на место, где номер моей квартиры был написан крупными цифрами на стене, до самого низа покрытой четкими, вплоть до годовых колец, отпечатками опалубочных досок; девчонки закрыли глаза ладошками, со свистом втянули в себя воздух и перестали дышать, потому что в гараже тесно и трудно маневрировать, и однажды случилась очень неприятная история и мы долго разбирались с соседом, который теперь, слава Богу, переехал. Он жил над нами, иногда по вечерам я слышал, как гремит у него музыка и жена кричит ему, чтобы он сделал потише.
Но в этот раз все обошлось. Я хорошо встал, не прижавшись ни влево, ни вправо; учитывая, что машина чужая, это особенно приятно. Мы вылезли наружу, мы шваркнули со всей силы дверями, мы любили так похулиганить, чтобы эхо раскатилось по всему огромному гаражу. Потом я придирчиво проверил, все ли в порядке в смысле требований страховки, – что все захлопнуто, закрыто, выключено, что ключ не забыт в машине, – и мы пошли вверх по лестнице, причем я тащился последним, я не хотел туда идти.
И вот я вхожу в дверь, в прихожую, и дальше, в кухню и гостиную, и все точно как всегда последние десять уже почти лет: плакаты на стенах, коврики на полу, дурацкие красные кресла, но в то же время все совсем не так, совсем не так, как в начале, когда были только мы двое против всех, всего мира, рука в руке, плечо к плечу, есть только ты ия, говорили мы друг другу, только ты и я,говорили мы. Но что-то случилось. Все разваливалось. Во всем появились зазоры, расстояния, точно между спутниками с их одновременным притяжением и отталкиванием; на преодоление этих зазоров, расстояний, отдалений требовались огромные сила и воля, у меня столько не было, но я и не решился бы столько потратить. И все было не так, как в машине, пока мы объезжали три, а то и четыре района области Румерике в Восточной Норвегии, восточнее Осло. Там тело машины плотно облегало меня на всех путях, куда бы мы ни поехали, но здесь, наверху в квартире, вещи выпадали из фокуса и разлетались в стороны. Похоже на воспаление блуждающего нерва. Я закрыл глаза, чтобы мир встал прямо, и тут услышал, как открылась дверь ванной, и ее шаги в коридоре. Я узнал бы их всегда, везде, на дороге и камнях, полу и паркете, коврах и половичках. Она остановилась передо мной. Я слышал, как она дышит, но не настолько близко, чтобы чувствовать ее дыхание на своем лице. Она ждала. Ждал и я. В дальней комнате хохотали девчонки. Что-то случилось с ее дыханием. Она теперь никогда не дышала как прежде. Я не открывал глаз, я стоял, зажмурившись. И услышал ее вздох.