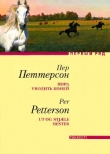Текст книги "Я проклинаю реку времени"
Автор книги: Пер Петтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
9
Я встал со старого дивана и подошел к окну. От нашего дома к дому Хансена, рассекая ограду из стоящих стеной ив, вела хорошо утоптанная дорожка, спины мамы и Хансена сперва виднелись на ней, а потом исчезли из вида, как двадцать лет назад исчезали из вида я и та, которую звали Ингер, когда мы шли к ней на ту сторону заняться любовью, если она была дома одна. Помню, я думал, что так всегда и будет продолжаться, пока однажды летом не приехал сюда и не выяснил, что они продали дом и она исчезла навеки. Я и правда никогда не чувствую грядущих больших изменений вплоть до их наступления, не вижу, как одна тенденция одолевает другую (так любил говорить Мао), как подводное течение у самой поверхности вдруг устремляется не в ту сторону, о которой все, казалось, договорились, а если ты пропустил момент, когда все повернули, то остаешься стоять один.
Я подошел к двери, где оставил сапоги, натянул их, потом надел бушлат, вышел наружу и свернул за дом к горной сосне. Еще десять лет назад сосен было три, но две повалили зимние штормы, и отец все лето пилил их на чурки подходящей длины, потом порубил чурки топором и сложил поленницу у сарая, загородив от ветра листами гофрированной жести, которые примотал веревкой. Но третья сосна осталась и не позволила ветру ни повалить себя, ни выкорчевать, а вытянулась ввысь и стала для горной сосны высоченной, густой и широкой, она раскинулась над частью обращенного к Хансену участка и по вечерам закрывала солнце, а ее нижние ветви лежали на крыше и терлись о нее, стучали по ней, когда ветер дул с моря. Мама хотела с сосной разделаться. Несколько лет она твердила, чтобы сосну немедленно убрали, чтоб не осталось ни пенька, ни щепок, но время шло, отец мялся и увиливал, он был уже не молод, я отлично его понимал.
Я спустился вдоль ограды, миновал разрыв в ней, через который шла тропинка к Хансену, вышел на грунтовую дорогу и пошел тем же маршрутом, каким шел всего пару часов назад. Это становилось смешно: я что-то не мог двигаться вперед, а только топтался на месте и ходил уже исхоженными дорожками.
Мимо меня на велосипеде в сторону города проехала пожилая женщина. На руле болталась коричневая сумка. Женщину я вспомнил сразу. Это была мама Бенте, девушки, с которой крутил мой брат – не старший и не самый маленький, а тот, что шел следом за мной и уже давно умер. Это случилось шесть лет назад. Его смерть. Я поздоровался, но она меня не узнала или не захотела узнать и проехала мимо на своем черном датском велосипеде, показав мне спину. У их семьи здесь тоже летний дом. Они живут в городе на южной стороне, это час отсюда на велосипеде.
Проехав метров пятнадцать – двадцать, она неуклюже опустила ногу на землю и стала таким образом тормозить. Каким-то чудом она удержалась и не грохнулась на землю вместе с великом, сумкой и всем хозяйством. Потом она уперлась одной рукой в седло и обернулась.
– Это ты, Арвид, – сказала она слишком громко. Звали ее фру Касперсен. Если правильно, то Эльза Мария Касперсен, но так мы никогда не говорили.
Я подошел, встал у руля и сказал:
– Да. Это я.
– Ты здесь? А мама тоже приехала?
– Да, она здесь.
– Я много думала о ней. Как она поживает? – спросила фру Касперсен.
– Хорошо, – сказал я. – Все у нее хорошо.
– Приятно слышать, – сказала она и опустила глаза. – Это было так печально, когда все это случилось с твоим братом. Славный был парень.
Мой брат, подумал я, что за брат, я забыл брата своего, подумал я, но нет, конечно. Я не забыл своего брата.
– Ты ведь знаешь, я долго думала, что он станет моим зятем.
– Да, но Бенте не захотела.
– Разве? По-моему, это он порвал отношения.
– Нет, насколько я помню.
– Ну, может, ты и прав. Не знаю. Но я была бы не против такого зятя, – сказала она.
– Это я понимаю, – сказал я.
– Грустно, что все так вышло.
– Да, грустно, – сказал я, но подумал совсем другое. Баба чертова, подумал я, да что ты об этом знаешь? Грустно, видите ли. Что ты в этом понимаешь?! Ни черта, подумал я, не понимает. Ничегошеньки.
– Кажется, будто это было вчера, – сказала она.
– Нет, шесть лет назад.
– Неужели так давно?
– Да, – сказал я.
Она покачала головой и прикусила губу, наверно, подумала о дочери. Возможно, дела у Бенте не блеск, возможно, она вышла за идиота. Может, лучше бы она выбрала моего брата, и он был бы жив, подумал я.
– Да уж, – сказала она. – Прошлого не переделать. Но передай маме поклон. Скажи, что я загляну к ней, если она задержится здесь.
Ноги твоей у нас не будет, подумал я. Только сунься.
– Обязательно, – сказал я. – Обещаю.
Фру Касперсен была рада услышать мое обещание. Потом она опустила на лицо, как опускают жалюзи, встревоженную мину.
– Но теперь мне пора. Что-то холодно. Ноябрь.
– Да, ноябрь, – ответил я.
А она сказала:
– Пока, Арвид.
И я сказал:
– Всего доброго, фру Касперсен.
И она покатила на своем черном мастодонте. Я постоял, пока она не свернула перед разросшимся шиповником и не пропала из виду, а тогда пошел дальше к пляжу.
Там я сел точно на то же место, что и утром, где сидела мама. Я посмотрел по сторонам и поразился, как разросся в последние годы камыш вдоль берега, купаться здесь стало невозможно, если только ты не готов прорубать путь к воде мачете, и все потому, что как раз здесь, чуть севернее, в море впадает речка и некоторое время течет вдоль берега, прежде чем раствориться в море, из-за чего здесь смешивается морская и пресная вода. Поэтому здесь – лиман и растительность иная, чем на остальном побережье. Когда я был мальчишкой, над речкой и камышом нависал мостик, и мы могли посуху дойти до мест хорошего купания, но теперь от него даже воспоминаний не осталось, и желающие купаться должны ехать к городу, на тамошние пляжи.
Я закрыл глаза и зарыл ладони в песок; так бы и сидел здесь, подумал я, и тут снова различил этот запах, кожей впитал его, запах, который чувствовал на этом самом месте каждый год, хотя уже не так остро, как в свои семь лет, – правда, тогда вообще все было иначе, и пляж выглядел по-другому, не было ни камыша, ни кустов, все казалось горизонтальным, линия за линией, до самой последней, из-за которой словно дым поднимались в небо облака. Мы сидели в низких дюнах, шестидесятые еще не начались, в море строго к востоку на острове торчал маяк. В воздухе висела дымка, а огни маяка не горели, но я в любую секунду знал, где он находится. Он был у меня в уголке глаза. В тот день стояла жара, резко пахло вялящимися на солнце водорослями, полудохлыми медузами, жгучими и стеклянными, которые сохли на ярком свете, это был запах моря, и колючий запах морского хлама, и запах только что открытого апельсинового сока из бутылки. Я сидел, чернявый сморчок, с лопаткой и совком в руках, строил что-то из влажного темного песка, и меня со всех сторон окружали мои светловолосые, высокие, грубо вытесанные богатыри-братья. В тот момент их было только двое, и они были милые, но занимали невероятно много места. Куда бы я ни повернулся, один из них там уже сидел.
По тропинке с севера босиком шел мужчина. Он закатал брюки, голени сверкали белизной. Проходя, он пристально посмотрел на нас, а немного дальше остановился и уставился на маму. Она читала, лежа на боку на клетчатом пледе с зажженной сигаретой в руке, это было до того, как она стала бояться рака легких, значит, сигарета была «Карлтон», а читала она роман Гюнтера Грасса, как помню, толстый, кто-то прислал ей из Германии, наверняка «Жестяной барабан», он как раз в том году вышел и произвел фурор. Мама была загорелая и в купальнике, красном с голубой опушкой, я отлично его помню, опушка придавала ему вид изысканной пожеванности, он много раз снился мне.
– Мадам, я хотел только сказать, – громко заговорил мужчина, – что с вашей стороны очень благородно взять на отдых в свою семью ребенка-беженца.
Так он выразился, он говорил по-датски, но для нас это не составляло проблемы и не было сомнений, какого ребенка он имеет в виду, хотя как раз в тот год я не казался уж таким заморышем, и они все разом обернулись и посмотрели на меня; братья мои вдруг ужасно смутились, не знаю почему, во всяком случае, они стали пунцового цвета. Мама улыбнулась, тоже конфузливо, как казалось, но ничего не ответила, мужчина приподнял шляпу, соломенную шляпу колонизатора, с черной лентой, и понес себя дальше, заложив руки за спину, босиком, довольный собой, довольный дамой на пледе и своей доброжелательной репликой, в правильности которой не сомневался, но откуда я мог быть беженцем? Из Кореи, что ли, или из Тибета? В моей внешности не было ничего азиатского, я не был жертвой войны в Алжире, – да, загорелый, темноволосый, но вовсе не настолько черный, – возможно, Венгрия с ее тогдашним кризисом? Хотя наверняка оставались и другие страны-кандидаты, если он вообще дал себе труд подумать, а не просто заметил, что я выгляжу необычно и что мое отличие от братьев бросается в глаза, а ответ на вопрос, который он себе задал, имел в те годы лишь одно объяснение – что я усыновленный ребенок-беженец; ну и он был еще устроен так – что на уме, то и на языке.
Я бы хотел, чтобы он никогда не говорил тех своих слов, потому что забыть их я уже не смог. Несмотря на то что с годами я стал очень похож на отца и мне все время напоминали, что я был желанным ребенком, единственным из всех нас запланированным, именно это лишний раз подтверждало, что мое место в семье не отличалось ни естественностью, ни простотой, о которых я мечтал.
Мужчина ушел, но игра была испорчена. Однако мы остались на пляже, и мама закурила новую сигарету и вернулась к книге, хотя, сидя на корточках в песке, я видел, что она ни разу не подняла руку перевернуть страницу. Видимо, она снова и снова перечитывала предложение, расстроенная, не в силах собрать мысли, или вовсе не читала, а просто глядела в книгу. От этого мне стало тревожно, все было не так, как надо, но единственное, как я мог этому противостоять, – это делать вид, будто продолжаю игру, которая мне опостылела.
Зато я выяснил тем летом, последним, когда пятидесятые еще не кончились, а шестидесятые не начались, последним перед тем, как Запад и Восток разделила стена, что, если я попаду в ситуацию, когда нет другого выхода, то смогу проглотить обиду и не разбираться с ней, а вести себя как ни в чем не бывало. Я изображал, что продолжаю игру, которая потеряла всякий смысл, я двигался как положено и изображал лицом все приличествующие гримасы, и казалось, что в моей игре есть и цель, и смысл, но их не было.
Тропинка, которая шла с внутренней стороны камыша к тому месту, где раньше был мост, еще не заросла, она кое-где мелькала в зарослях, и я, тридцати семи лет от роду, встал с насиженного места на дюне, отряхнул песок с брюк и пошел по ней, и вдруг перестал видеть и маяк, и море, а видел только толстые шелестящие желтые палки с обеих сторон, как стена из бамбука, подумал я, в Китае на берегу Янцзы. И так я какое-то время шел и был китайцем, ноги гудели, будто бы я – уставший солдат, сражающийся с японскими агрессорами, или поэт Ду Фу в одном из его долгих и полных опасностей странствий много веков назад.
Прямо передо мной на изгибе реки оказалась пристань, к ней были привязаны три лодки, покрашенные каждая в свой цвет, красная, синяя и зеленая. Весла аккуратно лежали на дне. Вокруг не было видно ни души – ни на суше, ни в воде, – лишь тропинка, пристань и травяной газончик перед пристанью; я осторожно залез в лодку, сухую, воды на дне не было, и сел на среднюю скамейку, спиной к пристани и камышу. Я не прикоснулся к веслам, сидел тихо и смотрел на воду. Она была зеленая и гладкая, какой не бывает морская вода, и я подумал, что никогда еще не чувствовал себя настолько угнетенным духом, как сейчас.
Не знаю, сколько я просидел в лодке, но, когда встал, чтобы вернуться на берег, оказалось, что я закоченел и одеревенел. Я широко шагнул, чтобы вернуться на пристань, но дотянулся до нее только мыском и, когда переносил тяжесть на эту ногу, оскользнулся и упал между пристанью и лодкой. Зазор был такой узкий, что, падая, я ударился затылком. Большая тьма внутри моего черепа взорвалась искрами, и я ощутил такую страшную боль, что перепугался и открыл рот позвать на помощь, но только наглотался солоноватой воды, – она пропитала куртку и свитер, они отяжелели и потащил меня вниз, на дно, я кашлял, махал руками, пытаясь плыть, но там не было для этого места. Наконец до меня дошло, где я, что я, скорей всего, могу стоять в этой речке, я встал – вода не доходила и до груди. Но щель была слишком узкая, я не мог шелохнуться, поэтому, поступившись чувством собственного достоинства, набрал побольше воздуха, поднырнул под лодкой, прошкарябав ногами по дну, оказался по другую сторону пристани, постепенно выбрался на нее и рухнул; и лежал так, пока холод не пробрал меня до костей и я не начал клацать зубами. Пришлось встать.
Выбраться из этой переделки можно было двумя путями: или вернуться назад по той же самой тропинке, или пойти вперед, мимо домов хозяев лодок, но мне не хотелось попадаться им на глаза в таком именно виде, поэтому я припустил бегом назад через поросший травой вал и снова на дорожку, стиснутую высоким камышом, но китайцем я сейчас не был, а бежал всю дорогу, пропыхтел, стуча сапогами, вверх мимо сарая, обогнул сосну, она как всегда затеняла солнце, и дальше за угол, где была открыта дверь на террасу, а с нее – дверь в гостиную, посреди которой стояла мама, наклонив голову и сунув руки в волосы. Она выпрямилась, услышав мое приближение, и схватилась за косяк. Судя по взгляду, которым она скользнула по мне, я мог быть хоть инопланетянином, хоть не знаю кем, но вдруг она посмотрела мне прямо в глаза и спросила:
– Арвид, где ты был, в конце концов?
У меня капало и с куртки, и с волос. Я повернулся и махнул рукой в сторону дороги и моря за деревьями.
– Я был там, – ответил я.
– Господи, – сказала мама и покачала головой. – Я же не это имела в виду.
– Вот как, – сказал я, стоя перед ней и глядя на нее. Вид у мамы был больной.
– Что ты там увидел? – спросила она.
– Тебя. Я на тебя смотрю, – ответил я.
– Вот это ни к чему, – ответила она и скрылась в гостиной.
10
Вот о чем фру Эльза Мария Касперсен подумала и почему-то сочла возможным упомянуть вслух.
Старший брат позвонил однажды утром мне на работу и сказал, чтобы я ехал в больницу Уллеволл.
– Не тяни, – сказал он, – езжай прямо сразу.
Речь шла о брате, шедшем следом за мной, которого фру Касперсен рада была бы видеть своим зятем. Стоял восемьдесят третий год. Я работал в книжном магазине в центре Осло, в двух шагах от Национальной галереи. Я работал здесь уже два года. А до того я пять лет простоял на конвейере, на последней операции, мы печатали толстый еженедельник. Думал, это мой долг – работать так. Но я был не прав.
Открывая дверь в магазин, я услышал, что зазвонил телефон. Я включил лампу, перегнулся через прилавок и поднял трубку аппарата, зажатого между двумя стопками каталогов, присланных издательствами Англии и Америки. В такую рань никого, кроме меня, в магазине не было. Каждый день (кроме воскресенья и субботы через одну) я выходил из подъезда, бегом спускался по дорожке между домами, садился в автобус, удовлетворенно прижимался к дребезжащему окну и спал всю дорогу до Осло. Обычно я приходил на работу самым первым и с радостью ездил бы туда и по воскресеньям. Мне нравилось там, мне еще никогда и нигде не было так хорошо. Впервые за свою взрослую жизнь я просыпался утром с мыслью, что скоро на работу, и никакая часть тела не отзывалась неохотой. Эта работа пришлась мне по душе до такой степени, что до меня с большим опозданием дошло: дело не только в самой работе, но и в том, что я каждое утро мог захлопнуть за собой дверь квартиры, выдохнуть и уехать.
Добраться до больницы от улицы, на которой стоял этот книжный магазин, труда не составляло. Добежать до параллельной улицы Пилестредет (всего один квартал на восток), по которой в те годы ходили трамваи, сесть на остановке в один из них и уже через каких-то пятнадцать минут оказаться у больницы.
Стояла ранняя осень, небо – чистое-чистое. Я сидел в трамвае у окна, прильнув к нему лицом, и наблюдал странный свет низкого солнца, он красил проплывавшие мимо дома в неестественно желтый цвет, похожий на подсветку в театре, подумал я, наведенную невидимым мне софитом, и я не мог вспомнить, когда в настоящей жизни хоть раз видел такой желтый цвет, хотя несомненно видел.
Я хорошо знал, что ждет меня в конечном пункте путешествия, но пока не хотел об этом думать. В моем распоряжении была добрая долгая четверть часа, я мог потратить ее на размышления о чем захочу. В эти пятнадцать минут могла бы вместиться целая жизнь, этот отрезок времени вообще не имел конца, но был тянущейся черной дырой, в которой все бесконечно, хотя я отлично знал, что через пятнадцать минут, несколько секунд и некоторое количество трамвайных остановок я прибуду к больнице Уллеволл и мне придется выйти из трамвая, пройти по тротуару сотню метров вниз по Киркевейн, свернуть налево в башню с воротами и направиться к больничному корпусу, где на двенадцатом этаже лежал взаперти мой младший брат, второй с конца.
– Из лифта направо и по коридору, там спросишь у дежурной, главное – громко назови его имя, – наставлял меня по телефону старший брат в командном тоне, который я нечасто от него слышал, и все же я сомневался, что смогу громко назвать имя.
Но все это пусть свершится в свой час, пока я пробовал думать о другом той частью мозга, в которой, как мне казалось, осталось место для этих мыслей о другом. То есть я полагал, что сумею пробежаться по множеству разных тем, если только сконцентрируюсь получше, и первым, что по неведомой причине пришло мне в голову, была сцена из романа Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», в которой автор и его старший и более известный коллега Скотт Фицджеральд идут в туалет кафе на углу улиц Жакоб и де Сен-Пер, чтобы посмотреть, какого размера у Фицджеральда его агрегат. Жена Зельда высказалась о нем пренебрежительно, она сказала, что уровень счастья в отношениях такого рода является производной от размера и что Фицджеральд скроен так, что никогда не сделает женщину счастливой; писатель был раздавлен, но в туалете Хемингуэй уверенно сказал, что все в порядке. Скотт, у тебя там полный порядок, сказал он, просто ты смотришь сверху вниз, и у тебя складывается искаженное представление, а ты повернись боком и посмотри в зеркало, а потом пойди в Лувр, рассмотри статуи там и ты поймешь, что счет в твою пользу. Не видя ничего плохого в самом по себе совете, я, перечитывая этот эпизод уже в возрасте за тридцать, то есть в восемьдесят третьем году, первым делом среагировал на высокомерный тон, которым пропитан весь эпизод. С тех парижских времен прошло тридцать с лишним лет, а у Хемингуэя по-прежнему жива потребность уязвить Фицджеральда, дела которого шли под гору уже в момент, описанный в романе, а закончил он свою жизнь в безвестности и путах алкоголя, в то время как Хемингуэй неуклонно расцветал, чтобы потом долго купаться в славе. Сцена лишний раз демонстрировала мелочность, которая постоянно царапала меня у этого автора, но в сцене в туалете на рю Жакоб больно задевала, как-то очень лично, и я стал размышлять о том, насколько повлиял на творчество Хемингуэя этот факт – что он иногда вел себя, как настоящий сукин сын, и думаю, я далеко зашел бы в своих рассуждениях и припомнил множество примеров, если бы трамвай не завернул и не покатил уже вдоль красных кирпичных зданий, составляющих Ветеринарный институт Осло. Они тянутся по правую руку от трамвайных путей к северной оконечности того района Западного Осло, который называется Адамстюа, – совершенно чужого мне места, спроси меня, где оно, я не скажу ничего толкового даже под угрозой смерти, я никогда там не бывал, если не считать единственного случая год назад, когда я, держа на коленях раскрытую карту, приехал на машине, причем не своей, из нашего пригорода в Осло, в этот самый Ветеринарный институт, чтобы усыпить собаку, тоже не свою. Не понимаю, как я мог согласиться на такую просьбу, но вот согласился. Это была собака, девочка, близких родственников. Они не могли больше ее держать по каким-то своим, не касающимся меня причинам. Собаку я хорошо знал, несколько раз выгуливал ее рано утром, выручая хозяев в трудных ситуациях. Мне кажется, мы с ней относились друг к другу с вежливой и отстраненной симпатией, все-таки мы познакомились, когда она была щенком, и я тоже был помоложе. Хотя она меня часто раздражала. Для наполовину охотничьей – видимо, гончей – собаки было испытанием ходить рядом, как я добивался. Она тянула и натягивала поводок, так что меня чуть не разрывало пополам от безнадежности, но стоило ее спустить, как она тут же куда-то усвистывала. В этом тоже не было ничего приятного, особенно если я опаздывал на автобус в Осло, а вместо этого должен был носиться, выкрикивая ее имя, по кустам и среди деревьев, окружавших крайние дома пригорода, где я жил тогда и некоторым образом продолжаю жить и поныне, и я помню, что несколько раз ловил себя на радостной мысли, что это, слава Богу, не моя собака.
Но когда я в тот раз заезжал на парковку означенной ветлечебницы, собака спокойно изучала виды за окном с заднего сиденья машины, красного «опель-кадета», в котором она ездила обычно. В кои-то веки она воспитанно и с достоинством шла у ноги, мы вошли в двери и подошли к окошку, за которым сидела женщина с раздражающе наивным взглядом, и на ее вопрос, зачем мы приехали, я ответил, что усыпить собаку.
– Понятно, – сказала женщина и перегнулась посмотреть на собаку, а та в ответ подняла на нее глаза и осторожно вильнула хвостом.
– Присаживайтесь там вместе со всеми и подождите, – сказала она и ткнула пальцем. Необходимости в этом не было, это я сам понял. Я сел с собакой на поводке, в руке у меня теперь была бумажка с номером. Собака легла на пол прямо передо мной, положив лапы мне на ботинки, и я подумал, что надо бы поговорить с ней, сказать какие-то слова утешения в оставшиеся ей последние минуты жизни, но в голову ничего не шло. К тому же она была совершенно спокойна и погружена в себя, хотя слева и справа сидели люди с котами, хомяками и прочей живностью в клетках.
Через некоторое время из двери вышел мужчина в белом халате и громко назвал номер на моей бумажке. Я встал, подошел и отдал ему поводок с собакой на другом его конце. Она послушно пошла за ним. А я вернулся на свое место и стал ждать. Хотя он не велел мне так делать. И что меня тревожило – никто не проверил, действительно ли это моя собака. Это лишало всю ситуацию надежности, какой-то однозначности. Что угодно может случиться, с кем угодно, лишь бы тот, с кем это происходит, имел доверие к миру.
Не прошло и десяти минут, как в дверях снова показался мужчина в халате, столь же белоснежном. Мужчина поманил меня. Я встал и подошел к двери, он распахнул ее, чтобы я смог пройти мимо него, и сделал приглашающий жест рукой в сторону следующей двери.
– Вы, наверно, хотите на нее взглянуть, – сказал он.
– Да, – сказал я, – хочу.
И поскольку он так и стоял, вытянув руку, я сделал несколько шагов к следующей двери и открыл ее.
Она лежала на блестящем металлическом столе. Он казался очень холодным, а она лежала на боку, чего я никогда прежде не видел, и была спокойная и неподвижная, какой я ее раньше тоже не видел. Мертвая собака тише, чем дом на поляне или стул в пустой комнате.
– Все прошло хорошо, – сказал мужчина в белом халате. Я не ответил. Я думал, не предполагается ли, что я должен забрать ее назад в машину. Уже видел, как иду с тяжелой собакой на руках через комнату за стеной, ее шерсть трется о мои ладони, голова висит, уши болтаются, иду сквозь строй всех, кто ожидает в приемной, но вроде разговора об этом нет, и я повернулся уйти.
– Спасибо, – сказал я.
– Вы забыли, – сказал он. Я вздрогнул и обернулся, а он вложил мне в руку поводок с пристегнутым к нему открытым ошейником. Я взял его, заплатил в кассе за оказанные услуги, а в машине положил поводок на переднее сиденье рядом с собой поверх карты с обведенным чернилами районом Адамстюа, местоположение которого я выкинул из головы, еще не успев его покинуть. Я со всей силы треснул кулаком по рулю – идиот, ругал я себя, зачем ты согласился, почему ты вечно говоришь всем «да» только потому, что ты якобы должен, и я несколько раз с силой стукнул по рулю, я бил и бил его, как теперь лупил в окно трамвая, который оставил Ветеринарный институт далеко позади, и я осознал, что пятнадцать минут, данные мне, несомненно, чтобы спокойно и расслабленно поплавать по волнам памяти, суть не растяжимое до бесконечности пространство, но что с ними как всегда со временем: оно утекает между пальцев незаметно в какой момент. И вот я уже доехал до пересечения с Киркевейн, где ты должен выйти, если собираешься в больницу Уллеволл.
На двенадцатом этаже я вышел из лифта и сделал два-три шага направо. Я чувствовал, что не готов. Остановился и замер. В горле разбух ком, я не мог его сглотнуть. Прямо передо мной был ряд огромных окон, обращенных к северу, но в них попадало и то, что западнее и восточнее. Я подошел к окну, уперся в него лбом и посмотрел вниз. У меня вдруг чудовищно скрутило живот, как будто дали под дых, и я сейчас не удержусь и вывалюсь в окно, и буду падать двенадцать этажей, пока не грохнусь о землю. Помимо моей воли жаркая волна прошла по телу, ураган просквозил черепную коробку, взвихрил весь сор, муть и обрывки, не разобранные мной, и они приклеились к стенкам черепа. Я по-матросски расставил ноги, прижал к стеклу обе ладони, все так же упираясь в него лбом, и заставил себя открыть глаза и так стоять, и если бы вертолет пролетал мимо точно на этой высоте ровно в эту минуту, медицинский вертолет, например, с умирающими на борту, то пилоты увидели бы мужчину с разинутым ртом и вытаращенными глазами – точно маска, приплющенная стеклом, – на высоте двенадцатого этажа. Потом я сильно зажмурился, сделал глубокий вздох, задержал его насколько смог, а когда я снова открыл глаза, мир устаканился.
Внизу, вдоль корпуса, бегал мужчина, почти мальчик, на полной скорости он пронесся мимо входа, скрылся за углом и почти тут же появился из-за другого угла и пошел на новый круг. В нем слабо угадывалось что-то знакомое, но выглядел он с высоты двенадцатого этажа странно перекошенным.
Я пошел вдоль по коридору, увидел пост, громко назвал имя брата в открытую дверь, получил четкий ответ и долгий взгляд, прошел еще дальше, нашел его палату, открыл дверь и вошел.
Я не ожидал увидеть того, что увидел. Он лежал в палате один, и палата была не такая, какие я видел раньше, когда изредка навещал родню и знакомых в больнице, и кровать, на которой он лежал, тоже была особенная. Он был в маске. И с ним все было кончено, это я увидел сразу, потому что он не дышал сам, а за него дышал машина, которая вдувала ему в легкие воздух так ритмично, как не дышит ни один живой человек, вдобавок машина издавала звуки, неприятные механические шипящие звуки. Все это выглядело как боль, машина делала ему больно, она ударяла в его тело, а он не мог защититься, не мог отвести от себя удары, он был не жилец. Но мама сидела рядом с ним, держала его руку в своих, не плакала, но только повторяла «мальчик мой», говорила она, «мальчик мой», она была сосредоточена и целиком погружена в то, что должно было произойти, если уже не произошло, она не видела вокруг себя ничего и никого, а мальчиком ее был мой младший брат, не самый маленький, но следующий за мной, высокий и сильный, ни в чем на меня не похожий, но, конечно, игравший роль в моей жизни во все прожитые нами годы. И я, должно быть, тоже что-то значил в его жизни в те двадцать семь лет, что мы знали друг друга, мы наверняка делились мыслями и что-то придумывали на пару, несмотря на непохожесть и разницу в возрасте, но я не мог вспомнить, что именно. Громадные куски жизни забылись и куда-то делись, когда я вошел в его палату в больнице Уллеволл и увидел, что он лежит в маске, потерявший свободу, привязанный к месту, точно голый космонавт в спутнике, запущенном в космос, который теперь совсем один летит к маленькому, возможно, теплому местечку в холодном мировом пространстве, если такое место есть, во что я, к сожалению, не верю, но я не мог, хоть тресни, вспомнить ничего, что мы с ним делали вместе. Не помнил нашей близости, в последние годы понятно, но и в детстве тоже. Но это же неправда, все было, надо только сосредоточиться, однако мозг поразила рассеянность, его как будто залепило тефлоном, и все, что в него залетало, мгновенно отскакивало, скользило дальше и исчезало. Гиперподвижность сознания. Дефицит внимания к собственной жизни: со мной происходили какие-то вещи, а я их не видел. Важные вещи.
На стуле у окна сидел отец с едва заметной улыбкой на губах, совершенно неуместной, если только я не обознался, и он смотрел в окно на корпуса больничного комплекса и дальше, на Уллеволл-Хагебю, дома этого города-сада имели британский весьма снобистский вид, но, возможно, ему с его места было видно еще дальше, до стадиона Уллеволл.
Отвернувшись от окна, отец увидел меня, замершего в двух шагах от двери, и я вдруг понял, что он испытывает неловкость, что блуждающая на его лице тень улыбки, само выражение лица и глаз – все говорит о его смущении в эти минуты, когда его третий сын лежит в маске в нескольких шагах от него и умирает или уже умер. А я был как отец, мы с ним похожи, отлиты по одной форме, это я слышал всегда, и точно как он, я тоже чувствовал стыд и неловкость. Я не ощущал смерть кожей, она была чужаком, и меня она смущала. Я не хотел здесь быть, не знал, что сказать, и отец тоже не имел понятия, надо ли говорить и что, наши взгляды встретились, и мы оба тут же отвели глаза. Я почувствовал отчаяние, почти злость. Необузданный жар от окна в коридоре выветрился из тела, оно одеревенело, и лицо тоже застыло, как картон; я оглянулся и посмотрел на маму, она сидела на стуле подле моего брата, склонившись к нему, и я подумал – вот если бы я лежал в маске в палате на двенадцатом этаже больницы и умирал или уже умер, она бы тоже так безраздельно ушла в то, что происходило бы со мной? Так же самозабвенно предалась моей судьбе или моя тень недостаточно длинная, недостаточно густая для нее?
Я, пятясь, вернулся на два шага к двери и поймал на себе взгляд отца, прежде чем успел вытащить из кармана табак; я постучал по пачке, открыл спиной дверь, развернулся и вышел в коридор. Мама даже головы не подняла, чтобы разделить со мной свершавшееся.