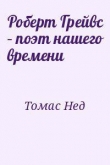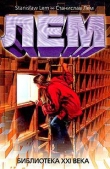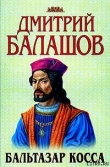Текст книги "Бафомет"
Автор книги: Пьер Клоссовски
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
На мгновение он так и замер с рукой у меня на лбу, в свою очередь закрыв глаза, но улыбка вновь обрисовала ямочки на его персиковых щеках.
Поскольку я не двигался, он отошел от кровати, погасил факелы и зажег ночник. Потом, отбросив шапочку, вытащил кинжал и вонзил его в дерево низенькой двери. Затем, сняв с пояса четки, обернул их себе вокруг горла и запястий, после чего развел руки и растянул четки направо и налево, так что образовался треугольник; казалось, он сделал это с силой и не сгибаясь повалился на пол.
Едва он вытянулся на спине, как оказался медленно приподнят над землей, прямо к своду; паря в горизонтальном положении, он тихо опустился на кровать и там, поперек нее, с обвязанными четками запястьями и шеей, остался недвижим.
ЗАМЕЧАНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ [4]4
Извлечения из письма профессору Жану Декотиньи, опубликованного в качестве послесловия к его важной монографии «Клоссовски» (издательство Henri Veyrier, серия, издаваемая Жаном-Франсуа Бори).
[Закрыть] К «БАФОМЕТУ»
Я только что закончил последнюю часть «Законов гостеприимства», когда в продолжение нашего летнего (1964 года) пребывания в замке де Шасси меня посетило желание восстановить некоторые переживания своего отрочества. Результатом стал эпизод с юным Ожье, предлагающим себя Дамиану, опубликованный под названием «Комната размышлений» в Le Nouveau Commerce (осень-зима 1964). Этот текст, которому впоследствии было суждено стать эпилогом к «Бафомету», побудил меня написать и пролог (появившийся в обозрении Мегсиге Ле Ггапсе в декабре того же года). Все вместе было написано столь быстро, будто я должен был просто-напросто переписать мне диктуемое – или, того паче, описать зрелище, на котором я присутствовал, ни в коем случае не опуская слов, подсказываемых мне разнообразными позициями действующих лиц, так что я мог бы поверить, что был на месте и их слышал.
Проект исторического романа, воскрешающего обстоятельства уничтожения Филиппом Красивым ордена Тамплиеров, пробудило во мне стародавнее чтение – в возрасте тринадцати лет, в Женеве – романа Вальтера Скотта. Нужно ли сознаваться перед вами, что имена двоих из действующих лиц пролога – Буа-Гильбер и Мальвуази – позаимствованы у пары храмовников, фигурирующих в «Айвенго»? Это что касается видимости исторического жанра. В основе же лежит проблема по существу своему теологическая: Чем становятся души, отторгнутые от своих тел? Утрачивают ли они свою тождественность или нет? Познают ли состояние безразличия – или даже полного забвения, – или же их земные намерения продолжают существовать лишь в качестве напряженности, и, лишившись тел, не избавляются ли они также и от любых препятствий ко взаимному проникновению – вплоть до Судного дня, когда окажутся воссоединены с собственными телами? Вопросы, которые побуждают к дискуссиям и действиям моих персонажей, постольку и поскольку общим образом «Бафомет» в куда большей степени несет следы моего сродства с великими гностическими ересиархами (всяческие Валентины, Василиды, Карпократы) и, что касается формы и инсценировки, с восточными сказаниями (Бланшо (31x11) типа «Ватека» Бекфорда…
НЕОБХОДИМОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ МЕЖДУ БАФОМЕТОМ и АНТИХРИСТОМ
Этимологии Бафомета многообразны. Я не придерживаюсь предложенной Альбером Оливье, согласно которой речь идет об искаженном произношении имени Магомета. С другой стороны, три фонемы, образующие это имя, могут означать зашифрованным образом Басилевс философорум метал-ликорум: властитель металлургических философов, то есть алхимических лабораторий, которые, возможно, возникли при различных командорствах Храма. Андрогинный характер этой фигуры восходит к халдейскому Адаму Кадмону, которого мы вновь находим в «Зогаре». Вместо бородатого андрогина из Сен-Мерри мое сочинительство предпочло развить показания на процессе некоего брата-прислужника, разъясняющие одно из вещественных доказательств: золотую голову с черепом девственницы внутри, подтверждающую обвинение в идолопоклонстве. Отсюда мое изобретение юного Ожье, призванного изображать мнимого идола.
Нет доказательств тому, что храмовникам когда-либо вменялось в вину следование ереси доцетов, утверждавших, что Христос родился, умер и воскрес лишь по видимости. Зато в положении дыханий, в котором находятся мои персонажи, их к этой ереси приводит забвение того, что у них когда-то было тело – что понимает только Великий Магистр – наряду с Терезой Авильской, Дамианом и, особенно, оживленным юным Ожье.
Антихрист является апокалиптическим предчувствием из посланий святого Иоанна с Патмоса, инспирируемым одной фразой Христа (Мф. 24:24): «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
А также и ролью, вменяемой в вину различным историческим персонажам, среди коих и Фридрих II Гогенштауфен, романо-германский император, король Сицилии, враждебно настроенный к Крестовым походам и привечавший у себя при дворе евреев и арабов. Папы и антипапы клеймили друг друга этим словом, пока Лютер не охарактеризовал так «Папу Римского» и, наконец, решительным образом не приписал себе эту роль Фридрих Ницше. Откуда и заблуждение Великого Магистра, когда он полагает, что имеет дело с Фридрихом, королем Сицилии, сказавшем при виде пшеничного поля: «Как много здесь растет богов!» (насмешливый намек на освящение просфоры), на что муравьед ему отвечает: «Я сказал куда лучше» и т. д.
Невозможно перепутать фигуры Бафомета и Антихриста. Уподобить их друг другу значит нарушить канву моего сочинительства.
В рамках вневременного пространства дыханий, такие персонажи, как сир Жак де Моле, Тереза Авильская, наконец, Ницше и Дамиан, состыкованы вокруг пажа Ожье как случающиеся одновременно исторически разнящиеся миры.
Великий Магистр представляет при этом готическую чувствительность в противоположность возникшей из мира барокко Авильской святой: юный Ожье во вращении своего неподвластного тлену тела обозначает некоторым образом перенос стрельчато-готической мысли в мысль – спирализирующую – барокко, вновь вводя чувственность в созерцательный опыт испанских мистиков (припоминание статуи Бернини).
РАЗНИЦА МЕЖДУ ГНОСТИЧЕСКИМ ПОНЯТИЕМ ИСКУПИТЕЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ и НИЦШЕВСКИМ ВЕЧНЫМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ.
«Бафомет» (гнозис или вымысел, восточное сказание) никоим образом не может демонстрировать истинную суть того подобия доктрины, каковым является ницшевское вечное возвращение, или пониматься как беллетристическое произведение, построенное на этом личностном переживании Ницше.
Взамен моя книга содержит его теологическое следствие (прохождение одной души через разные самотождественности), совпадающее с метемпсихозом карпократовского гнозиса – на котором в некотором роде основывается персонаж Терезы Авильской, когда в своих молитвах она молит Господа предоставить отсрочку в виде нового существования, или даже последовательных воплощений, душе Дамиана.
Этот парадоксальный в контексте книги эпизод отнюдь не отвергает, а подтверждает в духе Терезы божественное присутствие: такая душа, несмотря на различные индивидуальности, которые ей предназначено принять, остается в глубине своей одной и той же, не меняется. Присущее вымыслу о Бафомете противоречие: метаморфозы, которые изображаются здесь в их неведении дыханиями из-за пресловутого «пакта между Князем изменений и Творцом», в то время как главные герои – Великий Магистр, Тереза Авильская, юный Ожье, Антихрист Фридрих и, наконец, Дамиан, – остаются тождественными самим себе.
МАСОНСКИЙ СТИЛЬ ПОМИНОВЕНИЯ
Последовательность фантасмагорических происшествий в моей книге (главы V, VI, VII), вставленная между главами IV и VIII, описывает случившееся во время поминовения, продолжающегося тремя врезками вплоть до страницы 142.
Чему соответствует эта вставка (чередование памяти и забвения) между перипетиями торжества, с необходимостью предполагающего возвращение к своей памяти всех участников, к тому же временно снабженных своим телесным обличием? По сути, масонскому стилю (уже ощутимому в обмене репликами с предполагаемым Бафометом или, опять же, между сотрапезников Великого Магистра) – ответы на каверзные вопросы – диалог сира Жака с Филиппом Красивым – мнимое обезглавливание короля (намек на ритуальное убийство Хирама, строителя Соломонова храма). В моей книге, если вам угодно, представлена красочная пародия, хранящая, однако, всю символическую весомость преднамеренно абсурдных поступков и слов и, значит, испытание интуиции об истинном и ложном у братьев, стремящихся к высшей ступени посвящения.
ОЖИВШИЙ ОЖЬЕ
Таким, каким он появляется в прологе, юный Ожье вновь возникает в момент поминовения, прислуживая за столом Великого Магистра в качестве пажа Лаира и Мальвуази. Посвященный некогда Мальвуази в ритуалы восшествия на трон (в прологе), он осознает только самого себя, свое собственное очарование, соблазн, которому он подвергает общину братьев-рыцарей, ни на мгновение не подозревая о своем преображении в Бафомета, если только его не преследует мысль о новом повешении. («Я дал себя повесить для того, чтобы заставить мне поклоняться! Повешенный, я счел, что достоин поклонения, поклоняясь самому себе в ожидании того, кто будет мне поклоняться!»)
ЭПИЛОГ
Не говорил ли я уже, что, записывая действие этой книги, думал, будто присутствую на спектакле?
Вновь поднимается занавес: на сей раз за ним гостевая комната в Храме, сохранившаяся до наших дней как в любом другом монастыре того или иного молитвенного ордена. В этой достаточно просторной, освещаемой факелами комнате на кровати лежит некий гость. На краю постели – отрок в шелковом одеянии средневекового пажа, перебирающий четки.
Между Ожье как действующим лицом и разодетым отроком, который, судя по всему, что касается возраста, повадок и очарования, отождествляется все с тем же Ожье, может возникнуть и заметная разница, если судить об этом по недоумению рассказчика, когда паж пытается отождествить его с братом Дамианом. Уже в финальной сцене, присутствуя при непонятной галлюцинации братьев-рыцарей, брат Дамиан спрашивает себя, не выучил ли Ожье свою роль.
Здесь рассказчик, слушая юношу, который поначалу говорит в одиночку, кажется, ставит перед собой тот же вопрос: не надиктована ли ему та проповедь, которую он излагает, не выучил ли он ее наизусть? Не заставили ли его разучить, прежде чем изобразить их для гостя, все эти все более и более вызывающие жесты? О чем догадывается юноша и еще более наводит на эту мысль своим отпирательством. «Возникнуть, исчезнуть, возникнуть вновь – нужно ли мне для этого тело?». Откуда и живой обмен мнениями, и столь же бестактная, сколь и жестокая реплика юного пажа: «Почему вы сразу не сказали, что я здесь во плоти и крови: я бы вам тут же подчинился!»
Действительно ли брат Дамиан явился защищать свою диссертацию в «театр»? Не идет ли в очередной раз речь о скрытой пародии на масонские испытания? Или же, не зная шифра, он истолковал наоборот, то есть в прямом смысле, предостережение юного пажа: «Неужели вы думаете, что я мог бы просто вот так с вами разговаривать, если бы не был всего лишь незначительным статистом в этой комедии?».
КУПАНИЕ ДИАНЫ (Le Bain de Diane)
Я хотел бы поговорить с вами о Диане и Актеоне: два имени, которые способны пробудить в уме моего читателя как многое, так и малое: ситуацию, позы, формы, сюжет картины, вряд ли легенды, ибо опошленные энциклопедиями образ и рассказ свели эти два имени, где первое – лишь одно из тысячи других, которые носило это божество на взгляд исчезнувшего ныне человеческого рода, к единственному зрелищу застигнутых врасплох чужаком купающихся женщин. Ко всему прочему, если это зрелище и не «лучшее из того, что у нас было», то вообразить его все же до крайности трудно. Но если мой читатель не вполне свободен от воспоминаний и от воспоминаний, привносимых другими воспоминаниями, эти два слова могут внезапно блеснуть как вспышка великолепия и эмоций. Сей ныне исчезнувший человеческий род, исчезнувший до такой степени, что сам термин исчезновение – вопреки всем нашим этнологиям, музеям и т. п., – что этот термин, говорю я, уже не имеет больше смысла: как вообще мог существовать сей человеческий род? И однако то, что он по ходу дела пригрезил, то, что глазами Актеона увидел в своей грезе наяву настолько ясно, что вообразил и сами глаза Актеона, приходит к нам как свет для нас угасших, навсегда отдалившихся созвездий: ведь именно в нас сверкает взорвавшаяся звезда, во мраке наших воспоминаний, в великой звездной ночи, которую мы носим у себя в груди, но которой бежим при своем обманчивом дневном свете. Здесь мы доверяемся нашему живому языку. Но порой между двумя совершенно повседневными словами вдруг проскользнут несколько слогов языков мертвых: слова-призраки, которые обладают прозрачностью пламени в полдень, луны в лазури; но стоит нам укрыть их в полумраке нашего духа, как они обретают насыщенный блеск: пусть так же и имена Дианы и Актеона на мгновение вернут их скрытый смысл деревьям, мучимому жаждой оленю, волне, зеркалу неосязаемой наготы.
Не у теологов ли стоит нам спросить, найдется ли среди всех когда-либо имевших место теофаний более озадачивающая, нежели та, при которой божество предлагает себя людям и от них ускользает, прикрываясь чарами ослепительной и смертоносной девы? Или же скорее маги, астрологи, акушерки или, того лучше, озаренные охотники сумеют интерпретировать нам эти столь разнородные эмблемы: лук, луна, собаки, факелы, олени, одеяния беременных женщин, розги для порки эфебов, охотничьи рогатины, цветы священных деревьев; они скажут нам, не позволяет ли урок стольких знаков, прежде чем склониться к определенным практикам, уловить теофанию в ее противоречивых атрибутах: девичество и смерть, тьма и свет, целомудрие и соблазн. Направляя непрестанное движение между областями самыми низкими, к которым мы склонны спуститься, и самыми высокими, к которым стремимся, лук девы настраивает нас против самого низкого, где она, тем не менее, царит достижимой, тогда как ее полумесяц ведет нас в подъеме к наивысшему, где она обитает недоступной. Кем бы ты ни был, связавшись с одним из ее атрибутов, тут же притягиваешь и другой, противоположный. Призывающие ее охотники, поостерегитесь слишком уж провешивать это противоречие: иначе вас ждет участь, не слишком отличная от участи дичи. Лук, который вы натягиваете, – гибкая материя девического таинства; каждому из ваших желаний соответствует стрела из ее колчана; как расслабляется тетива, когда ее покидает стрела, так и жизнь, когда ее покидает желание; и вот ваша судьба: если вы и поражаете намеченную добычу, то ценой своего вожделения. Но в час, когда делите с нею трофеи, будьте умеренны и бдительны: Лучница сняла свой лук, и это ваше высшее испытание: в Артемиде засыпает Элафиея и появляется Бритомартис, милая дева с нежной улыбкой: оплодотворимая, но еще не оплодотворенная, крепкая и как никогда привлекательная, но все еще замкнувшаяся среди нимф, собак и добытой дичи: действительно, твое высшее испытание, Мелеагр, когда в форме стройной Аталанты она соглашается принять дань уважения от твоей вспыльчивой страсти. Избежите ли вы участи Мелеагра? Сможете ли вы не впасть в заблуждение при виде Лучницы на отдыхе, в более тесном соучастии со зверями, нежели с примкнувшими к ее своре охотниками: О, до чего исключенным чувствует себя охотник из круга причесок, морд, коленей, в центре которого дева сбрасывает корсаж и колчан; после гона она оставила нас почти бездыханными; притворяясь, что запыхалась и сама, она притворяется, что злоупотребила нашим рвением; и чтобы довести всякое рвение до высшей степени, вот она совлекает с себя покровы: вот раскрывает тело, которое трепещет, тело, которое она поглаживает, и, поскольку покрыта потом, собирается поделиться с волной своим секретом. Афродита являлась из-под струй воды взгляду смертных как самая беспристрастная из достоверностей. Но что нам до достоверности Афродиты в сравнении с горечью, в которой оставляет нас погрузившаяся в воду Артемида! Купание, завершающее охоту Артемиды, – самое жестокое мгновение нашего жизненного пути: нам отказано в послеобеденном отдыхе, который мы предвкушали провести в объятиях божества: и если она утверждает теперь свою неприкосновенную природу, то для того, чтобы тем лучше убедить нас в теофанической реальности своих щек, своих грудей и ляжек, позаимствованных у смерти наших чувств, тогда как волны оборачивают своими беспокойными полотнищами и девственное руно, и оплодотворимое чрево, ласкаемое нежными ладонями, которые сжимали лук, и гораздые в выборе стрел гибкие пальцы, что играют теперь с пупком и затвердевшими сосками…
Есть ли зрелище безумнее того, что предстает перед глазами Актеона через раздвинутую листву? Случайность или же робкое желание направило его шаги по пути к спасению, в лоно проклятия? Неужели он и в самом деле поверил в неподступном божестве в податливую деву? Не он ли и придал этой теофании ее формы? Не был ли он ее толкователем? Представилась ли бы когда-либо Артемида скульпторам, не приблизься к ней Актеон? Не хотел ли он заманить собственного гения-хранителя в ловушку своего ловитвенного воображения? Но что за мысль – захотеть застать врасплох сам принцип собственного призвания, словно для того, чтобы его пересмотреть! Надо же быть настолько безумным, чтобы предположить, будто божество собирается расслабиться, раздеться и обрести удовольствие в волнах; чтобы поверить, будто она томится – томлением настолько редким, что предоставит вам исключительное развлечение и одарит привилегией, которую вы и подберете, словно дикую ягоду! Может быть, Актеону постыла охота? Не разгадал ли он более глубокий смысл ее бесплодности? Одним словом, выпустить добычу в погоне за тенью – не таков ли секрет всех охотников, коли блага здесь суть тени благ грядущих? Но если Царство принадлежит неистовым, то Актеон сделал первый шаг по пути мудрости, когда приблизился к этой неопалимой купине, ветви которой и раздвинул, будто первый среди грядущих провидцев, вооруженных и маскирующихся.
Диана и циклоп Бронх
Циклоп снабдил Диану луком и стрелами. Не означает ли это, что тем самым он скрыл за подношением богине атрибутов то, чем на самом деле ее обеспечил? Что Диана, вырывая клок волос из мохнатой груди циклопа Бронта, боролась с чудищем, чья мощь, восстановившись после работы в преисподней, мерялась в игре силами с ловкостью светозарной девушки? Уж не высвободил ли он тогда в ней жестокий принцип ее девственности? Она вышла из рук циклопа утвержденной в своей крепости атрибутом, о котором не подозревают ни боги, ни смертные (сохраненным для языков ее собак). Выдержав натиск циклопа, она отныне стала для касты посвященных непогрешимой соперницей Афродиты: ревнуя к Артемиде, Афродита тщетно пытается под нее подделаться: рога полумесяца ночного светила, украшающие прическу Дианы, остаются эмблемой ритуала, о котором стрекочут в свое удовольствие лесные птахи. Но кто хоть когда-нибудь претендовал всерьез на то, что понимает их язык? Потребовалась эта ересь, чтобы Диана, призываемая роженицами, средь бела дня отвела всем глаза и явилась как божество-хранитель плодородия, а также помолвок: она, исключившая для себя союз с кем бы то ни было, скрепляет клятвы женихов и невест и карает их нарушения. Но зачем сечь до крови своей прекрасной рукой эфебов?
«Суровое или даже неслыханное положение»
Актеон лишь потому так устрашился опасности, исходящей от руки Дианы, что усомнился в целомудрии ее пальцев. Эта черта богини была для него не более чем позой: в ней было нечто успокоительное для мелких людишек, каковые видели в деве-охотнице исключительное в окружении олимпийской фривольности свидетельство суровости, каковые предчувствовали в ней благодеяния божественного милосердия, снизошедшие с исполненных неумолимой объективности небес: божество-хранитель животной и растительной жизни, благосклонная к ухаживаниям, как и к супружеской плодовитости, воспитывающая здоровых юных девушек по своему подобию и, тем не менее, «львица для женщин»; напускающая опустошающих округу чудовищ на недружелюбные или безразличные к ее алтарям царства, по мере того как охота становилась скорее игрой, нежели экономической необходимостью, словно для того, чтобы напомнить людям, что, являясь знаком как мрачного, так и светлого аспекта мироздания, она определяет собой его целостность. И в чем же эта целостность совпадала с целостностью ее девственной природы, отвечала ее целомудрию? Почему она отказывала себе в тех чувствах, которые оживляют мироздание? Не прятала ли она испокон веку, как от богов, так и от смертных, другое свое лицо? Актеон как раз и не понимал, ни что целостность мироздания может зависеть от одного простого божества, ни что женственная божественность, несовместная ни с каким мужественным божеством, способна выразить себя в простоте закрытой природы, самодостаточной и находящей в целомудрии полноту своей сущности. Богиня вне судьбы, на соединение с которой по воле судьбы не может надеяться ни один смертный.
«Богам дозволено соединяться со смертными женщинами, мужчинам же воспрещено обладать богинями? Суровое или даже неслыханное положение!», – восклицал один знаменитый хулитель богов. Но до него то же самое говорил себе и Актеон. Быть может, женоненавистник, но наделивший свою недоверчивость неким подобием бытия, заинтригованный различными фазами собственного демона-хранителя и тут же решившийся основать секту на основе лунатического темперамента – в своем честолюбии готовый исполнить роль ревностного ересиарха в лоне эфесской ортодоксии, он выявил в столь банальном выражении, как собаки воют на луну, нечто вроде следов тайной истины. Таким образом, охотничье дело и астрология, хотя и разные, но обыкновенно принимаемые по причине своего прагматического характера науки, как оказывается, имеют один и тот же скандальный предмет. За вычетом того, что, если охота чисто имманентна, здесь видно, как она возвышается до трансцендентности, чьей столь обманчивой и тщетной интерпретацией является предоставленная самой себе астрология; в то время как словно бы проясненная смыслом охотничьих реалий астрология претерпевает при этом похвальное смягчение своих мечтаний, смиренно соглашаясь снизойти до уровня Пса, каковой сразу приобретает возвышенность звезд. Ибо лунный полумесяц то оказывается диадемой, которая венчает чело Артемиды; то образует рога, проступающие из ее волос; тем не менее богиня никогда не выставляет напоказ образ этого светила в полнолуние. Действительно, в этой своей форме, расточая в теплой ночи свои серебряные чары, оно смешивается с ее самыми целомудренными прелестями; невидимое, отступает вглубь их тайников; и уже там, в Артемиде самый осведомленный из ее псов заставит его расти вновь.
Серебряный лук и древо Дианы
Диана испытывает свой серебряный лук четырежды: она испытывает его на четырех предметах: первый раз – на вязе; второй – на дубе; третий – на диком звере; четвертый – на Граде нечестивых.
Относится ли все это к ее теофании? Или же речь тут идет о фигурах, разъясняющих невыразимую сущность ее божественности? Ибо в Диане божественность надлежит рассматривать также в ее «высоте и глубине, ширине и долготе»; нужно всегда удовлетворять этим четырем измерениям: пространство есть не что иное, как дух в четырех своих движениях.
Кажется, что здесь мы видим, как Диана осаждает три царства: в том смысле, что будучи сама духовной – Лучница, носительница света, – она проявляет сродство с тремя царствами; но только через посредничество одного из них, минерального (серебряный лук), с которым она поддерживает тайное сродство; и что это сродство простирается на растительное царство в образе вяза и дуба, как и на звериную животность в образе дикого зверя, на чем разведка, собственно, и должна закончиться. Ибо можно ли все еще отнести к животному царству Град нечестивых; – кто на это осмелится? Четвертое и последнее деяние Дианы, четвертая и последняя стрела, которую она приберегла для города, должно указывать здесь, таким образом, на выход за пределы тех трех царств, которые она хочет объединить: она, похоже, теперь размежевывается с четвертым царством, с которым проявляет, однако, некое негативное сродство. Ибо точно так же, как при первом движении серебряный лук богини означал ее позитивное сродство с минеральным в возвышенном и трансцендентном смысле, так и теперь последним, четвертым движением Диана указывает на сродство между звериной животностью и психическим, но также и на противоречивое сродство психического и духовного в образе нечестивости.
Если учесть, что серебряный лук, тождественный лунному полумесяцу и, следовательно, эмблематический образ богини, служит здесь инструментом отправления божественных сил и что при этом действии испытанию подвергается сам инструмент, можно констатировать, что, если серебро (минеральное царство) играет здесь активную и трансцендентную роль по отношению к двум другим царствам (растительному и животному), высшее его действие свершается в области моральной: Град нечестивых, чей разложенчес-кий характер тут же приводит на память совокупность свойств, в Искусстве, нашатырного спирта. Ибо «немного ртути, брошенной в раствор серебра в нашатырном спирте, притягивает серебро и делит его на ветви и листья, которые представляют древо Дианы». Тем самым серебряный лук и Град нечестивых или просто нечестивость (этот иной минерал) находятся по отношению друг к другу в одной и той же духовной области: выстрелы Дианы, чтобы достичь конечной цели, должны преодолеть три эти царства. Циклическая эволюция, этапы которой, руководствуясь жестами своего демона-хранителя, мечтал пробежать Актеон.
(В то же время серьезное упущение такой трактовки нашей притчи состоит в том, что в ней вовсе не учитывается, что вяз, дуб, дикий зверь и Град нечестивых находятся в одной и той же плоскости; что они расположены по соседству друг с другом в пространстве; что нет другого царства, кроме царства этого пространства, каковое мифично; и что, отнюдь не представляя постепенности или последовательности, эти четыре объекта обладают по отношению к Диане одним и тем же качеством и составляют четыре цели четырех движений, осуществленных ею в развитие «ее высоты, глубины, ширины и долготы»; не в том смысле, что вяз был бы ее высотой, а Град нечестивых – глубиной: на самом деле, каждый из этих объектов дает повод четырем четырехкратно воспроизводимым движениям, поскольку эти объекты целостны, как в равной степени целостен и жест Дианы.)
Диана последовательно поражает два дерева, вяз и дуб, и эта двойственность (древо жизни и древо знания или смерти) связана с ее двойственной природой: смертоносной и светозарной, или, точнее: светозарной, поскольку смертоносной. Ее двойственным состоянием: неоплодотворенная, но оплодотворимая, или, скорее, оплодотворимая, поскольку неоплодотворенная. Состоянием целостности, основанным на смерти внешней мужественности, – так как эта последняя отстранена как угроза ее бессмертной целостности: и утрата девственности изображает здесь смерть прямо в лоне нетленного существа. Она сама, дева, действует, однако, как оплодотворяющий принцип: ибо мужественность, которую она поражает снаружи, возрождается внутри нее самой как принцип жизни в лоне смерти: или как принцип смерти в лоне бытия.
Вслед за этим Диана поражает дикого зверя: последний служит переносом между грезящимся желанием и пробужденной мужественностью. Действительно, дикий зверь рыщет по лесу, как циркулирует по нашим венам раздражительность; но прежде чем она рассвирепеет в сердце человека и ожесточит его мысль вплоть до оскорблений, Диана усваивает ее в то самое мгновение, когда пронзает своей божественностью: тем самым пораженная духом животная энергия отнимается у человека и становится небесной мощью.
Тогда Диана выпускает свою стрелу в Град нечестивых: целиком построенный и населенный теми эмоциями, которые дева предает анафеме по самому определению своего принципа (целомудрие); город, который ее собственная теофания возмущает: она, «богиня извне», становится постоянным подстрекательством укрощенных внутри эмоций. Одним словом, перед нами собрание тех, людей или демонов, кого эти эмоции мучат, кто ее знает, но, притворно не ведая о ее божественном лике, поклоняется ей наоборот: ибо, проникнув благодаря жертвоприношению Акте-она в ее тайны, они в открытую их практикуют, безо всякого священного размежевания или ограждения, порочным и богохульственным образом. Они полагают, что, провоцируя их умы, Диана оставляет за теми из них, кто желает совлечь с нее покров, определенные шансы свершить свое призвание. Итак, говорят они, Актеон грезил под вязом или дубом (под древом жизни или древом знания) как бы о предвосхищении Древа Дианы, способного произрасти из соли нечестивости, из нашатыря позора, навязанного его взглядом великой «позерке».
Телесные потребности и заботы Дианы
Добыча, которую Диана приносит с охоты, предназначена циклопам и Геркулесу. Понятая буквально, деталь эта относится к рационализации легенды. Очевидно, боги могут есть и пить, но не так, как они смеются, сердятся, занимаются или не занимаются любовью. С того момента, как боги приемлют собственное тело, они принимают на себя и заботы о нем и этими заботами забавляются, забавляются, скорее, тем, что подвержены его потребностям, нежели испытывают их на самом деле. Поступают они так из ложного стыда. Диана, как и другие богини, во всем исполняет свою женскую роль. Она моется, как и другие богини. Но никто никогда не слышал, чтобы она ела подстреленных ею зверей. Она кормит своей добычей таких «чернорабочих» Олимпа, каковыми являются снабдившие ее луком и стрелами циклопы. Что же такое эти одноглазые чудовища, которых она прокармливает своей охотой? Низшие, поскольку искусные и работящие, энергии, подчиненные игривому и насмешливому существованию богов. Эти энергии, если бы им не предписали так называемую полезную цель, возобновили бы гнусную войну титанов: таким образом, они воображают себя незаменимыми в работе для совершенно бесполезного Олимпа – настолько бесполезного, что он вполне мог бы обойтись без самого себя. Зато эти энергии питаются добычей девы: не насыщается ли ею с обжорством и полубог Геркулес? Добыча Дианы – это наши собственные слепые энергии, укрощенные богиней и потребленные энергиями работящими: и те, и другие искажены охотой и трудом под предлогом потребности, полезности – «на потребу» безмятежной бесполезности. Верно, что эта самая безмятежная бесполезность вполне могла бы без этого обходиться. Она является принципом этих энергий – но последние не переносят себя как таковых. Чувство собственной бесполезности повергает их в горе. Только божество счастливо своей бесполезностью.