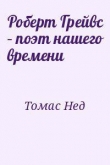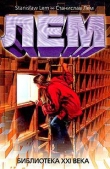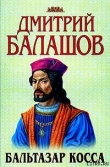Текст книги "Бафомет"
Автор книги: Пьер Клоссовски
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
По его мнению, в отличие от Сада, который все еще противопоставляет одной общей идее другую, Ницше утверждает абсолютную, неустранимую своеобычность собственного пафоса. Его цель – не заговор, а верховенство или, если пользоваться языком Батая, суверенность, в нем не осталось ничего от са-довской попытки перевернуть, вывернуть наизнанку, обратить стадную мысль: здесь отрицание куда более радикально и направлено уже на саму мысль как таковую. Собственно, именно Ницше и обязан Клоссовски своим пониманием впервые упомянутого все в том же послесловии к «Законам гостеприимства» «феномена мысли»: именно Ницше первым отказался от представления о мысли как о некоторой способности (или функции) вырабатывать общезначимые «истины», каковой постепенно овладевает наш интеллект. В русле идей Ницше, мысль понимается Клоссовским как некая получающая и порождающая знаки машина, питаемая от пронизывающих душу силовых линий: позывов, волений, аффектов – и знаки эти совсем не обязательно входят в код повседневности. Один из глвных уроков Ницше состоит при этом в том, что феномен мысли, неразрывно связанный с ее содержанием, является в то же время и особой формой человеческого существования, иначе говоря, умопостигаемое воспринимается человеческой душой только воплощенным в экзистенциальное – и связь этих двух планов (идиомов) и называется метафизикой.
Этот факт и приводит к тому, что у таких маньяков как Ницше и Клоссовски «феномен мысли» вбирает в себя всю жизнь, превращая их в мономанов, – и вынуждает погрузиться в биографию, одновременно с чем так понятая мысль уходит в другую плоскость, вырывается из-под диктата понятий и концепций, не имеет больше дела с «фактами», но срастается с пафосом. Так что по-своему неизбежно, что в книге о Ницше (сам Клоссовски назвал ее, что тоже характерно для лишенного «фактов» мыслительного пространства, книгой «редкого невежества») Клоссовски выступает в роли своего рода
биографа, поочередно обращающегося к доктрине и к жизни немецкого философа.
Подчеркнув лишний раз, что Ницше не пытается отыскивать истину, не считает, что это дело философии, Клоссовски со своей стороны утверждает, что философия – это прежде всего «патетическое познание» (выводя отсюда, в частности, и «крен» Ницше к музыке), а его воля к власти является альтернативой обязующей возможности мыслить: «Ницше отвергает всякую мысль, объединенную в единое целое с обязанностью мыслить» и поэтому «развил не философию, а, вне университетских рамок, вариации на личностную тему», стремясь оправдать «нечаянность своего существования». Наиболее патетичным памятником на этом пути и становится «Ecce Homo», на самом деле описывающее или, точнее, показывающее расщепление традиционного автобиографического я, душу во власти разнородных побуждений.
Греза Ницше о множественности личности смыкается с его атог Гагл: ведь это просто приятие бафометовского порядка, веселое согласие с тем, что «я» ни в коем случае не фиксировано в прокрустовых рамках четко о-пределенной личности; пафос в том, что, соглашаясь утратиться, обретаешь бесконечную череду идентичностей[36]36
«В тот момент, когда мне раскрывается Вечное Возвращение, я перестаю быть /не и пипс самим собою, я способен стать бессчетным множеством других…»
[Закрыть], способных вобрать в себя и прошлое, и будущее существование, с улыбкой брачуешься кольцом вечного возвращения с жизнью во всех ее проявлениях, от старости до юности.
Портрет художника в старости
Автопортрет (Клоссовски, глядя в прошлое): «Имел место абсолютный разрыв с письмом. Переходя от умозрения к тому, что оно отражает, я подпал в действительности под влияние образа. Именно видение требует, чтобы я сказал обо всем том, что оно позволяет мне увидеть. Несомненно, здесь не мешало бы вспомнить о таких позднеантичных авторах, как, например, Филострат Лемносский, которые изобрели отдельный риторический жанр, чтобы представить письмом воображаемые произведения пластических искусств. Или же Апулей, описывающий статую Дианы как произведение искусства. Одно время я и сам думал описывать своих персонажей как статуи, портреты, фигуры на картинах… которым эти персонажи послужили моделью. Но потом верх взяла моральная проблематика. Я тогда был как раз погружен в чтение святого Августина, то есть в ситуации философской драмы, вращающейся вокруг образа и богословских прений относительно театрального. Образ являлся для меня сгустком непередаваемого опыта. Любое содержание опыта может быть когда-либо передано лишь по концептуальным колеям, проложенным в душах кодом повседневных знаков. И наоборот, этот код повседневных знаков цензурирует всякое содержание опыта. Выход: образ, стереотип. Стереотип обладает функцией затуманивающей интерпретации. Но если его безмерно подчеркнуть, он сам же и начнет осуществлять ее, этой затемняющей интерпретации, критику».
Портрет чужой – отзывы о Клоссовском как человеке всегда были редки, слишком он сдержан и сложен, но дадим слово его близкому другу Жоржу Перро: «В нем нет ничего сентиментального. Он боязлив в дружбе. Потому что повелителен. Этот человек никогда не станет вашим другом. Но вы его – вполне могли бы стать. Если ему угодно. Но скорее – его сообщником, доверенным лицом, втянутым в его дела наперсником. Незауряден. Знакомство с ним невозможно забыть, и какое странное, какое неожиданное подтверждение тому, что я пытаюсь нашарить: год назад, когда мы собирались выйти из автобуса, какой-то крестьянин обернулся к П. К., которого никогда и в глаза не видывал, и безо всякого предупреждения вдруг сказал ему: «У вас, сударь, совершенно необыкновенная улыбка!». Да. И не эту ли же самую улыбку я нахожу и в его творчестве, которое может давать повод стольким интерпретациям, но ее никуда не выкинуть. Улыбка всегда присутствует в нем словно нежная нота, не всегда одинаково насыщенная, ибо подчас на нее набегает тень злокозненности; улыбка, которая обволакивает, оберегает, затеняет…».
И, наконец, собственно о художнике.
Стиль рисунков Клоссовского с годами меняется слабо, хотя и можно выделить в его живописи (мы в очередной раз не отличаем ее от графики) определенные периоды. С чисто ремесленной стороны за каждым его рисунком стоит огромный труд: чтобы покрыть сетью тончайших разноцветных линий, большинство из которых находится художником в процессе проб, огромный лист (как правило, формат его рисунков варьируется от полутора метров на метр до двух метров на полтора) не владеющему академически поставленным рисунком любителю требуется масса усилий и усидчивости. По живописной манере они столь же несвоевременны – причем во все времена, – как и мысль (в отличие от Ницше, все же не готовая назвать себя размышлениями), как и книги Клоссовского; их стиль идет вразрез как с академизмом, так и, в еще большей степени, с антиакадемизмом. Сам Клоссовски всегда подчеривал, что в своей живописи опирается на многовековую традицию, ведущую от поздних римских фресок и мастеров итальянского Ренессанса и, добавим, маньеризма к академизму театрализованных полотен Давида и неоклассицизму Энг-ра, но при этом многим обязан и визионерам-одиночкам – Блейку и, особенно, Фюсли. Приходят на ум и другие имена, близко соприкасающиеся с его живописью той или иной своей гранью: рисованные истории Клингера, паутинные рисунки обнаженных Климта, темный пафос идиосинкразии Куби-на… И, наконец, Клоссовски в своей живописи так же провокационно намекает на искусительность находящейся где-то рядом с ним и, стало быть, с нами, за неуловимой, но никогда не переступаемой гранью, порнографии, как поступает его младший брат с эротикой.
И на самый конец, все же, мой собственный взгляд: Клоссовски представляется мне одновременно зрелым – какой-то гипертрофированной зрелостью, включающей в себя и старость, но ни коим образом к старости не сводящейся; и юным – той детскостью, которая за чтением «Айвенго» еще с трудом провидит приближающееся отрочество и страстно и с опаской его предвкушает; чудовищно искушенным в путях культуры и совершенно, хронически неискушенным, вечно девственным в том, что предстоит ему самому.
Вечный отрок
Призвание может быть прервано, но его невозможно отменить. Тем более, когда сквозь него просвечивает преследующее всю жизнь видение прекрасного отрока, тем более, когда при помощи слова предлагается облечь в театральную плоть то, что, по рассказу в замечаниях к «Бафомету», в виде спектакля некогда и провиделось: «Вновь поднимается занавес…». И более двух лет по заказу одного из венских театров Клоссовски, не прекращая рисовать, компонует новую, сценическую, версию «Бафомета», мечтая о спектакле, «который будет длиться больше трех часов». Пьеса так и не будет поставлена, но на пороге своего девяностолетия Клоссовски все же опубликует ее, прервав свое почти двадцатипятилетнее писательское молчание, столь дорог ему его «Вечный отрок», каковым в душе он всегда и оставался…