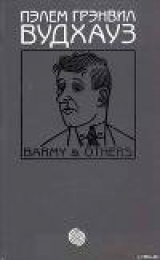
Текст книги "Том 15. Простак и другие"
Автор книги: Пэлем Вудхаус
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
ЛИРИЧЕСКИЙ ПРИСТУП
Старейший член клуба, пребывавший в мечтании, внезапно очнулся и заговорил с отработанной легкостью рассказчика, которому не нужен предмет для разговора.
– Когда Уильям Бейтс пришел ко мне (сказал он так просто, словно часами говорил об Уильяме Бейтсе), когда У.Б. пришел, я не удивился. Я достаточно долго просидел на этой террасе и прекрасно знал, зачем я нужен клубу. Каждый, у кого есть беда, идет ко мне.
– Так вот, – начал Уильям.
Уильям этот корпулентен, вроде грузовика, и обычно смотрит на жизнь спокойно и приветливо, как все тот же грузовик. Питается он пивом и отбивными, волнуется – в исключительных случаях, но сейчас буквально трепетал, если это слово подходит к корпулентному человеку, полному пива и котлет.
– Так вот, – начал Уильям. – Родни знаете?
– Вашего шурина, Родни Спелвина?
– Именно. Он спятил.
– Почему вы так думаете?
– Посудите сами. Играем мы сегодня утром, Родни с Энестейзией, я – с Джейн. Картина ясна?
– Ясна.
– Сестру свою я знаю и резонно полагал, что у них полный порядок. Помню, я сказал Джейн: «Держись, они нас обскакали». Полез я в карман за монетой, смотрю – а Родни поднимает мяч.
– Поднимает мяч?
– Да. А почему? А потому, что он, видите ли, боится обидеть маргаритку. «Нельзя их обижать, – говорит он. – Эльфы мне этого не простят». А? Каково?
Мнение свое я скрыл из деликатности, предположив, что Родни – большой шутник. Уильям, простая душа, сразу утешился; но мне его рассказ терзал и томил душу. Я не сомневался, что у Родни – лирический приступ.
Житейский опыт учит, что люди скорее терпимы; и в нашем небольшом сообществе никто не поминал Спелвину, что когда-то он был поэтом, причем из самых вредных – из тех, кто, только зазевайся, издает книжечку в нежно-сиреневом переплете, буквально набитую всякими эльфами. К счастью, он это бросил, когда увлекся гольфом и обручился с сестрой Уильяма.
Да, гольф и любовь спасли Родни. С тех мгновений, когда он купил клюшки и соединил судьбу с Энестейзией, он совершенно изменился. Писал он крутые детективы, и так успешно, что и сам он, и жена, и малолетний Тимоти не знали нужды. Технику письма он развил настолько, что успевал выполнить до завтрака норму в 2000 слов, после чего предавался любимой игре.
Здесь он тоже преуспел. Жена его, некогда выигравшая женский чемпионат, руководила им с любовной заботой, и в те дни, о которых мы повествуем. Родни готовился к местным состязаниям.
Казалось бы, сестра моя была счастлива; но тайная тревога снедала ее. Она помнила, что Родни – человек с прошлым. А что, если особенно дивный закат или какая-нибудь роза вызовут рецидив и все труды пойдут насмарку? Имение поэтому она старалась удержать его в доме, когда садится солнце, и не выращивала цветов. Так жена алкоголика, веря в его покаяние, все-таки вырезает из газеты рекламу виски.
И вот, на седьмом году брака, беда нависла над ними. Так думал я; так, несомненно, думала и она. Лицо у нее поблекло, глаза то и дело обращались к мужу. Как-то за обе неосторожный гость упомянул о летней луне, она мгновение сменила тему, но Родни успел вскинуть голову, словно боевой конь, и секунду-другую походил на человека, который вспомнил, что «луна» рифмуется с «волна».
Через неделю опасения сменились уверенностью. Зайдя к Бейтсам, я застал там Энестейзию и сразу понял, что дело плохо. Гостья лихорадочно вязала свитер для племянника, который готовился где-то к детским соревнованиям.
Энестейзия была бледна, и брат ее был бы бледен, если бы мог. Многолетний гольф при любой погоде на славу выдубил его щеки.
– Какой прекрасный вечер! – заметил я.
– Божественный, – нервно согласилась гостья.
– Такая погода сулит хороший урожай.
– Да-да!
– А где Родни?
Энестейзия мелко задрожала и упустила петлю.
– Гуляет, наверное, – проговорила она.
Уильям нахмурился еще больше. Его простая душа не терпела околичностей.
– Нет, не гуляет. Сидит дома и пишет стихи. Лучше сказать прямо, – прибавил он, когда сестра издала протестующий звук. – Все равно не скроешь, а вы, – обратился он ко мне, – нам поможете. Посуди сама, у NN седые усы! Человек с седыми усами – не нам с тобой чета. Коту ясно.
Я заверил, что тайну сохраню и постараюсь помочь.
– Значит, Родни пишет стихи… – продолжат я. – Что ж, это можно было предвидеть. Эльфы, маргаритки…
Энестейзия всхлипнула, Уильям хрюкнул.
– Эльфы! – вскричал он после этого. – Хорошо бы только эльфы! Я бы не пикнул. Эльфы, ха-ха! Знаете, где он сейчас? В детской, у Тимоти. Смотрит и вдохновляется, чтобы написать, как этот тип обнимает мишку и видит во сне ангелов. Ужас какой… Знаете, как он его называет? Тимоти-Пимоти Боббин. А?
Человек я стойкий, но все же содрогнулся.
– Тимоти-Пимоти Боббин?
– Тимоти, так его так, Пимоти Б. Ни больше, ни меньше. Собственно, чему удивляться? Вирус поэзии всегда ищет слабое место. Родни – любящий отец. С сыном он сюсюкал давно, однако – в прозе. Следовало ожидать, что, когда зараза оживет, жертвой станет несчастный мальчик.
– Какое позорное будущее он ему готовит! – сокрушался Уильям. – Через много лет, когда мой племянник будет играть в чемпионате, газеты напомнят, что это – Тимоти П. Боббин из знаменитых стихов…
– Родни говорит, что наберется на томик, – глухо вставила Энестейзия.
– Стыд, срам и позор, – сказал Уильям.
– Неужели стихи такие плохие?
– Судите сами, я взяла из ящика. Начиналось так:
У Тимоти-Пимоти новый щеночек,
Хорошенький, маленький…
Под этим стояло:
«Нет! Минуточку!
Заменить кроликом…
(Ролик? Нолик? Столик? До колик? Тьфу.)
Нет, не то. Может, канарейку?
(Рейка, шейка, шлейка, лейка, лей-ка, рей-ка.)
Канарейки поют. Песенка? (Лесенка… – м-да).
А что, если просто птичка?
У Тимоти-Пимоти новая птичка.
Мы называем ее Невеличка,
А кто она – самочка или самец,
Не знает и самый ученый мудрец.
(Нет, как-то неприлично)».
Исчерпав тему птички, автор перешел к другим сюжетам:
У Тимоти-Пимоти нежные ножки,
Наденем на них меховые сапожки.
Ах, милая мама, скорей посмотри —
Сапожки снаружи, а ножки внутри.
Уильям заметил, как я мучительно моргаю, и спросил, не от ножек ли это. Я сказал, что именно от них, и перешел к третьему творению:
Тимоти-Пимоти скок, скок, скок…
Тут Родни усомнился —
«Уже было? М.6., «поскок»?» и приписал на полях:
«А если хоп, хоп, хоп?»
Замена меня не обрадовала, и я печально вернул листок Уильяму.
– Нехорошо, – серьезно сказал я.
– Что уж тут хорошего!
– Давно это?
– Не первый день. Просто прирос к перу. Тогда я задал самый важный вопрос:
– Отражается это на гольфе?
– Да вот собирается бросить.
– Что?! А соревнования?
– Говорит, обойдутся.
Тут отвечать нечего, и я ушел, стремясь остаться один, чтобы обдумать этот печальный случай. Направляясь к дверям, я заметил, что Энестейзия закрыла лицо руками, а Уильям заботливо поглаживает ее по голове.
Несколько дней размышлял я, понимая, что Уильям переоценил силу седых усов. Да, они у меня совсем белые, но толку от них нет. Если бы на моем месте оказался бритый юнец, он бы преуспел не больше моего.
Хорошо Уильяму говорить «подумайте»; но как? Что делать, если ты столкнулся с мощью природы? Поэзия долго накапливалась в Родни, словно пар в котле, на котором кто-то сидит. Теперь, когда пар вырвался, поди его сдержи! Спорят ли с вулканом? А с водопадом? То-то и оно. Поистине, с таким же успехом можно посоветовать герою Лонгфелло, несущему в «снега и льды» знамя со странным словом Excelsior, чтобы он остановил лавину.
Одно смягчало скорбь – Родни еще не бросил гольфа. Уступив мольбам жены, он готовился к соревнованиям и уже выходил в полуфинал. Быть может, думал я, игра исцелит его?
Как-то через несколько дней я прикорнул в своем кресле, проснулся от сильного пинка и увидел Уильяма с супругой.
– Ну, как? – спросил он.
Я поморгал, туманно заметив:
– А, Джейн!
– Спать в такое время! – сурово воскликнула она. – Может, вы отдыхаете после трудов?
– Простите, – честно признался я. – Нет, я ничего не придумал.
– Ничего?
– Абсолютно.
Джейн не побледнела по той же самой причине, по какой не бледнел ее муж, однако нос сердито задвигался. Я подметил, что она искоса смотрит на мои усы.
– Да, – истолковал я этот взгляд, – да, они белы, но плана у меня нет. Идей – не больше, чем у кролика.
– Уильям сказал, чтобы вы нашли выход.
– Это невозможно.
– Это необходимо. Стейзи чахнет. Вы давно видели Тимоти?
– Вчера, в лесу. Он рвал цветы.
– Ничего подобного.
– Да я сам видел.
– И ошиблись. Он говорил по колокольчику. Звонил королеве фей, чтобы пригласить ее к своему медвежонку. Родни сидел за кустом и записывал. Вечером, естественно, – стихи.
– Часто это бывает?
– Практически все время. Работает, мерзавец, на публику! Овсянки съесть не может, если родители не реагируют. А как он молится перед сном! Это бы еще ничего, мать и не то выдержит, но они же умрут с голоду! Родни сказал, что будет писать только стихи.
– А как же контракты?
– Он говорит, ему плевать, душа – дороже. Вчера он беседовал по телефону со своим литературным агентом, и я слышала, как тот кричит.
– А есть он собирается?
– Не думаю. По его мнению, плоды и злаки недороги и целебны. Посмотрите, говорит он, на Рабиндраната Тагора. В жизни не коснулся бифштекса, а сколько сделал! И все на рисе, разве что хлебнет воды из ручья. Бедная Стейзи! Сумасшедший муж, ломака сын – и все на брюссельской капусте! Да, не повезло ей в семейной жизни…
Она прервала свою речь, чтобы фыркнуть, и тут, как часто бывает, я увидел выход.
– Джейн, – так и сказал я, – я вижу выход.
– Да?!
Лицо ее осветилось. Такой она была лишь однажды, когда на женском чемпионате ее укусила оса.
– Когда вернется ваш сын? – продолжал я.
– Завтра к вечеру.
– Пошлите его сразу ко мне. Я расскажу ему свой замысел, и он приступит к делу.
– Не понимаю.
– Вы же знаете сына. Для него пределов нет.
Говорил я с чувством. Юный Бейтс принадлежал к тем открытым, честным натурам, которые говорят то, что думают. Недавно мы с ним беседовали, и я за считанные минуты узнал о своей внешности больше, чем за всю остальную жизнь. Признаюсь, я огорчился и хотел дать ему клюшкой, но сейчас оценил эти черты.
– Посудите сами, – сказал я. – Что с ним будет, когда он узнает, что стихи – про Тимоти? Он возмутится и не скроет своих чувств. Вскоре Спелвин-младший будет корчиться от стыда при одном только слове «Боббин», а там – умолит отца, чтобы тот это бросил. Даже поэта тронет голос ребенка.
Джейн поняла, и лицо ее осветилось материнской любовью.
– И правда! – вскричала она, восторженно сжимая руки. – Как я сама не додумалась! Мой Джо – самый грубый мальчик по эту сторону океана. Приедет, сразу пошлю к вам.
Джо Бейтс был в ту пору чучелом лет девяти, внешне похожим на отца, внутренне – на гибрид бандита с мулом. Взгляд его я назвал бы сардоническим; улыбку, когда он не ел, – цинически брезгливой. Говорил он мало, но когда говорил, бил без промаха.
Времени я не терял, стихи показал сразу. Он молча прочитал их и глубоко вздохнул.
– Это что, про Тимоти?
– Да.
– Вот это?
– Это самое.
– И в книжке напечатают?
– Да, в такой ма-а-ленькой. Вместе с другими, в том же роде.
Юный Бейтс был явно потрясен. Семя упало в добрую землю.
– Наверное, – предположил я, – ты с ним поговоришь. Не бойся ранить его чувства. Тут невольно припоминается выражение «суровая доброта».
Пока я говорил, он глядел отрешенно, словно подбирал слова, и вскоре ушел, даже не заметив, что я предложил ему пирога с имбирным элем. День я завершил с приятным чувством выполненного долга, но только собрался лечь, раздался звонок.
То была Джейн Бейтс, судя по голосу – взволнованная.
– Да, натворили вы дел! – сказала она.
– Простите?
– Знаете, что случилось?
– Нет. А что?
– Уильям пишет стихи.
– Кто?!
– Уильям.
– То есть Родни.
– То есть Уильям. Джо пришел от вас как сомнамбула.
– Да, смею сказать…
– Пожалуйста, дайте закончить, я за себя не отвечаю. Итак, сомнамбула. Весь вечер он сидел тихо, никому не отвечал. Потом очнулся, и как!
– Простите?
– Я сказала: «И как». Он спросил, почему Родни пишет про Тимоти, а Уильям не пишет про него. Мы сказали: «Какая ерунда!», но тут он предъявил ультиматум: если Уильям немедленно не возьмется за дело, он выходит из состязаний. Что вы говорите?
– Ничего. Я тяжело дышу.
– Правильно. Может, задохнетесь. Конечно, он нас взял голыми руками. Я поцеловала Уильяма, пожала ему руку, дала на всякий случай мокрое полотенце и заперла в гостиной с полным кофейником кофе. Только что я спросила, как дела. Вроде бы идет туго, но он не сдается.
Тут она перешла к «моим проискам», и я поспешил распрощаться.
За долгую жизнь я заметил, что беды чем-нибудь уравновешиваются. Вот и сейчас у Бейтсов барометр опускался, а у Энестейзии Спелвин погода стала получше.
После телефонного разговора я Джейн не видел, осторожности ради, а Уильяма встретил в клубе раза два. Выглядел он плохо и рассеянно почесывал за ухом сырной палочкой. Как-то он спросил официанта, не знает ли он каких-нибудь рифм, а когда тот сказал: «К какому слову?», ответил: «К любому».
Энестейзия, которую я встретил по дороге на поле, где собирался смотреть игру, была весела. Родни вышел в финал, и она уповала на лучшее. Противником его был Джек Стокер, а тот, по слухам, заболел сенной лихорадкой.
– Ну, это дело верное, – говорила она. – Да, Джек принимает «Апчхи», но что такое «Апчхи»?!
– Паллиатив, не больше.
– Говорят, вчера он так чихал, что разбилась большая ваза.
– Это хорошо.
– Знаете, – сказала она, и глаза ее засияли, – сегодня что-то изменится!
– Победит лучшее, высшее «Я»?
– Вот именно. Если он выиграет, он станет другим человеком.
Я ее понимал. Человеку, получившему впервые приз, некогда писать стихи, он должен совершенствовать мастерство. Однажды гольф его спас; что ж, спасет снова.
– Видели первые игры? – продолжала Энестейзия. – Сперва он играл отрешенно, словно оказывает честь. Что-то записывал на листочках. И вдруг, посередине полуфинала, резко переменился. Губы у него сжались, взгляд сосредоточился. У десятой лунки на его мяч села бабочка. Он зарычал и размахнулся, она еле спаслась. Неплохо, да?
– Замечательно. Надеюсь, таким он и остался?
– Да. Бабочка вернулась под самый конец, примерилась, взглянула на него – и исчезла. Я так радовалась!
Похлопав ее по плечу, я направился вместе с ней туда, где Родни бросал монетку. Начать матч выпало Стокеру.
Кстати о Стокере. В юности борец-любитель, он в свои тридцать пять был облеплен массивными мышцами и на поле полагался не столько на технику, сколько на целеустремленность и недюжинную силу, которые в свое время позволяли ему припечатывать к мату любого противника. В гольфе его справедливо считали непредсказуемым. Как-то на моих глазах он с двух ударов добрался до пятнадцатой лунки, а в другой раз долго катал мяч вокруг второй. Словом, никогда не знаешь, чего от него ждать. Знаешь только, что, оказавшись на поле, он целиком вложится в игру.
Сегодня Стокер сразу вошел в историю, забив мяч в лунку с первого удара. Ну и пускай не в ту лунку – в шестнадцатую, которая лежала ярдов на триста вперед – но ведь забил! Зрители взволнованно зашептались: если так пойдет дальше, какие же высоты он покорит?
Но гольф – переменчивая игра. Судя по величию первого удара, казалось, что, начав свой путь ко второй лунке, Джо Стокер укокошит мячом безымянную пожилую даму, ухаживающую за цветами в саду на четверть мили к юго-западу от поля. Я даже крикнул «Поберегись!». Мяч же, чем устремиться в заоблачную высь, сделал классический крюк, приземлился недалеко от флажка и после двух легких ударов очутился прямо в лунке. Поскольку Родни утопил свой мяч в озере, на третью лунку они вышли, имея в запасе по одному очку.
Три следующие лунки они прошли вровень. Шестую выиграл Родни, седьмую Стокер. На восьмой я подумал было, что Родни вырвется вперед, поскольку мяч Стокера настолько застрял в размашистом кусте, что извлечь его оттуда удалось бы только щипцами. Но именно в такие минуты лишний раз убеждаешься, на что способен Джо Стокер. Пусть в особенно хитрых секретах игры он уступит пальму первенства более опытным игрокам, но там, где вопрос идет о силе воли и мускулов, ему нет равных. Прикинув задачу, он взялся за ниблик, а Джозеф Стокер, вооруженный нибликом, подобен королю Артуру, обнажившему волшебный меч Эскалибур. Секундой позже мяч, куст, свитое в прошлом году гнездо и устроившаяся в гнезде семейка гусениц со свистом приземлились на лужайку, и Родни опять отстал.
Они разыграли девятую лунку вничью, Родни открывалась мрачная перспектива вступить во вторую половину игры догоняющим, но тут его благородный соперник величественным жестом предложил сперва пропустить по стаканчику, и мы направились в бар, где затем разбились на новые пары.
Все эти девять тяжелых лунок, тесно связанных с захватывающими поворотами судьбы, я пристально следил за Родни и, признаться, остался доволен. Энестейзия как в воду глядела: игра захватила вероотступника с прежней силой. То был не поэт, готовый записывать в блокнот пришедшие с каждым ударом мысли, а, скорее, шотландский профи в финале Открытого чемпионата. Его лай на помощника, который щелкал орешки, когда Родни примерялся к мячу, прозвучал музыкой для моих ушей. Словом, упорная борьба возродила в Родни наилучшие черты.
Понравилось мне, что Родни рьяно рвался в бой. Не без резкости спросив Стокера, собирается ли он провести остаток дня в баре, он так взглянул на него, что Стокер быстро допил пиво, выпил свое «Апчхи» и пошел на место.
Когда мы шли на свои места, откуда-то взялся Тимоти, словно крохотный мальчик из хора. Я сразу понял, что имела в виду Джейн – на публику он работал. Он просто лучился невинной занятностью.
– Пап-па! – позвал он.
Родни злобно оглянулся, словно мыслитель, которого оторвали от размышлений о вышнем.
– Пап-па, я подружился с та-ако-ой букашкой!
Несколько дней назад Родни схватил бы листок, сверкая глазами, но сейчас он был рассеян. Он был отрешен, и, глядя, как он размахивает нибликом, я невольно припомнил тигра, бьющего хвостом.
– М-да, – сказал он.
– Она зелененькая. Я зову ее миссис Букки.
Эти идиотские слова не вызвали энтузиазма. Родни кивнул и бросил:
– Резонно, резонно. Беги, поговори с ней.
– О че-ом?
– Э… ну… про букашек.
– Как ты думаешь, у нее есть детки?
– Очень может быть. Пока.
– А королева фей ездит на них верхом?
– Не исключено, не исключено. Вот ты и спроси. Если, – прибавил он своему кэдди, – услышу еще-один-смешок, дам две минуты на сборы. Что ж, Стокер, начали, начали, начали.
Взглянув на Стокера мрачно, я догадался, о чем он думает. Он думал о том, где эта пресловутая лихорадка. Я его не винил. Финалист, играющий против субъекта, который прославился чиханием, вправе ждать, что он чихнет, а Стокер не чихал. По-видимому, изобретатель «Апчхи» знал свое дело. Чудотворное снадобье исцелило страдальца. Тот принимал его ложками, и оно отвечало благодарностью. Слышу я хорошо, но до меня не донеслось ни единого чиха. Играл он строго, ровно, и Спелвину приходилось туго. Наконец они дошли до 18-й лунки.
Располагалась она на склоне, особой сноровки не требовала, шансы были равны – но гольф непредсказуем. Замахнувшись клюшкой, Стокер завязался узлом, но выпрямился и собирал силу для удара, когда на поле рысцой вбежал Тимоти с букетиком в руке.
– Понюхайте мои цветочки, мистер Стокер, – прощебетал он и широким жестом поднес их к носу упомянутого игрока.
Тот хрипло вскрикнул и отскочил, словно от змеи.
– Не мешай дяде, – сказал Родни. – Беги, я скоро приду. Тимоти ускакал («скок-скок» или «хоп-хоп»), Стокер снова замахнулся. Было видно, что желание чихнуть накатывает на него, и если он хотел обогнать прибой, он должен был ударить мгновенно. Но он не успел. Взрыв синхронно совпал с ударом по мячу.
Такого удара я в жизни своей не видел. Всю душу, всю ее глубину вложил Стокер в чихание, и мяч, словно пушечное ядро, взлетел по склону, а там – исчез.
Родни вдумчиво замахнулся, потрясенный чудом. Энестейзия учила его хорошо, ударил он лихо. Даже если мы предположим, что Стокер скончался, у бывшего поэта была удачная позиция – четыре против пяти.
Только добежав до места, поняли мы, что случилось. Мяч Стокера исчез, словно улетел в небо. Однако по тщательном рассмотрении оказалось, что он – в лунке.
– А! – сказал Стокер. – Я уж решил, что промазал. Родни был все-таки силен духом. Надеяться он мог только на 19-ю лунку, но он не дрогнул. Мяч его находился футах в четырех от нее – удар нелегкий; и он примерялся с той спокойной стойкостью, которую приятно видеть.
Медленно отвел он клюшку, стал опускать ее, но вдруг тишину прорезал детский голосок:
– Пап-па!
Родни подскочил, словно его ударили по заду раскаленной кочергой, а мяч пролетел в нескольких ярдах от лунки. Матч выиграл Стокер.
Родни выпрямился. Лицо его было бледным и скорбным.
– Пап-па, – услышал он, – а маргаритки – это звездочки? Их ангелы сорвали?
Родни глубоко, судорожно вздохнул. Я разглядел его глаза; они сверкали угрозой. Быстро и мягко, словно леопард на охоте, он пошел к сыну. Через секунду тишина огласилась звонкими шлепками.
Я взглянул на Энестейзию. Печаль на ее лице смешалась с восторгом. Она страдала как мать, ликовала как жена. Родни стряхнул чары.
Вечером юный Бейтс сказал отцу:
– Как там стихи?
Уильям метнул затравленный взгляд, и Джейн взяла дело в свои руки.
– Никаких стихов не будет, – сказала она. – Папа тебе не поэт какой-нибудь. И вообще, изволь тренироваться с семи утра.
– А дядя Родни пишет стихи про Тимоти.
– Ничего подобного. Писал и перестал.
– Так ведь…
Джейн пристально и спокойно посмотрела на сына.
– Хочешь в глаз, моя душечка? Нет? Очень хорошо.








