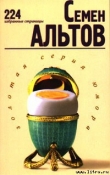Текст книги "Пеленг 307"
Автор книги: Павел Халов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Стульев на веранде не было. Залитая светом сильной лампочки, с некрашеными досками стен и пола, с верстаком в правом углу, она походила на мастерскую. И только постель, разостланная на полу у окна, делала ее обитаемой.
Дверь в комнату была открыта. Виднелся краешек широкой кровати: там спали дети. Из-под одеяла выглядывало несколько пар детских ног.
И оттого, что я увидел это, оттого, что из глубины комнат, погруженных в сумрак, веяло сонным человечьим теплом, точно таким же, как у нас дома, как в каюте на «Коршуне», когда возвращаешься туда после вахты; оттого, что сам Федор в застиранной растянувшейся майке, открывавшей сильные, но беззащитно белые плечи и спину, сосредоточенно склонился над столом, а редкие жесткие волосы на его затылке торчали смешными вихрами, я почувствовал себя так, будто передо мной приоткрылась тайная чужая душа. Приоткрылась и перестала быть чужой.
Я знал, что теперь Федор, так же как Феликс или Меньшенький, для меня не просто привычное имя. Показалось, будто давно-давно и навсегда мне понятны эти умные, осторожные, не сразу доверяющие глаза, неторопливые руки и сутулая, затаившая стремительность фигура.
Мне захотелось спросить Федора о чем-нибудь обыденном, совершенно не относящемся к нашему разговору. Но я только усмехнулся и тоже склонился над столом.
Вскоре вся трасса лежала перед нами на бумаге.
– Ну что ж, – сказал Федор, кладя карандаш. – Неплохо придумано. Неплохо... Можно бросить еще пару ЗИЛов – тогда успеем в самый раз.
Он сел на стол, пытливо поглядел на Алешку.
– Чего молчишь, парень?
– Я сказал, Федор Кириллыч, – тихо ответил тот.
– Давно так ездишь?
– Больше года...
– Вот как... Я думал, только с весны. Вижу – по девять, а то по десять рейсов делаешь. А кроме тебя, никто... Понять не мог. – Федор принижал голос, чтобы не беспокоить своих.
– Федор Кириллыч, я думал... – начал было Алешка.
– Эх, Лешка-Алешка, – вздохнул Федор, – До чего ты зеленый! Пацан – пацан и есть. Кому это нужно, чтобы ты один первый был? Пошарь-ка во лбу – тебе в первую голову не нужно... Ну, ладно, ребята. Спать будем. Утром завтра растолкуем нашим. А вы с Семеном покажете на трассе.
5
Каждое утро я встаю в семь часов утра. Будильник, с вечера поставленный поближе к изголовью, но так, чтобы я не смог дотянуться до него рукой, взрывается ровно в семь. Я сажусь на смятой постели и опускаю босые ноги на прохладные половицы. Потом догадываюсь, что пора вставать. Я валко иду к умывальнику. Он во дворе. И. вода в нем холодная и светлая. Мать подает мне мохнатое полотенце...
...Отец уже завтракает. Я сажусь напротив. Мы молча едим толченую картошку и первые, едва побуревшие помидоры и запиваем все это молоком из больших белых кружек. Молча встаем. Отец протирает свои очки, надевает кепку, я снимаю с гвоздя в летней кухне пиджак, еще хранящий запах автомашины. Кидаю его на плечо. Карманы у пиджака оттопырились – мама положила мне еду. Тропинка узка для двоих. В калитке я пропускаю отца вперед. Его сутулая спина покачивается в трех шагах передо мной. И я думаю, что отцу уже за пятьдесят, и шея у него совсем по-стариковски изрезана глубокими, черными от металла и масла трещинами, хотя она еще крепко держит его голову и по-прежнему сильна, а мочки ушей поросли жестким серым пухом.
Мы идем, и каждый из нас уже принадлежит своему предстоящему дню, который начался и солнце которого ощутимо ложится на плечи.
За проходной мы расходимся в разные стороны. Отцу направо, в механическую. Там уже шипит автоген и пробует голос токарный станок. Мне прямо, по разъезженной дороге, которую за два года основательно заляпали бетоном, к стоянке автопарка. На опалубке бункеров вдали копаются фигурки. Оттуда долетают веселые, не утомленные еще жарой и пылью голоса. И один голос кажется мне таким знакомым, что сердце тревожно вздрагивает.
Отец обстоятельно шагает к механической, но я медлю, потому что через несколько шагов он остановится и скажет: «Увеличь зазор в свечах. Будет лучше тянуть. Двигатель поношенный. Если увеличишь разрыв, не так станет забрызгивать маслом...» Может быть, он скажет что-нибудь другое... Ну, например, посоветует долить аккумуляторные банки, потому что сейчас жарко и электролит быстро испаряется. А крепкий раствор разъедает свинец. Но обязательно он что-нибудь посоветует. И каждый раз я односложно отвечаю:
– Хорошо, батя...
Один за другим, набирая скорость, мимо меня идут на трассу самосвалы. И мне становится необыкновенно удобно стоять на прибитой баллонами обочине, когда шофера, которых я не успеваю попристальнее разглядеть, здороваются со мной из кабин: один снимет на мгновение руку с баранки, чтобы махнуть ею, и приоткроет в улыбке губы; другой молча тряхнет головой и, оторвав взгляд от дороги, поведет глазами в мою сторону; третий вместо приветствия чуть прижимает пальцем кнопку сигнала.
Я ускоряю шаги, увидев издали свой облупленный ГАЗ-93.
Мой самосвал бегает последний сезон. Он честно выполнил все, что от него требовалось: бункера почти готовы, и Валя с девчатами льет последние кубометры бетона.
Осенью его спишут. Он годы будет стоять в дальнем углу двора, волнуя только поселковых мальчишек, и зарастать диким конопляником, пока Федор не решится отбуксировать его в утиль.
Грустно и немного жаль машину. Я еще держу .руки на потрескавшейся баранке, еще злюсь, что сквозь желтое ветровое стекло плохо видно дорогу, но чувствую, что и для меня мой «газик» с каждым новым рейсом уходит в прошлое.
Мне показалось, что, выписывая мне путевку, Федор особенно – не так, как всегда, – посмотрел на меня.
– Что с тобой, племяш? Случилось что-нибудь? – спросил он.
– Нет, а что?
– Вид у тебя какой-то странный. Как в бане вымылся или заново родился....
– День сегодня горячий, Федор!
– Держи. – Он подал мне путевку.
6
Я поехал. Низкий утренний ветер отжимал пыль вправо. Я высунулся из кабины и ловил воздух ртом. Он еще не успел нагреться, и его холодок пронизывал меня.
Мой самосвал шел четвертым. У завода остановились. Алешка спрыгнул на дорогу и побежал вдоль колонны, останавливаясь возле каждой машины и что-то объясняя водителям.
И вдруг сердце мое сжалось от радостного волнения: слева, совсем недалеко, я увидел сопки. Если пойти туда наискосок через степь, обязательно выйдешь к морю. Я подумал о нем сейчас так, будто никогда еще по-настоящему не видел его.
– Семен Василич! – громко позвал Алешка, заглядывая в мою кабину. – Все запомнили? Первая – березка. Следите за мной. Восемь рейсов обещаю!
– Я помню, – сказал я. – Первая – березка. И спуск – до камня. Там подъем начинается. Потом – мост...
– Правильно!
Бетономешалки завода уже работали. Ворота дрогнули и распахнулись.
Я включил передачу и медленно тронулся в путь. Алешка шел рядом, положив руку на дверку самосвала.
Потом он отпустил ее и побежал вперед, к голове колонны, обгоняя подтягивающиеся грузовики.
Автомобиль, когда с ним бываешь один на один, делается живым. Он словно понимает твое состояние. То он тянет так, что удержу нет и мотор отзывается на малейшее движение педали газа, то вдруг мощность куда-то проваливается – газуешь изо всех сил, поршни яростно мотаются, но кажется, что шоссе стало вязким и приклеивается к баллонам; то он удовлетворенно журчит свою ровную, бесконечную песенку, и запахи зреющей степи хлещут в радиатор и ветровое стекло, вытесняя из кабины все остальное.
Степь разворачивалась шире и шире. Я глядел прямо перед собой на летящее навстречу шоссе и пытался понять, откуда приходит к человеку это прозрение, когда он вдруг чувствует, как надежна под ним прогретая солнцем земля, когда в бесконечном степном мареве он различает каждую травинку, а в небе – голубые прожилки облаков, когда всем своим существом понимает, что ветер, летящий утром с востока, пахнет морем, и -когда он вдруг начинает видеть не только ту дорогу, что осталась за плечами, но и ту, что еще лежит впереди.
Может быть, это и называется зрелостью?
Больше я не гонялся за Алешкиным самосвалом, я вообще больше никого не обгонял. Словно привязанный, мой ГАЗ-93 рейс за рейсом шел четвертым в колонне.
Сначала мы выбивались из ритма. Потом ребята освоились с трассой. И по секундам, по минуте мы стали отвоевывать время. Выгадывали на погрузке, выжимали из машин все. Долго не давалась развилка. Получалось так, что мы постоянно встречались тут с МАЗами: они шли по прямой, а нам перед поворотом приходилось сбавлять скорость, и они успевали вырваться вперед. Но на третий день МАЗы уступили нам дорогу. Алешкин ЗИЛ, страшно накренившись, с воем пролетел перед самым радиатором головного МАЗа. Их колонна вынуждена была притормозить. Больше мы не пропускали их вперед.
На четвертый день вечером Федор сказал:
– Все. Теперь успеем.
7
Телеграмму принесли поздно. Правда, я еще не ложился спать, но уже разделся. Я постелил себе в гамаке. Мама сказала, что ночью будет дождь. Но я все равно собрался спать на улице.
– Пусть будет дождь. – ответил я. – Переберусь в сени или на чердак.
В это время принесли телеграмму. Я расписался и распечатал ее. Мама взяла со стола лампу и посветила, пока я читал.
«Иду Бристоля тчк Нужен механик тчк Жду Петропавловске тчк Феликс».
– Мама, – сказал я, подавляя дрожь, – завтра я уезжаю.
– Куда, Сеня? – тихо спросила она, хотя уже все поняла.
– Мой отпуск кончился, мама. Вечером есть поезд?
– Да, сынок. Благовещенский, он бывает в восьмом часу.
Ее губы, собравшиеся до этого строгими оборочками, дрогнули. Она заплакала и опустила лампу. Я обнял ее и сказал:
– Маманя, вы не беспокойтесь. Я скоро приеду. Скоро. Самое большее через три года. Или вы приедете ко мне в гости.
Я начал одеваться. Проснулся отец. Он вышел во двор. Я протянул ему телеграмму. Он взял у меня лампу, поставил ее на стол и, далеко отнеся руку с телеграммой, стал читать. Затем перевернул ее и поглядел, нет ли чего на обратной стороне.
– Так, – сказал он и пошел на кухню, шелестя задниками стоптанных тапочек. В печке еще тлели угли. Отец свернул козью ножку, разворошил уголь, закурил и надсадно закашлялся...
– Так, – повторил он. – Значит, уезжаешь...
– Надо, батя...
– Надо, – подтвердил он и вдруг добавил: – А сможешь?
– Смогу, батя, – тихо сказал я.
– Должен. Иначе нельзя.
Я оделся и сказал:
– Схожу в одно место... Тут, неподалеку.
– Двенадцатый час поди. Не поздно? Человека беспокоить. Мальчишку взбулгачишь...
– Завтра будет некогда, батя... Я схожу.
Я шел очень быстро. Чего мне было стесняться? Сейчас я все скажу ей, и пусть она решает. Я шел очень быстро. В ее окне брезжил свет, и я боялся, что, когда подойду, он погаснет. Не скрываясь, я поднялся по лестнице и громко постучал. Сначала за дверью было тихо. Так тихо, что мне стало не по себе. Но потом раздались знакомые легкие шаги. С той стороны ключ искал замочную скважину. Я подумал, что, если сейчас спросят, кто тут, я не отвечу и, наверно, уйду. Но замок плавно щелкнул, дверь открылась, и на пороге, придерживая пальцами возле горла халатик, возникла Валя.
Самыми трудными мне казались первые слова, которые я должен был сказать. Но Валя, отбрасывая со лба веселую прядку, тряхнула головой и тихо засмеялась.
– Я так и знала, что это ты... Проходи... – сказала она и как маленького взяла меня за руку. – Хочешь чаю?
– Хочу, – сказал я.
– Вот купила настольную лампу и решила обновить – читаю...
Перед диваном на столе стояла лампа «грибок». Металлический абажурчик был повернут так, что свет падал на диван и на дверь, в которую мы вошли. Все остальное оставалось в темноте. На диване, поверх старого зеленого одеяла, – развернутая книжка. Я взял ее и посмотрел заголовок. Я видел буквы, но смысл их до меня не доходил. Я покачал книгу в руке, будто взвешивая, и сказал:
– Валя, завтра я уезжаю...
Ее пальцы отпустили халатик. Домашняя улыбка, с которой она встретила меня и с которой вела меня по коридору, медленно переходила в беспомощную, смуглое лицо начало наливаться бледностью, а в глазах, сделавшихся сразу темными и глубокими, рождалось недоумение и боль.
– Будешь пить чай? – спросила она тихо.
– Буду, – ответил я.
– Сейчас поставлю... Он уже кипел. Надо только подогреть...
Она ушла. Я сел на диван. Но тут же встал и пошел за ней.
Свет из коридора через открытую дверь проникал в кухню и рассеивался по ней. Валя стояла перед окном. Я встал у нее за спиной. На улице появилась луна. Она была где-то высоко. Окна домов, что маячили напротив, влажно блестели, серебрились верхушки тополей, редкие звезды отступили к самому горизонту. Они тоже казались влажными...
– Как же нам быть, Валя? – шепотом спросил я, слегка наклоняясь к ней.
Она притихла и не сразу спросила:
– Почему так неожиданно?
– Радиограмма от Феликса. Через трое суток я должен вернуться...
– Это очень обязательно?
– Да, – ответил я.
Она сказала:
– Не знаю...
– Что, Валя? – не понял я.
– Я не знаю, как нам быть...
– Поедем вместе. Павлик, ты и я. У Феликса две комнаты. Одну он отдаст нам, я уверен...
Она отрицательно покачала головой и с теплой грустью сказала:
– Чудак ты. А что я там буду делать?
– Строить, – сказал я. – Петропавловск строится. И порт, и дома, и вообще...
– Я никогда не строила ни домов, ни порта...
– Научишься...
Она откинула голову и теплым затылком коснулась меня. Я взял ее за плечи и осторожно тронул губами ее волосы.
Мы стояли, прислушиваясь друг к другу, может быть, минуту, может быть, две. Я заглянул в ее лицо. Она повернулась. В ее губах еще таилось что-то горькое, как у ребенка, а глаза прятали взрослую человеческую боль.
– Нельзя мне с тобой ехать сейчас, Сеня, – прошептала она.
Я не ответил. Тогда она потрогала пальцами воротник моей рубашки и с грустным оживлением сказала:
– Каждый день нам присылают сводку погоды. Сегодня к ночи обещали дождик... Посмотри, какая ночь, – дождя не будет... А я давно хотела тебе показать это...
– Ночь без дождика? – пошутил я невесело.
– Да, и ночь и другое... И ты сразу все поймешь. Пойдем?
– Пойдем... Павлик останется один?
– Он спит крепко. Но я должна переодеться...
– Переодевайся. – Я по-прежнему не выпускал ее. Она была совсем близко, так близко, что дыхание ее касалось меня, и не торопилась уходить.
– Ты подожди меня тут. Я не хочу тревожить Павлика и переоденусь в большой комнате...
И опять она не двинулась с места.
– Вдруг ты сейчас уйдешь на минутку, а вернешься через сто лет? – сказал я.
– Нет, – вздохнула она, – я вернусь быстро. – Она хотела еще что-то сказать, но передумала и, мягко улыбнувшись, повела плечами, высвобождаясь.
Она вышла ко мне в белой кофточке, в парусиновых брюках, в носках. Я столько раз видел ее в рабочей одежде, а сейчас не узнал. Передо мной стоял загорелый грустный мальчик, очень похожий на Павлика. Наверно, когда Павлик вырастет и пойдет работать, он будет таким же.
– Вот, я почти готова, – прошептала она и, осторожно ступая, пошла к входной двери. В груде разной обуви у порога Валя нашла свои сапоги, натянула их, негромко потопала, пробуя, как они сидят, потом сняла с гвоздя парусиновую куртку с навсегда засученными рукавами. Так одеваются только мальчишки – сразу обе руки в рукава... Она повернулась ко мне, и опять я увидел в ней новое, неизвестное еще минуту назад. И я подумал, что пройдет много лет, и каждый раз, когда она вот так неожиданно, по-мальчишески порывисто и по-женски завершенно обернется, я буду находить в ней новое и ревновать ее к ней самой, к тому, что она до поры до времени таит в себе.
Валя выключила плитку, мы вышли на улицу. Было тихо, и ночь была почти необитаема. Лишь далеко на станции, словно яркие звезды, светились два высоких огня да в небе над рабочей башней рдела красная лампочка, будто капелька на крыле запоздавшего самолета.
Валя взяла меня под руку, но тут же отпустила.
– Не умею ходить под ручку. Пойдем так.
Мы шли знакомой дорогой – по тропинке через пустырь, мимо недостроенного Дома культуры, вдоль высокого забора мелькомбината. Валя взбежала на насыпь подъездных путей и остановилась, поджидая меня.
– Куда мы идем? – спросил я.
– На стройку. Ты никогда не видел ее ночью...
– Не видел... Нас могут не пустить.
– Чепуха! Я скажу, что забыла в прорабской наряды...
– Хорошо, но мы вдвоем!
– Вот черт! – засмеялась она. – Этот засоня, конечно, подумает какую-нибудь гадость... А, пусть думает!
Вахтер ни слова не сказал нам. Просто он смерил нас взглядом с головы до пят и, понимающе усмехнувшись, открыл дверь. Я двинулся мимо него стиснув зубы.
Отойдя от проходной подальше, мы остановились, глянули друг на друга и засмеялись. И смех еще долго жил в гулкой коробке рабочей башни.
Мы вошли в башню. Узенькая железная лестница; похожая на корабельный трап, маршами уходила вверх. Через каждые два пролета горели дежурные лампочки. Их света было мало, чтоб осветить всю эту громадину. Здесь не хотелось разговаривать, потому что даже малейший звук разрастался и медленно поднимался кверху.
Только однажды Валя, идущая впереди, из темноты сказала мне:
– Осторожно, Сеня, здесь еще нет перил. – И башня несколько раз каменным голосом повторила: перил-рил-рил...
Валя первая выбралась на воздух через квадратное отверстие в стеке. Теперь выше нас была только мачта с красным огнем...
– Видишь?
Внизу, насколько хватало глаз, расстилалась степь. Она обрушивалась на Горск со всех сторон, вклинивалась в него заливами и ручейками дорог и тропинок, просачиваясь между строениями. Дома поселка, чуть-чуть оторвавшегося от остального города, были похожи на прибрежные камни.
Прибой степи вскипал над ними серебристой пеной тополиных крон. По темному небу тянулись белые холодные облака. Иногда они закрывали луну, и на степь падали их летучие тени. На краю, почти у самого горизонта, беззвучно катился поезд – игольчатый лучик паровозной фары ощупывал впереди себя дорогу.
– Видишь? – еще тише сказала Валя, прижимаясь щекой к моему плечу.
Я стоял, боясь шелохнуться и спугнуть Валю, и думал о том, что степь, в сущности, очень похожа на море, только в море, если на него посмотреть с высоты, больше огней – суда бредут в разные стороны; в тихую погоду море так же шуршит, только шорох его громче и плотнее и в нем иногда возникают густые нотки металла. Думал о том, что «Коршун» сейчас постукивает дизелем где-то в Кронодском заливе, и мне даже казалось, будто я слышу этот стук: по степи, приближаясь к Горску, катился поезд...
Тепло от Валиной щеки, и ее дыхание, и степь далеко внизу, и море, к которому я завтра поеду, странно сливались, и сквозь толстые подошвы сапог я чувствовал, как напряженно на одной ноте гудит под нами бетонная башня.
Я подумал, что Феликс вовремя дал радиограмму, несколько дней назад она была бы преждевременной: я не сумел бы так ясно понять, как нужно мне снова на «Коршун». Человеку что-то в жизни нужно делать до конца.
– У тебя такое сердце, Сеня, что оно должно вместить и море, и степь, и Павлика, и меня... – сказала Валя. Она улыбнулась и добавила: – Рожью пахнет...
Я резко повернулся к ней, взял ее милое усталое лицо в ладони. Тугой комок подкатывал к горлу. Я сказал:
– Я не знал этого раньше. Теперь я знаю. Завтра я уеду. Но я напишу тебе. И вы приедете с Павликом. Обязательно приедете. Слышишь?
Она согласно прикрыла глаза и тотчас открыла их...
Потом пала роса. И мы вернулись домой мокрые. Я проводил ее до двери и хотел уйти.
– А как же чай? – спросила она весело. – Ты же хотел чаю!
– Ну да, его только надо подогреть, он уже кипел... – пошутил я. – Но тебе через три часа на работу...
– Я отдохнула вечером. Не уходи.
Мы вошли в комнату. Валя шепотом призналась:
– Ты знаешь, кажется, я вправду устала. Я полежу на диване, но ты не уходи.
– Хорошо.
Потом она легла на диван и поджала ноги, а я сел рядом.
– Скоро проснется Павлик...
– Нет, еще не скоро.
– Он настоящий парень, – сказал я и добавил: – Ты прости, я хотел спросить у тебя, где его отец?
– Он никогда не жил с нами. Я была студенткой, он – тоже, курсом старше... Потом он уехал...
– Ты любила его?
Валя долго молчала.
– Да... Я его понимала... Он улыбнется – я знаю, что он думает, он посмотрит – я знаю, что он собирается сказать... Знаешь, как понимала? До последней ниточки...
– А меня?
– Тебя? – Она приподнялась на локте, заглянула мне в глаза. Потом провела пальцами по моим бровям, скользнула по носу и задержалась на губах. И мои губы невольно шевельнулись под ее шершавыми теплыми пальцами. – Тебя? Тебя я тоже понимаю, – серьезно сказала она. И вдруг засмеялась. – Ты большой, тяжелый и глупый... И еще ты пахнешь автомобилем.
– Я глупый?
– Глупый. – Она, все еще смеясь, положила голову ко мне на грудь. – Глупый и пахнешь автомобилем... Я ведь не девочка. – Она снова приподнялась и склонилась надо мной. Ее волосы касались моего лица. – Но я ни от чего не отказываюсь: ни от ошибок, ни от радости. Мне нечего стыдиться. У меня светло на душе. А ты... Ты пришел... Еще в тот вечер, когда ты впервые стучал на лестнице своими сапожищами, а после якорь прятал, ты мне стал родным. Я тогда так и не заполнила нарядов... Выключила свет, ходила по комнате и все не могла сообразить, что же произошло.
– Что же произошло?
– А ты не знаешь?
– Нет.
– Я нашла тебя... Потом Павлик болел. Знаешь, Сеня, с тобой я девочка... и мама... мама-девочка... Смешно?
– Нет...
– Ты веришь мне?
– Ты для меня всегда будешь девочкой и мамой... Только ты не плачь...
– Я не плачу. С чего ты взял, что я плачу?
– У тебя дрожит вот тут. – Я губами коснулся краешка ее носа, там, где начиналась горьковатая морщинка.
– Мне кажется, что все, что случалось у меня в жизни, – это для того, чтобы я могла тебя встретить.
– Да, – отозвался я. И подумал, что мой путь к ним – к ней и Павлику – был тоже долгим и, пожалуй, не менее трудным. Но ни от одной минуты в жизни я бы не отказался.
Павлик забормотал во сне и завозился.
– Наверно, раскрылся. Я пойду укрою его, – прошептала Валя и, легко спрыгнув с дивана, подобрав полы халатика, на цыпочках пошла в соседнюю комнату.
Закрыв глаза, я слышал, как шелестят по полу ее босые ноги, представлял себе, как она сейчас нагибается над сыном...
Я встретил ее посредине комнаты. И не отпустил...
В комнате было прохладно. Рассветный ветер шевелил кисти абажура и белые занавески на окнах.
8
Это был паренек лет двадцати, крепкий, аккуратный, точно орешек, и черный, как жук. Он то и дело сгонял за спину складки гимнастерки. Свежо зеленели у него на плечах пятна там, где были погоны. Он зыркал на меня сердито разрезанными карими глазами.
– Сцепление подызносилось... С большим газом с места не бери – дергает, – объяснял я.
– Хорошо.
– Масло держи чуть-чуть пониже уровня, чтобы не забрызгивало свечи. А закончат бункера – надо сменить кольца. До тех пор двигатель еще помолотит.
– Ясно... В общем, давайте ключи, – нетерпеливо сказал новенький. – Разберусь.
– Трассу с тобой завгар пройдет. Но ты приглядись к самосвалу «79-40». У него борт помят... Издали заметно.
– Да вы не волнуйтесь, товарищ водитель, порядок будет полный. Не первый раз за баранку сажусь...
– Служил?
– Служил. К уборочной демобилизовали... Давайте ключи.
– Подожди, – сказал я.
Два белых ключика на массивной желтой цепочке я все время держал зажатыми в кулаке и вдруг почувствовал их теплоту и тяжесть. Я еще раз обошел самосвал кругом. Постоял, припоминая, все ли сказал. Новенький искоса следил за мной и переминался с ноги на ногу.
– Вот и все. Держи! – Я кинул ему ключи. Он поймал их на лету. – Вечером уезжаю...
– Далеко? – равнодушно поинтересовался парень.
Он слишком явно ждал, когда медлительный шофер уйдет и оставит его наедине с машиной, потому что он тоже начинал новую, еще не испытанную дорогу.
– Далеко, – усмехнулся я. – На Камчатку.
– Счастливо...
– Спасибо, браток...
Отойдя, я оглянулся. Новый водитель уже сидел в кабине. Я крикнул:
– За мостом трудный спуск. И рытвина! Береги рессоры.
Новенький высунул из окна ершистую голову:
– Ладно! Запомню!
К машине подошел Федор. Он стремительно бросил на сиденье свое грузное тело. Хлопнула дверца. И самосвал двинулся. Набирая скорость, он шел все ровнее и ровнее. Потом он исчез в распахнутых воротах, а над дорогой повис узкий шлейф пыли.
9
Поезд отправлялся в двадцать тридцать по местному. Я простился с отцом и матерью у калитки.
– На автобусе доберусь. Или проголосую. Подкинут. Не ходите дальше вы, батя, и вы, маманя.
Отец стиснул мне плечи черствыми ладонями.
– Трудно будет – не забывай, что у тебя есть дом, Семен.
– Я помню, батя. Прощайте... Тут Павлик будет приходить. Так пусть в «москвиче» ковыряется.
На мгновенье мама приникла ко мне, но не заплакала – только дрожала и никак не могла выговорить прощальных и, как ей казалось, самых необходимых в дорогу слов.
Я перекинул плащ через плечо, обвел взглядом двор – с дымящейся летней кухней, с тополями, с так и не достроенным сарайчиком.
«Москвич» стоял рядом с сараем, почти вплотную к нему. Стекла покрылись слоем нетронутой пыли, заметной уже издали. Люди идут по жизни, оставляя за собой одежду, из которой выросли; игрушки, которые сломали, пытаясь узнать, что там внутри; вещи, обветшалые и ненужные, словно рубахи, ставшие тесными в плечах...
– Вернусь – доделаю сарай, – сказал я, и мать уткнулась лицом в передник.
Шагалось широко. На шоссе возле моста меня ждали. И, выйдя за поселок, на тропинку, я увидел две маленькие фигурки, медленно бредущие по дороге.
Мы встретились метрах в тридцати от моста. Это был обыкновенный дощатый мостик с деревянными перилами. Безымянный степной ручей мыл внизу желтые камешки и юрко терялся в траве. Странный ручей, он почему-то проложил себе дорожку не по дну балки, где и грунт был мягче и путь ровнее, а бежал по бугру к далеким сопкам.
Павлик и я медленно шли впереди. Валя – чуть-чуть поодаль...
Я сказал:
– Не грусти, старина.
– А когда ты вернешься?
– Не забывай моих, наведывайся... Скучно им одним-то будет... И машину тебе поручаю. Техника, брат, дело такое: за ней глаз да глаз. Не в работе сломается, так заржавеет. А мы еще поездим... А когда встретимся, ты уже будешь вывинчивать свечи, а я чистить их.
– Это когда я вырасту?
– Нет, раньше. Намного раньше, старина... Пиши мне прямо на судно: Петропавловск, СРТ «Коршун».
И, несмотря на то, что Павлику было невесело и он с трудом сдерживался, чтобы не заплакать, он недоверчиво спросил:
– Разве почтальон найдет тебя в море, ведь там же нет улиц и домов?
– Да, конечно, там нет улиц и домов, но человек, если его ищут, никогда не теряется. Нашел же я тебя, старина! А какая степь большая!.. И адреса твоего не знал, и даже не знал, как тебя зовут. А нашел...
Мы говорили тихо.
– Я буду писать, Семен...
– Подождем маму?
Потом мы стояли на мосту. Все трое. Деревянные перила доходили Павлику до подбородка, он вытягивал шею, чтобы смотреть туда, куда грустно смотрела Валя.
– Ты не хочешь взять нас на вокзал? – тихо спросила Валя.
– Далеко. И поезд придет поздно. Я оставлю вас здесь, в степи. Я очень верю ей.
– Кому?
– Степи... Позавчера, когда мне Алешка свои метки показывал, вдруг все сразу стало ясным. Ну что, казалось бы, изменится, если мы – ты, я, Павлик, Алешка – уйдем... Не будет нас? Ничего. Появится новый шофер, новый прораб, мальчик, другой. Но знаешь, за нами – во мне, в тебе – вот это большое, понятное до листочка, до травинки, до тончайшего запаха, до едва различимого звука... Один умный человек когда-то очень давно сказал мне: «Попробуйте начать все сначала, с первого шага...» Он хотел, чтобы я разобрался сам... Но вот впервые при мне созрела степь. Двадцать два раза я видел ее прежде. Но впервые она созрела при мне, при моем участии, что ли. Как будто я прошел ее из конца в конец и понял. Теперь мне нужно ехать. Я уже не смогу остаться... Но поражения больше не будет.
– Кто этот человек? – спросила Валя. Я улыбнулся и ответил:
– Доктор, корабельный доктор.
Мне было трудно говорить. Никогда еще и никому я не говорил так много.
За спиной послышался рокот мотора. Машина? В такое время это могла быть только попутная...
Я вышел на середину моста и вытянул руку. Полуторка затормозила в трех шагах. Я поднял Павлика высоко над головой, хотел поцеловать его, но подумал, что с мужчиной нужно прощаться иначе, даже если он маленький, и осторожно опустил мальчика на землю. Шофер посигналил.
Валя порывисто протянула мне узкую руку с твердыми бугорками мозолей на ладони.
– Приедешь? – судорожно глотнув, спросил я.
– Ты напишешь...
– Напишу. Но ты приедешь – иначе нельзя нам. Слышишь? – Последние слова я произносил, взявшись за ручку дверцы.
Когда машина миновала спуск и начала преодолевать подъем, я открыл дверцу, стал на подножку и поглядел назад. Они все еще стояли на мосту – так, как я оставил их, – порознь. Потом маленькая фигурка пододвинулась к большой и они слились. Наверно, Павлик подошел к Вале и взял ее. за руку.
Полуторка неслась на полном газу.
Шофер не мигая смотрел прямо воспаленными глазами. Он наваливался грудью на руль, и его спина под выгоревшей, пропотевшей гимнастеркой была неестественно выпрямлена, словно человек что-то хотел увидеть на дороге, падающей под колеса, и боялся, что пропустит.
Шлагбаум опустился перед самым носом, хотя поезда еще не было видно. По ту сторону переезда застыла небольшая автоколонна: несколько грузовиков с высокими бортами. Над головным бессильно повис полинявший флажок.
– Что это? – спросил я у шофера.
– Хлеб, – односложно ответил тот. – Первый хлеб...
* * *
Спустя два месяца, серым октябрьским днем «Коршун» бросил якорь в Северной. У него были полны трюмы, но рыбокомбинат радировал, что сможет принять рыбу только завтра утром.
Бухта заштилела так, что «Коршун» стоял словно впаянный, а тени от угрюмых прибрежных скал неподвижно лежали на темно-зеленой воде. Деловито сновали чайки. Иногда они с размаху падали в бухту и пронзительно кричали. Поверху шел норд-ост. Это было заметно по рваным свинцовым облакам, косо несущимся над скалами. Но внутри было тихо, так, как бывает в северных бухтах накануне осенних штормов.
Феликс долго стоял на правом крыле мостика с биноклем в посиневших от холода пальцах. За его спиной дверь в рубку была открыта.
– Мелеша, позови старшего механика, – сказал он рулевому.
– Есть позвать стармеха, – отозвался рулевой и исчез.
Семен пришел в рубку. Феликс, не оборачиваясь, узнал его по редким увесистым шагам.
– Ты когда-нибудь был здесь? – спросил он.
– В Олюторке вообще был, а здесь, кажется, впервые...
Феликс вытянул руку в сторону широкого распадка, выходящего к воде в конце бухты.