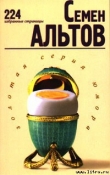Текст книги "Пеленг 307"
Автор книги: Павел Халов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Черт возьми! Мне совсем не нравилось, что я волнуюсь. Павлик еще стоял на краю кювета. Мое предложение могло и не устроить его.
– Хорошо! – заторопился я. – Буду возить твоих друзей... Ну хотя бы через день...
Я не злоупотреблял временем Павлика и долготерпением его матери. Иногда я даже откладывал назначенное путешествие. Я очень беспокоился, что в конце концов он заскучает со мной, и каждый раз придумывал все новые и новые маршруты. Мы ездили за Томь за грибами, бывали на сопках, закатывались далеко в степь. И однажды добрых полчаса соревновались в скорости с товарным поездом. В том месте, где шоссе шло параллельно полотну железной дороги, был небольшой спуск. Поезд притормаживал, а я выжимал из «москвича» все, что он мог дать. Минут десять мы шли вровень. И Павлик так заразительно ликовал, что и я не на шутку увлекся гонками. Но потом мы стали медленно, но верно отставать, и возле переезда последний вагон показал нам тормозную площадку.
Разговаривали мы мало и всегда о деле – у нас было общее дело. Я рассказывал ему о дизелях и моторах, о видах сцеплений и передаточном числе главной передачи, старательно минуя море. Мы оба загорели, у нас обоих светились глаза. Я никогда не предполагал, что буду так чутко прислушиваться к дыханию этого мальчишки и следить, как над тяжелыми метелками пырея мелькает его белобрысая головенка. Он прибегал ко мне запыхавшийся, ложился рядом и разжимал кулак – он всегда приносил что-нибудь забавное или интересное: камни, жирных кузнечиков, дикую малину.
Однажды мы поехали к заливу, возле которого я поймал перепела. Павлик с наслаждением барахтался в воде. Не выдержал и я. Осторожно ступая, я вошел в воду. Дыхание мое сделалось прерывистым и частым. Но, сдерживаясь, я по пояс забрел в залив и окунулся. В мозгу что-то вспыхнуло. И ошеломляюще отчетливо я увидел:
Лед... Зеленый, крошащийся, встающий на дыбы лед... Льдины лезут друг на друга, сшибаются, перемалываясь в кашу. Вода разгуливает по пайолам, и матовый свет плафонов зыбко дробится на ней. Вода холодно подступает к горлу, лезет в рот, в уши, в нос... Дизель еще стучит. Но он вот-вот захлебнется – и конец: двери в машину задраены.
Воздух застрял у меня в глотке – я даже схватился за горло обеими руками, вырвался из воды и, задыхаясь, упал на горячий песок. Сердце колотилось так, что в ушах стоял сплошной грохот.
Павлик подошел ко мне, присел на корточки и тронул меня за плечо.
– Семен, – тихо позвал он. – Ты заболел?
– Ничего, ничего, малыш... это пройдет, – бормотал я, не поднимая лица.
– Я знаю – ты тонул и тебя спасли. Ведь ты моряк? Да?
– Откуда ты знаешь, что я моряк?
– О, – засмеялся Павлик, – я тоже тонул. Долго потом страшно... А что ты моряк – мама говорила... Ты залезь в воду и открой глаза. Вот так, – он показал мне, как надо смотреть под водой. – И все пройдет. Меня Витька научил. Вот попробуй.
– Я попробую, Павлик... Только потом... мы еще раз приедем сюда...
Домой мы засобирались раньше обычного, но, выезжая из степи на шоссе, всеми четырьмя колесами автомобиль попал в подсыхающую лужу и провалился по самые ступицы. Я разулся, засучил брюки и сразу же до колен провалился в слежавшуюся липкую грязь. Края лужи глянцевито поблескивали. Я перенес Павлика на сухое. Он пошел ломать прутья, а я решил найти что-нибудь похожее на вагу.
«Москвич», разрывая колесами грязь, подминал под себя кучи хвороста. Они бесследно исчезали в луже.
Солнце из оранжевого сделалось багровым. Кусты начали отбрасывать длинные голубые тени. Над нами стонали тучи комаров и мошки.
– Я пойду на дорогу и позову кого-нибудь, – предложил Павлик.
– Ничего не выйдет, старик. Тебя никто не послушает. И потом, мы должны выбраться сами. Понимаешь, каждый обязан рассчитывать на самого себя, – ответил я, пытаясь дрожащими от усталости пальцами зажечь спичку, чтобы прикурить. – Ты отвернись, а я сзади буду пускать дым на тебя – комары больше всего на свете боятся «Прибоя».
– А если одному трудно? – спросил Павлик.
– Все равно обязан. Однажды я усвоил, что надеяться можно только на себя.
Павлик недоверчиво хмыкнул:
– А мама говорит – наоборот.
В мокрой до самого воротника рубашке, заляпанный грязью, я уже выбивался из сил. За три часа машина продвинулась всего на полметра. Еще каких-нибудь двадцать – тридцать сантиметров – и задние колеса вцепятся в твердый грунт. Я пытался сдвинуть «москвич» назад. Все вокруг мы выломали и бросили под колеса. Павлик тоже был весь в грязи и тоже устал – я и не заметил, когда он перебрался ко мне.
– Надо позвать кого-нибудь. Ничего у нас не выйдет. – Голос у Павлика был усталым и звучал совсем по-взрослому.
– Попробуем домкратом поднять. – Надежда выбраться самому ожила во мне. Я положил под домкрат обрубок доски, валявшийся в багажнике.
– Когда поднимется колесо, подсунь этот пучок, – сказал я Павлику. Но поднимался – и то очень немного – один кузов. Домкрат утопал в тине.
Я взял Павлика за руку, и мы вышли с ним на дорогу. Уже совсем стемнело, когда мы смогли остановить грузовик. Шофер молча выслушал меня, затем, выбрав твердое пологое место, съехал с шоссе. Ему было некогда, он торопился к вечернему поезду, покрикивал на нас и помогал заводить толстый стальной трос...
– Спасибо, друг, – взволнованно сказал я, – если бы не ты...
– Чего там! – буркнул он, трогая машину. – Бывает. – Красный фонарь стоп-сигнала повис над дорогой.
– Вот видишь, Семен, – пряча торжество, сказал мне Павлик.
Я промолчал.
У моста через Томь мы остановились. Я достал пиджак и повел Павлика к речке. Я заставил его раздеться и тут же вымыл с головы до ног. Мне было приятно и грустно дотрагиваться до этих узеньких плеч, как будто я возвращал себе то, что когда-то утратил. Я крепко вытер его, завернул в пиджак, отнес в кабину. Вымылся сам и выполоскал наши вещи. Павлик выстукивал зубами мелкую дробь. «Не простудить бы малыша», – думал я, кляня себя за то, что сразу же не пошел на шоссе за помощью.
– Сеня, ты сошел с ума! – встревоженно кинулась ко мне мама, но осеклась. Я стоял на пороге в мокрых брюках и держал на руках Павлика, закутанного в мятый потрепанный пиджак.
– Валя голову потеряла, – уже спокойнее говорила она. – Я сейчас его переодену, а ты отвезешь мальчика домой.
...Павлик заснул, не допив стакана чаю с малиной, – мама опасалась, что он простудился. Она всегда выгоняла простуду малиной. Мы вдвоем переодели Павлика в мои детские вещички, натянули на него свитер, и я понес его домой. Его лоб касался моего подбородка – я вспомнил, что давно не брился. Мне показалось, что у мальчика начинается жар. Сквозь свитер и сквозь свою рубашку я чувствовал горячее худенькое тело, доверчиво прижимающееся ко мне. Я шагал осторожно, гадая, как расположены окна его комнаты. Было поздно, чтобы спрашивать у соседей, где живет Павлик. Около водяной колонки я запнулся в темноте о трубу. Павлик глубоко вздохнул и поднял голову. Он не сразу понял, где находится. И, словно защищая его от возможного испуга, я плотнее прижал его к себе. Моя ладонь почти целиком закрывала его спину.
– Мы идем домой? – спросил Павлик.
– Я вижу твое окошко, старина...
Мне не надо было так называть его. Он завозился. Я понял, что нужно опустить его на землю, но я прошел еще несколько шагов и поставил его на дорогу. Мы пошли рядом.
– Ты нес меня, а я спал совсем как маленький? – огорченно не то спросил, не то пожаловался Павлик.
– Ты совсем не маленький. Ты просто здорово устал, – тихо сказал я. – И я устал. А ведь ты же не скажешь, что я маленький. Мы сегодня потрудились...
– А теперь ты идешь, чтобы меня не ругали? – спросил он.
Я подумал, что ему ответить.
– Видишь ли, малыш, ты знаешь всю мою семью. А я еще ни разу не видел твоих родных. Все как-то некогда было. А сейчас есть причина. И потом, я командор пробега, я и должен объяснить все сам.
Мы медленно поднялись на второй этаж по тускло освещенной, скрипучей лестнице. Нам открыли так быстро, словно специально ожидали за дверью. В коридоре желто светила запыленная лампочка. Молодая женщина со светлыми короткими волосами, зачесанными за уши, присев, обнимала тонкими руками Павлика.
– Извините, – проговорил я. – Случилось так, что мы не смогли прибыть вовремя...
Павлик, засыпая, что-то говорил ей и пытался высвободиться. Женщина подняла мальчика на руки и сказала:
– Я только уложу его... Не уходите, прошу вас...
Она пошла в комнату. Я немного потоптался на месте. Дверь налево вела в кухню. Там было темно. Тогда я тоже пошел следом за ними. Под низко опущенным оранжевым абажуром горела лампочка. Она ярко освещала прочный стол, накрытый синей скатертью с желтыми драконами. Все остальное было погружено в теплый уютный полумрак. Я разглядел этажерку с косо стоящими книжками, низкий диван у стены. На полу возле ножек стола, у дивана, паслись тапочки, стоптанный домашний туфель и маленький, наверно Павликов, сандалик. И это тоже оживляло комнату, делало ее еще более уютной. Направо была дверь, скрытая гардинами. Там было темно, и оттуда доносились голоса.
Я сел на диван. Достал папиросу и размял ее. Отыскал глазами пепельницу. Она стояла на столе – бронзовый кленовый листок. Он был чистым. «В этой комнате давным-давно не курили», – подумал я.
– Хорошо, хорошо, сынок, – доносилось из соседней комнаты. – Ты завтра все мне и расскажешь. Я приду с работы, и ты мне все расскажешь. А теперь ты должен спать, милый... Мне еще нужно поговорить с дядей Семеном.
– Он не дядя, – сонно и от этого чуть-чуть капризно поправил ее Павлик. – Не дядя, а просто Семен...
– Ну, хорошо, пусть просто – Семен... Спи, Павлуша. Утро вечера мудренее.
– Натощак человек умнее, мама?
– Да, спи, сынок...
Она осторожно прикрыла за собой скрипнувшую дверь, и, пока шла через комнату, мне казалось, что она еще там, вместе с Павликом. Я не видел глаз этой женщины, но во всей ее фигуре, в замедленной походке, в склоненной к плечу голове с кое-как заколотыми волосами было такое, будто она прислушивалась к чему-то. Я поднялся. Она посмотрела на меня, но ее взгляд, глубокий и темный, был обращен внутрь.
– У него горячая голова. Не простудился ли? – как бы для себя с расстановкой сказала она.
– Не думаю. Сегодня вечер теплый.
Она словно проснулась.
– Ой, да что же я! Сидите. Я сейчас подогрею чай. – Она ушла на кухню. Я слышал, как там щелкнул выключатель. Через минуту она вернулась с двумя стаканами и сахарницей.
– Я давно знаю вас. Павлик... Мальчик он. И по самые уши полон степью, вами и вашим «москвичом», – говорила она, расставляя посуду.
Мне показалось, что в ее голосе звучит грусть. Изредка она поглядывала на меня, убирая со лба волосы тыльной стороной ладони, и движение это было чуть-чуть замедленным – усталым. Я сказал, что Павлик настоящий парень, я привык к нему, и тоже кое-что знаю о них...
–У вас есть тетя Лида, которая готовит голубцы...
– Да. Это соседка. Она иногда помогает. Мне сейчас трудно. В сентябре мы сдаем элеватор... – Она помолчала. – Наши ребята предлагали мне отправить Павлика в пионерский лагерь. Но в последнюю минуту я передумала...
– Вы работаете на стройке?
– Да, я – мастер. Вон еще наряды заполнять надо.
– Простите, – сказал я, собираясь подняться. – Вам надо работать, уже поздно,
– Нет, нет. Я вас не отпущу.
Чай мы пили из стаканов. В сахарнице лежали круглые желтые конфеты. Крепкий чай пылал знойным огнем. Я грел пальцы о гладкое стекло. И думал, что мне не хочется уходить из этого дома. Женщина пила чай, наклоняя голову. У нее были пухлые Павликовы губы – верхняя губа чуть толще нижней, но в них была твердость. Ей двадцать семь – двадцать восемь лет, не больше, думал я. Взрослое спокойное лицо, горьковатые складочки у рта – они начинались едва заметно у крыльев вздернутого носа и опускались до подбородка. В уголках глаз кожа была тонкой и чуть-чуть голубоватой. И маленький подбородок был очерчен твердо, как у Павлика, и по-женски нежно.
– Вы очень похожи на Павлика, то есть я хотел сказать – Павлик похож на вас.
– Странно, – сказала она раздумчиво. – Я уже привыкла, что у меня сын. Сказки ему рассказываю про прораба, про принцессу Машу – мастер наш. Я привыкла кормить его. И он иногда мне даже мешает. Но вот сегодня вы задержались, А я места себе не находила. Хотя, казалось, ну что может случиться?.. Он же с вами... Только бы не простудился...
– Да, – сказал я.
Я сидел, положив руки на край стола. Вдруг я заметил, что она пристально смотрит на них.
На правой руке между большим и указательным пальцами разбитной моторист с «Крузенштерна» выколол мне якорь еще на курсах. Тогда руки у меня были крепкие и ладные. И якорь был ярко-синим и маленьким. Теперь, раздавленные железом, размягченные соляром и горячим маслом, они стали большими и пористыми. Якорь тоже расплылся и поблек. Я забыл про него. Я подумал, что Павлик видел и великолепную русалку с хвостом селедки на моем левом плече – там, возле залива, – поежился и прикрыл якорь рукавом.
– Молодость, – буркнул я.
– Сколько же лет вам? – спросила она.
– Много. Уже двадцать восемь...
– Я думала – больше... Немного больше, – поправилась она.
– Да, – ответил я. – Возможно, вы правы. Иногда я чувствую, что я старше самого себя...
Она проводила меня до лестницы. Прощаясь, я посмотрел на нее. Она была чуть повыше моего плеча. Я еще раз удивился, до чего они с Павликом похожи друг на друга. Особенно глаза – сухие и упрямые. Они смотрели так внимательно и пытливо, будто я должен сейчас сказать что-то очень умное и важное.
Я пожал протянутую руку. Она подошла к перилам. Я остановился и, глядя на нее с нижней ступеньки, сказал:
– На всякий случай завтра пришлю маму. Она принесет сухой малины для парня.
Спускаясь с крыльца, я слышал, как на втором этаже захлопнулась дверь и ключ дважды повернулся в замке.
«Все-таки на улице прохладно, – подумал я. – Как бы и в самом деле Павлик не заболел...»
Собирался дождь. Собственно, он уже накрапывал. И когда я добрался до дому, капли дружно ударили по железной крыше.
Глава пятая
1
Петропавловск накрыт снегом. Снег теплый, рыхлый, мартовский. Сопка Любви почти сливается с белесым небом. Снег шапками лежит на крышах домов, на телеграфных проводах. Человек, идущий по улице, заметен далеко. Черная фигурка на белом фоне. У белых причалов черные корпуса судов. На их мачтах и палубах, на крыльях мостиков и на трюмах тоже лежит снег.
Над ленивой водой бухты низко плывут густые металлические удары, стелется захлебывающаяся дробь пневматических молотков, шипенье электросварки. Осадистый грязно-голубой «Ороч» травит пар. Портовые краны острыми клювами уносят в небо связки бочек.
Временами все перекрывает чей-то хриплый, усиленный мегафоном бас:
– «Стремительный»! Уберите швартовы. Я снимаюсь. «Стремительный»...
Из-под кормы высокого рыжего парохода что-то раздраженно отвечают. Завыли лебедки, и голоса растворяются в их вое. Но бас выплывает опять. Он по-прежнему ровен и настойчив:
– «Стремительный»! «Стремительный»! Уберите швартовы...
«Стремительный» молчит.
Бас не выдерживает и разражается на всю бухту:
– Да уходите вы к... – Конец фразы перекрывает сирена портового буксира. На палубах судов весело и понимающе переглядываются.
Из-за борта парохода, поплевывая горячей водой и постукивая дизелем, выползает полутисс «Стремительный». На среднем ходу он проходит так близко к «Коршуну», что между судами, наверно, не просунешь руки. На крыле мостика полутисса высокий человек в блестящем резиновом плаще и капитанской фуражке. У него темно-коричневое лицо. Он что-то говорит суетящимся на палубе матросам и, пригнувшись, исчезает в узких дверях рубки.
«Коршун» несколько раз грузно качнулся на волне. Семен зябко повел плечами и сжал зубы...
Сегодня капитан не давал команде ни минуты покоя. «Коршун» готовился к рейсу. Уже Мишка отправился за «отходом», уже приняты и погружены снасти и продукты, уже залиты водой и соляром танки. И ошалевшие от суматохи и окриков матросы мотались по палубе, подбирая разбросанные инструменты. Стармех, опухший и злой, вконец издергал механиков. Когда в машинном отделении все заблестело, он послал их наверх в последний раз опробовать лебедку и шпиль. Он словно проснулся после спячки и наверстывал упущенное.
Семен и Меньшенький появились на палубе в ту минуту, когда полутисс резал корму «Коршуна» .
Меньшенький младенчески улыбался, щурился от нестерпимого после сумерек машинного отделения света и жадно вдыхал холодный воздух. Феликс стоял у борта, вцепившись обеими руками в леер так, что побелели косточки пальцев. Его скуластое, заострившееся лицо было круто обращено в сторону полутисса. Он плотно сжал полные губы, ноздри чуть-чуть вздрагивали. И весь он подался вперед, будто хотел что-то крикнуть тому человеку, который только что исчез в рубке полутисса.
Капитан тоже на мгновение застыл, прочно утвердив маленькие ноги и нервно похлопывая себя по реглану обрывком стального линя. Семен видел его напряженную шею с подбритыми волосами. «Коршун» качнулся, но капитан словно припаялся к палубе. И Семен впервые понял то, чего так долго не мог понять, – эти люди истосковались по морю. Они больше не могли без него. Даже при малейшем ветерке с моря у них вздрагивали ноздри, а в походке появлялась особенная, сдерживаемая упругость.
Что же нужно, чтобы полюбить серо-зеленые волны, которые изо дня в день, из года в год, из тысячелетья в тысячелетье с глухим гулом разбиваются о темные подножья скал, оставляя на камнях клочья белой пены? Что нужно, чтобы камчатское небо звало распрямиться и дышать глубоко и жадно?
Полутисс ушел. Палуба «Коршуна» ожила. Феликс вздохнул и разжал пальцы. Неизвестно чему засмеялся Меньшенький. Капитан двинулся дальше, так же похлопывая себя обрывком линя. Но Семен чувствовал, что тому стоит немалых усилий не побежать вприпрыжку, весело покрикивая на медливших матросов.
Замерла темная вода бухты. Но в каждом движении, в каждом слове, сказанном кем-нибудь вскользь, теперь появилась неумолимая, нетерпеливая устремленность.
К апрелю на «Коршуне» был закончен ремонт. Судно вывели из дока. В машинном отделении собралась вся машинная команда – Табаков, Меньшенький, Семен, моторист и электрик. Тут же находились представители завода – инженер и мастер бригады, производивший переборку двигателей. Было тесно. Меньшенький, моторист и электрик громоздились на трапе.
При первом пуске всегда охватывает волнение. Дизеля строго поблескивают металлическими боками. Внутри них застыли поршни и шатуны, готовые к первому обороту. Все проверено в третий, в пятый, в десятый раз. И все же люди изнервничались. Инженер был взволнован не меньше других. Напоследок он еще раз прошелся по машинному отделению, потрогал рукой градусники и похлопал по кожуху второго номера.
– Начнем с третьего... – осевшим голосом произнес он, и лицо его сделалось скучным.
– Пускай! – тряхнул кудрями Табаков.
Семен подошел к маленькому дизелю, немного помедлил и нажал черную кнопку накаливания запальных свечей.
– Пускаю, – сказал он.
Удар пусковика был звонок и резок, как выстрел. Рычажок управления топливом налево – «пуск» и тут же вправо до отказа – «работа». Движок взвыл. Семен убавил обороты. С этим все было нормально. Он трещал часто, не грелся, хорошо давил масло. Каждую форсуночку Семен потрогал рукой. Они бились четко, как пульс.
Минут двадцать Семен гонял движок на разных режимах, пока инженер, приподнимаясь на носках, не прокричал ему в ухо:
– Довольно...
Табаков предупредил мостик, что переходит на свое питание, включил динамо.
Главный тоже работал хорошо. Наверху осмотрели швартовы, и «Коршун» рыл под собой воду на «малых», не отходя от стенки. Потом, когда вышли в бухту и дали полную нагрузку, инженер и мастер повеселели.
Но со вторым номером что-то творилось. Несколько раз Семен пытался его запустить и все же, после двух-трех оборотов, он замирал.
– Подвинься-ка, парень! – Инженер нервно отодвинул Семена в сторону и встал к реверсу сам. Но ему тоже не сразу удалось запустить дизель. А когда он заработал, все услышали дробный стук, пробивавшийся сквозь грохот. Инженер добавил оборотов. Стук усилился. Дизель затрясся, словно хотел взорваться. Его заглушили.
Электрик на трапе сплюнул и полез наверх. Инженер был растерян. На лбу у него выступила испарина. Мастер переминался с ноги на ногу и не знал, куда девать руки.
Второй номер – стосильный дизель, его называют кормильцем: он дает энергию на лебедку, шпиль, брашпиль. Без него рыбацкое судно становится прогулочной яхтой.
– Да... – протянул инженер. – Перебирать надо.
– Надо, – отозвался Табаков.
– Дизелисты загружены во как. – Инженер чиркнул пальцем по горлу. – Раньше чем через неделю не сможем, ребята...
Механики молчали.
Заводские поплелись к капитану. Когда они ушли, Меньшенький спустился с трапа. В руках у него был здоровенный ключ. Он пододвинулся к стармеху почти вплотную и чуть не задел его живот.
– Надо б-было не водку жрать, а с-следить, – сказал он, с ненавистью и презреньем глядя в глаза стармеху.
– Молчать, щенок, – взвился стармех, пятясь. – Не твое щенячье дело! – Но Меньшенький уже отвернулся от него.
– Дай беломорину, С-семен.
Семен протянул ему всю пачку. Нагнувшись, чтобы прикурить, Меньшенький спросил:
– Переберем сами, Сеня, а?
– Переберем.
– Нет, правда. За двое суток переберем. А то покидали шатуны, он и гремит, как мешок с костями.
– Переберем, Костя, – сказал Семен. – Только бы запчасти выдрать...
– Доложите капитану, – сказал Меньшенький Табакову, – мы переберем второй номер сами... За двое суток...
Ругнувшись, стармех полез наверх. Моторист поерзал с минуту и тоже пошел за ним.
Они сделали так, как говорили, – за двое суток.
Но в море ушли, не выяснив главного. Ризнич по-прежнему стоял на капитанском мостике, как будто ничего не случилось.
Феликс и Меньшенький были в парткоме. Потом их еще дважды вызывали туда. Вызывали и Мелешу. До окончания ремонта партком не успел разобрать дело. Задерживать траулер в порту не имело смысла – каждый вымпел на промысле был дорог.
«Коршун» получил предписание выйти в район Олюторки.
В 21.00 на «Коршуне» дали «вперед, самый малый». В машинном отделении были Семен и стармех. Стармех всегда приходил в машину при выходе из порта. Сейчас он сидел на кожухе динамо, широко расставив толстые ноги. Он был в пижаме, не сходящейся на обвислом животе. Черный, спутанный чуб падал ему на глаза. Семен внес в вахтенный журнал время отхода, режим работы, подошел к стармеху и тронул его за мягкое плечо (в машинном отделении механики разговаривают глазами), потом ткнул себя в грудь и показал на трап. Стармех недовольно кивнул: «Иди».
Семен не спеша стал выбираться наверх. В открытую дверь полуюта медленно плыли береговые огни. Духота и грохот дизеля остались внизу. Семен глубоко вдохнул морозный ночной воздух. Он немного постоял, привыкая к тишине, и медленно пошел вдоль борта. Падал крупный снег. Он был таким слабым, что, еще не коснувшись потного лица и горячих, оголенных по локоть рук, таял и капельками оседал на ресницах, застревал в бровях, ложился на губы.
Залитый огнями, заваленный снегом, девятый причал отходил назад. За кормой «Коршуна» на густую воду ложились полосы света. От этого тьма впереди казалась еще более непроницаемой. Семен ловил ртом снег.
Шуршит за бортом вода, приглушенно гукают выхлопы.
Еще несколько минут – и покажутся красные створы Сероглазки. Это последнее, что будет видно до самого выхода из бухты. Потянул ветерок. Мокрые волосы сделались жесткими. Семен прикрыл голую шею. Он смотрел в сторону Петропавловска и думал. О чем? О доме, о том, как пахнет степь.
Море – это работа. Шесть лет он уходил в рейсы беззаботно. Так же, как уходит на работу его сосед по общежитию – слесарь с плавучей мастерской «Фриза». И каждый раз его тянуло взглянуть на удаляющиеся огни порта. Но никогда еще ему не было так тоскливо, как сейчас.
Кто-то стал рядом. По сиплому с одышкой дыханию Семен узнал тралмастера Кузьмина. Кузьмин продул папиросу, зажег спичку. Огонек осветил его жесткие усы и широкий нос. Потом Кузьмин подержал спичку перед глазами и бросил ее за борт. Спичка летела целую вечность. И, коснувшись воды, еще горела. Семен так и не видел, когда она погасла.
– Простынешь, Семен... – сипло сказал Кузьмин.
– В машине отогреюсь... – не сразу ответил Семен. Ему и вправду становилось холодно.
2
Тысячу раз он пытался разобраться, как это произошло, напрягая свою волю и память, будто поднимался на цыпочки, вытягивал шею, чтобы куда-то заглянуть. Но когда казалось, стоит сделать последнее крохотное усилие, что-то опять наплывало, и он беспомощно барахтался в воспоминаниях.
Вот-вот должны были показаться створы Сероглазки. Здесь положат руль вправо и добавят хода. Надо было возвращаться.
Наверно, напрасно Семен вышел на палубу. Какого черта он там не видал! Но если вышел, то не раздумывать же об этом по дороге назад.
Он уже занес ногу над ребристым стальным порогом. Но пальцы непроизвольно вцепились в переборку, и Семен не в силах был их оторвать. Дыханье его стало прерывистым, сердце колотилось оглушительно. По лицу тек холодный пот.
Семен пытался заставить себя перешагнуть через порог на трап, ведущий в машину. Только один шаг, а там все будет по-старому! Но он не мог заставить себя сделать этот единственный шаг. Оказывается, все: скрежет льдин о борта, гуляющая по пайолам вода, а главное – ощущение, что из машины нет выхода, двери задраены, а люди так далеко, что не верится в их присутствие, – жило в нем и только притаилось на время ремонта.
И вдруг Семен отчетливо понял, что никакая сила не заставит его сейчас перешагнуть через этот порог.
Он стоял, судорожно цепляясь руками за острые края люка, чувствовал, как металл мелко дрожит под его пальцами, слышал, как внизу ухает «Букаувольф», видел, как вздрагивают внизу икры ног стармеха, обтянутые пижамными штанами. Все это больше не касалось его.
Он отпустил переборку и пошел обратно в свою каюту. К черту! Надо, чтобы его немедленно высадили на берег. На судоремонтной верфи или в Сероглазке, в бухте Завойко или на мысе Сигнальном – в любом месте.
В ходовую рубку валко прошел Мишка Лучкин. Он помахал Семену рукой. Но и это больше не касалось Семена.
Сначала на мостике, а затем внизу – в машине – звякнул телеграф, и тотчас зачастил главный двигатель, а в корме с характерным глухим металлическим гулом – словно железный шар прокатился по деревянному настилу – сработала рулевая машина. «Коршун» добавил ход и положил руля. И это тоже ни в коей мере не касалось его.
Когда он подходил к каюте, внезапно ожила судовая трансляция и крепкий голос Ризнича произнес:
– Второму механику Баркову – немедленно в машину!
Ризнич дважды сказал эту фразу, повторив ее нота в ноту, звук в звук.
Семен вошел в каюту...
Электрика не было. Наверное, он «резался» в домино у матросов.
По всем существующим понятиям, то, что делал Семен, называлось дезертирством...
Он постоял, обводя глазами каюту, потом вынул из рундука чемодан, положил его на койку и стал складывать вещи. За этим занятием его и застал Мишка Лучкин. Распахивая дверь, он с недоумением сказал:
– Сенька! «Дед» в машине орет как резаный. Вали скорей!
Семен ничего не ответил ему. Два толстых учебника – один по дизельным – судовым установкам, а другой по электрике – он положил сверху. Чемодан не закрывался.
– Помоги, Миша, – попросил Семен.
Касаясь друг друга головами, они навалились на чемодан. Затем Семен снял со стены плащ и стал надевать его. Мишка, ничего не понимая, ждал.
– Миша, – тихо сказал Семен. – Передай там, что я не могу идти в рейс. Не могу совсем. Понял?..
Мишкино круглое, всегда немного флегматичное лицо вытянулось.
– Не иду, и все... Передай там, – повторил Семен. – Пусть меня высадят здесь, пока не вышли из ковша. Тебя за мной капитан послал?
– Капитан...
– Пойдем... Я скажу ему сам.
За дверями Мишка остановился. – Погоди, – тихо сказал он, приближая к Семену лицо, – Феликс на мостике. Я лучше позову его.
– Хорошо, – согласился Семен.
Мишка ушел. «Коршун» слегка покачивало – он выбрался на середину ковша. Семен всей спиной прислонился к переборке. Холодный пот снова медленно заливал его лицо.
Через несколько минут послышались четкие шаги Феликса. Он шел пружинисто и легко и, несмотря на качку, не держался за поручни.
– Мишка сейчас наговорил мне какой-то ерунды. Он что-то перепутал, – сказал Феликс.
– Нет, – ответил Семен, – Не могу я идти в море.
– Ты с ума сошел, старик? Объясни толком, что случилось?
– Я сам не знаю. Я не могу идти в море.
– Ты что, не понимаешь, чем это пахнет? – совсем недружелюбно спросил Феликс.
– Теперь мне все равно.
Феликс взглянул Семену в глаза с отчуждением и враждебностью и отвел взгляд. Тихо, но твердо сказал:
– Хорошо. Доложу хозяину.
Семен вернулся в каюту и сел на койку, как был, в плаще и фуражке. Каюта перестала быть его домом.
Двигатель зататакал реже. Ход сбавили, наверно, до тех пор, пока не будет принято решение. Вскоре появились Феликс и Ризнич. Капитан прошел к столу, а Феликс остался у порога.
– Неужели вы так плохо себя чувствуете, Барков? – спросил Ризнич. Он хотел, видно, чтобы в голосе звучала заботливость. Но в нем были тревога и что-то похожее на презрение и жалость одновременно. Феликс хмуро вертел в руках фуражку.
– Может быть, дотянете до Олюторки, Барков? Там есть врач...
Семен отрицательно покачал головой.
– Я не могу идти с вами, капитан.
– Почему вы молчали в порту?
Пришел Табаков. Сопя и мягко дыша, он протиснулся в каюту и грузно сел рядом с Барковым. От Табакова пахло машиной и потом. Семен затосковал еще острее.
– Так, – сухо подытожил Ризнич. – Старший помощник, идем в порт. Распорядитесь.
В дверях Ризнич обернулся. Он не очень-то верил тому, что Семен заболел. Капитан искал его глаза, но Семен не смотрел на него.
«Коршун» вернулся, мягко стукнулся бортом о «Фризу». По палубе застучали матросские сапоги.
На рассвете «Коршун» ушел в рейс.
3
Семен окончательно опомнился через день, когда к нему в общежитие пришел врач.
– Гамберг. Доктор, – отрекомендовался он, сняв шапку и склонив в коротком поклоне голову.
Доктор разделся. Он оказался пожилым, щуплым и... по-юношески стройным. На нем не было халата, и от него не пахло лекарствами. Седые, редкие волосы, зачесанные назад, маленькое лицо с крупным носом и гладкими щеками, тонкие, нервные и стариковски сухие пальцы, одежда, очки в серебряной оправе – все было идеально чистым, доктор казался стерильным.