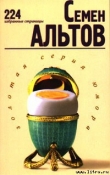Текст книги "Пеленг 307"
Автор книги: Павел Халов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Он протянул Семёну руку и еще раз назвал себя.
Его, видно, осведомили о происшедшем на «Коршуне» случае. Выслушивая и выстукивая Семена, он исподволь уточнял детали, задавая порою совсем, казалось, не относящиеся к делу вопросы. Семен краснел, отвечал сквозь зубы и ворочался медведем, подставляя доктору то спину, то грудь.
Закончив осмотр, доктор задержал свою детскую ладошку на груди Семена, отодвинулся, разглядывая его еще раз издали, и сказал:
– Всегда хотел быть сильным и большим, как вы, голубчик...
Он выписал рецепты, объяснил, как следует принимать лекарства, и неожиданно предложил:
– Знаете что? Проводите меня. Погода великолепная – снежок падает. Вам полезен свежий воздух.
Семену было неловко, на вопросы доктора он отвечал односложно, а когда нужно было пересечь скользкую дорогу или спускаться по ступенькам с горы, не знал, поддержать ему доктора или нет.
– Ну, вот... Я почти у цели, – сказал доктор. – Мы прекрасно погуляли. Спасибо вам, голубчик...
Но затем, тронув Семена за рукав, серьезно сказал:
– Часто это проходит, не оставляя следа. Но бывает и так: человек навсегда сходит на берег. Поверьте, я старый корабельный врач, видел такие случаи не раз. Пытался докопаться до причин... Знаете что, голубчик, попробуйте начать сначала, с первого шага. Разумеется, основа – нервное заболевание. Сильное потрясение, если хотите. Но дело, видно, не только в этом. Вот те четверо в океане не сошли ведь с ума и не потерялись. А нагрузочка у них была куда посерьезнее... Или Гагарин. Летал! И не знал, сядет ли... Значит, нервы – результат не только пережитой опасности и страха. Ваше лекарство – люди. Люди, люди и люди.
– Может, вы и правы. – Семен потупился.
– Конечно, прав, – ответил доктор. – Возможно, я навещу вас...
Семен возвращался, думая о словах доктора.
Целую неделю потом он валялся на кровати, обрастал щетиной и беспощадно курил. Окурки валялись везде, даже на одеяле. И Федосов, пятидесятилетний слесарь с «Фризы», располагаясь на тумбочке ужинать, сдвигал их рукавом...
В конце недели, кажется, в половине десятого утра, рассыльная принесла синий пакет. Семен нерешительно помял его и распечатал. Начальник отдела кадров и секретарь парткома сообщали, что с «Коршуна» по радио интересовались его здоровьем. Они просили Семена зайти в Управление флота в четырнадцать часов.
Семен отложил письмо.
В Управление он не пошел.
Когда Федосов уходил на работу, Семен давал ему денег. И ел то, что он приносил вечером, – колбасу, консервы и ноздреватый хлеб, пахнущий керосином: Федосов никогда не покупал целой буханки, он брал столько, сколько входило в карман его рабочей телогрейки. Иногда из другого кармана он вынимал поллитровку.
Перед тем как заснуть, Федосов вздыхал, ворочался, в кальсонах подходил к окошку и подолгу смотрел на ночной Петропавловск.
– Ты чего, Федосов? – как-то спросил его Семен.
Тот неожиданно разговорился и до утра рассказывал о своей рязанской деревне, о жене, которая отлично варила лапшу на курином бульоне с яйцами; вспоминал свою кузню и соседа – какого-то Кондратенко, с которым не доругался до конца перед отъездом на Камчатку.
Однажды он пришел веселый, взбудораженный и, не раздеваясь, принялся укладывать вещи.
– Уезжаю, – радостно объявил он. – На родину. Нынче уволился и расчет получил.
– Как?
Федосов разогнулся, держа в руках штаны, которые складывал, и сказал:
– На родину... Ну их, всех денег не огребешь. А посевная вот-вот начнется, земля тянет.
От удивления Семен сел на кровати.
– Ты не видал пиджачка моего? Тут он, на гвоздике висел... – продолжал собираться Федосов. – Самолет в два часа завтра уходит. Все равно теперь лететь – там и переночую. Спокойнее...
Семену было жутко оставаться одному на целую ночь в этой комнате, похожей на зал ожидания.
Окрыленный внезапным решением, слесарь даже забыл попрощаться. Хлопнула дверь. Семен остался один.
Он выдержал немного – два дня.
Вечер – самая бесконечная часть суток. Он начинается сразу после пяти, когда в бараке хлопают двери и звучат громкие разговоры, а коридор содрогается от остервенелого рева примусов. Наступают сумерки. Вечер тянется долго. Небо тяжело опускается на город, мертвые неоновые огни бросают голубые блики на стены комнаты. Возле кинотеатра «Октябрь» грустит «Арабское танго». И так без конца – до рассвета, пока не побелеют остроконечные верхушки скал и в белесой дымке не забрезжут над бухтой неподвижные силуэты корабельных мачт.
Нужно было что-то предпринимать, или все это плохо кончится.
Семен натянул сапоги, напялил тесноватый в плечах серый с погончиками плащ, в прошлом году купленный по случаю у матроса с «России», и вышел на улицу... Было слякотно: днем пригревало. Стекловидная жижа шуршала и хлюпала под ногами.
Изнутри город казался не таким, каким он виделся с палубы «Коршуна». Домики, лепившиеся по склонам Петровской сопки, косо опирались на кривые разномастные заборы. Темнели узкие улочки, связывающие их. Редкие огни разбросаны по голубоватому мареву сумерек.
У кинотеатра ярко светили сильные лампочки. На скамейках шушукались девчата, спокойная женщина катила перед собой детскую коляску. Семен поднял воротник и прошел мимо.
В магазине было шумно. В петропавловских магазинах всегда шумно – все знают друг друга. Очередь в кассу продвигалась медленно. Подходили со стороны и передавали деньги впереди стоящим. Никто не возмущался. Семен почувствовал, что зверски хочет есть; вспомнил: здесь, наверху, метрах в трехстах, работает ресторанчик «Вулкан».
Пожилой женщине, занявшей очередь за ним, он сказал:
– Держитесь за этим парнем.
– Вы подойдете? – спросила она.
– Нет, – сказал он, – я ухожу совсем.
Очередь колыхнулась и продвинулась на один шаг.
4
В кармане среди табака и хлебных крошек перекатывалась монетка. Она была единственная, и пальцы все время нащупывали ее. Это была двухкопеечная монета, выпущенная в год рождения Семена – 1933. Эту монету он носил уже несколько дней. И когда покупал папиросы или спички, отыскивал ее в груде мелочи, скапливавшейся к вечеру, и снова опускал в карман.
Он вынул монету, подкинул на ладони и, чувствуя ее в кулаке, пересек подмерзшую к ночи дорогу.
Прохожие были редки. Шли они главным образом из порта. Только один раз его нагнал парень в телогрейке, с чемоданчиком в руке. Луны видно не было – она маячила за мглой, выстелившей петропавловское небо. Но подтаявшие, осевшие сугробы, окна и обледенелые крыши домов, провода и даже телеграфные столбы с погашенными лампочками – в каждой лампочке жила маленькая луна – были напоены ее светом. И на лицо парня падала глубокая тень от низко надвинутой фуражки. Резким спросонья голосом он попросил прикурить и поинтересовался, который час. Семен отогнул рукав плаща и нагнулся, чтобы разглядеть стрелки. Было пять минут второго.
– Опаздываю... – пробормотал парень, затянулся и торопливо зашагал вперед. Он, очевидно, торопился на судно. Долго слышалось, как цокают по асфальту ослабевшие подковки на каблуках его сапог.
Издали Семен заметил будку телефона-автомата. В ней горел свет. Он вошел, плотно прикрыл за собой железную с выбитыми стеклами дверь и опустил в аппарат теплую монету. Не отвечали долго. Но вот в трубке сухо щелкнуло.
Донесся неясный шум – в комнате было полно народу. Кто-то смеялся. Девичий голос произнес:
– Диспетчерская. Сергеенко слушает.
Семен секунду помедлил, плотно прижимая трубку к уху, потом спросил:
– Сергеенко, где находится «Коршун»?
Голос девушки потеплел:
– Это вы, Иван Артемьич?
– Да, – соврал он.
– «Коршун» в Олюторке, Иван Артемьич. Федоров радирует о затруднениях со сдачей рыбы. У него портится суточный улов. Что ему ответить?
– Федоров? Феликс Федоров? – с недоумением переспросил Семен.
– Не знаю, сейчас посмотрю, – отозвалась девушка. Пока она шелестела бумагой, он лихорадочно соображал. Почему Федоров? Ведь капитан «Коршуна» Ризнич. Почему радирует Феликс, а не Ризнич?
– Вы слушаете? Иван Артемьич, тут не написано Феликс. Здесь так: «Коршун» – капитан Федоров Ф. В. Чернилами написано и расплылось, плохо видать. Что ему ответить?
– Ответьте, – сказал Семен неожиданно для себя, – что звонил Барков. Передайте, что мне плохо...
В трубке так резко щелкнуло, что в ушах у него еще с минуту стоял звон.
Почему радирует Федоров? На этот вопрос он не находил ответа. «Коршун» в рейс повел Ризнич. Он точно знал, что Ризнич. Куда же он мог деться?
Газеты приносят без пятнадцати двенадцать. Соседи приходят обедать к двенадцати. Газета торчит в ручке двери – у них нет почтового ящика. Ровно в двенадцать газету возьмут.
Чтобы не прозевать, Семен несколько раз выглядывал в коридор и прислушивался, не идет ли почтальонша. Наконец послышались ее шаркающие шаги. Не успела за ней закрыться дверь, как газета была уже в руках у Семена. Каждый день на первой полосе дают сводку по Управлению тралового флота под заголовком: «Вести с промысла». Он нашел ее. Круглыми жирными буковками в столбик были напечатаны названия судов, а рядом обычным шрифтом в скобочках указаны фамилии капитанов. Суда назывались по количеству улова. Семен пальцем вел по списку: «Карагинский», «Орбели», «Смелый», «Беляна», «Крутогорово», «Первенец» и, наконец, «Коршун». Капитан Федоров Ф.В., 650 центнеров. Это значит, что в Олюторку «Коршун» пришел с трюмами, залитыми почти под жвак.
Наверно, это особенность «Коршуна» – с полным грузом он глубоко садится в воду и не отыгрывается на волне, а режет ее надвое и принимает на палубу. На средине волны винт оголяется, в машинном все трясется от вибрации, а первый номер частит и захлебывается. Тут надо следить очень внимательно.
В Северной трудно сдавать рыбу. Почти всегда ветер. А берег каменистый. Мокрые, обкатанные тяжелым морем темные камни. Если работает ост – зыбь свободно входит в бухту. Дно, тоже каменистое, плохо держит якорь, время от времени надо потравливать. Но все равно судно дрейфует...
5
По ковровой вытертой дорожке «Вулкана» к выходу шел невысокий моряк. При каждом шаге на его рукавах тускло вспыхивали золотые шевроны. Зал гудел и стонал, густо слоился табачный дым. Звякали инструментами ребята из джаза, собираясь играть. Но моряк шел сквозь шум и чуть покачивался. Он четко ставил ноги, и было видно, что он пьян. На коричневой шее ослепительно белел краешек воротника рубашки, выглядывавший из-за черной тужурки. Моряк шагал напряженно, стараясь держаться прямо, и не заметить его было нельзя.
Удивительно знакомой показалась Семену его собранная фигура. Моряк покачивал правой рукой, точно чем-то похлопывал себя по ноге, и когда поравнялся со столиком Семена, тот увидел знакомые косые бачки.
Это был Ризнич. Семен недоуменно посмотрел ему .вслед. Ризнич почувствовал это. Он зябко повел плечами, как будто раздумывая, обернуться ли ему. В нескольких шагах от застекленной двери он вдруг остановился и круто повернулся, тяжело обводя глазами зал. Его взгляд медленно перебирал столики. Потом брови дрогнули: он увидел Семена. Немного поколебавшись, Ризнич медленно двинулся к нему. Семен поднялся.
– Сидите, сидите, – процедил сквозь зубы Ризнич, касаясь стола кончиками пальцев. – Теперь можно не вставать – я больше не капитан... – Ризнич болезненно и вместе с тем брезгливо улыбнулся. Ему приходилось смотреть чуть-чуть вверх – Семен был выше.
– Что вы пьете? – спросил Ризнич.
– Коньяк... Хотите?
– Вы здесь ходите в любимчиках, в этой дыре? – не отвечая на приглашение, сказал Ризнич. – Всю жизнь терпеть не мог любимчиков. – Он опять брезгливо усмехнулся. Усмехался только его маленький жесткий рот, а глаза по-прежнему смотрели мертво, не мигая. – Я пил «Кубанскую», – добавил он. – Коньяку в карточке нет.
– Давно вернулись, капитан? – спросил Семен.
– Хочешь узнать, механик, давно ли меня вывели в расход? – неожиданно переходя на ты, с циничной прямотой сказал Ризнич. – Хочешь и боишься? Не надо бояться. – Он крепко потер ладонью щеку. – Давно... Этот механик, кажется, вы зовете его Меньшеньким, отказался от денег и подал рапорт. Это же сделал старпом. Я ожидал от кого угодно, но не от него. Я пришел сюда на танкере.
– Капитан, – тихо сказал Семен, – вы плохо знаете Спасского. Если бы не он, мы бы с вами никогда не встретились на земле.
– Две капли на переборке, и уже наделали в штаны...
– Э-э... помпы не выключались трое суток. Вы же знаете.
– Все равно... Я пришел сюда на танкере и ответил на все вопросы...
Раздраженье глухо поднималось в Семене. Он отчетливо произнес:
– Я мало знаю вас, капитан. Но однажды вы не ответили на один вопрос.
– Не понимаю тебя, механик. Надо говорить прямо.
– Девятнадцатого февраля вам задали вопрос. Собственно, его задали всем, но ответить должны были вы. Капитан, помните этот день?
Семен взял со стола ножик и черенком начал стучать по краю тарелки. Чтобы лучше слышать, Ризнич пригнул голову. Губы его шевелились. Он читал: в-а-ш-и-п-о-з-ы-в-н-ы-е-п-о-р-т-п-р-и-п-и-с-к-и...
– Я думал, что имею дело с моряками, – сказал он, когда Семен закончил.
Семену был жалок Ризнич и ненавистен. Еще немного, и он бы ударил его. За все... даже за этот опостылевший зал. Отсюда легко достать. И это смешанное чувство жалости и гнева заставило Семена отвести глаза.
– Но я выберусь, механик. Запомни. Я выберусь.
– Выбирайтесь, капитан, – устало сказал Семен и грузно опустился на стул.
Когда стоишь у подножья скалы, нависшей над морем осклизлыми выступами, она представляется нелепым нагромождением камней. Но если смотреть на нее с палубы судна на расстоянии двух миль, когда прорезаешься сквозь холодный зернистый туман, она становится понятной, и выступы ее воспринимаются логическим продолжением друга друга.
Наверное, и жизнь человека так же. Надо отойти в сторону, оглядеть человека, вспомнить все, что знаешь о нем, – и глаза, руки, высказанные им вслух мысли, поступки сольются в единую форму – в характер. Может быть, Семену и не хватало этой последней встречи, чтобы понять Ризнича.
Ризнич давно ушел, а Семен еще видел тяжелые глаза и ожесточенный, брезгливый рот. Но больше всего его поразила спина Ризнича, когда он повернулся, чтобы уйти прочь. Плотно обтянутая тужуркой, сшитой с нездешним шиком, она как бы выражала отношение Ризнича к нему, Семену, к этим людям за тесно поставленными столиками, к Феликсу, который сейчас, наверно, торчит на верхнем мостике «Коршуна» и, зябко поеживаясь от сырости, вглядывается в каменистый берег Северной, к Меньшенькому, вспыльчивому, длинноногому и смешному. Да и к продутой ветрами Олюторке с ее бесконечными щербатыми скалами, полощущими в пене прибоя зеленые бороды водорослей.
«Волк, – подумал Семен. – Волк... И хватка у него мертвая – он перервет горло любому, кто встанет у него на дороге. Сейчас его долбанули, но дай ему перевести дух – и он опять выберется...»
6
Суда постепенно возвращались с промысла. По одному, по два они возникали в зеленоватой чаше Авачинской бухты, беззвучно двигались к причалам и казались издали крохотными насекомыми. Из-под острых форштевней у них разбегались тонкие усики бурунов. Тральщики подходили ближе, и можно было увидеть, что их черные когда-то борта порыжели, такелаж провис, потускнела веселая краска полуютов, а над высокими кормами треплются прокопченные, исхлестанные до бахромы флаги.
Они швартовались, подлетая к причалу «самым полным» и только метрах в двадцати от него давая задний ход. Во всем их облике было что-то горделивое и отчаянное. Они возвращались потрепанные, но с победой – как солдаты. И капитаны знали, что не одна сотня глаз смотрит на них с берега, и это не было лихостью.
Девятый причал заселялся.
Под высоким бортом «Генерала Багратиона», домовито дымившего всеми трубами, густел молодой лесок мачт. Тральщики жались друг к другу, уступая место вновь прибывшим. Трюмы были раскрыты для проветривания, и стоило лишь потянуть ветру с моря, как по улицам расползался какой-то плотный и физически осязаемый запах рыбы, мокрых снастей и угольной гари.
Путина заканчивалась. Те, кто еще оставались в море, добирали поредевшую вялую камбалу.
Погода никак не могла установиться. То пригревало солнце, и с почерневших сопок к центру города, а оттуда в бухту неслись широкие потоки мутной воды; то наползал туман, и к вечеру разыгрывалась короткая весенняя метель, за ночь все снова покрывалось снегом, а по утрам грузовики обдавали прохожих с головы до ног тяжелыми фонтанами бурой жижи. А белые пятнышки льдин в бухте бледнели, принимая цвет воды. Но чем теснее набивалась судами бухта, чем многолюднее были улицы, тем просторнее делался город. В редкие солнечные минуты он яростно сверкал стеклами окон и мокрым асфальтом.
Уличная толпа все плотнее населялась черными фуражками с темными рыбацкими «крабами», озабоченно пробегали нарядные девчата в блестящих резиновых ботиках. И даже портовый гул загустел по-весеннему.
7
Камбальная путина заканчивалась. Даже если бы Феликс пытался до последнего использовать оставшиеся дни, чтобы наверстать упущенное, все равно «Коршуну» пора было вернуться с часу на час. Семен ждал. Ждал и боялся. Бледнея, он прислушивался к шагам в коридоре, раздававшимся в необычное время, натягивал плащ, уходил бродить по городу и спохватывался тогда, когда осознавал, что опять плетется вдоль причала и вглядывается в надписи на бортах судов. Изредка его окликали с какого-нибудь траулера. Он машинально отвечал и тащился дальше, переходя вброд лужи с радужными пятнами соляра и обрывками снастей.
Лес мачт сделался таким плотным, так тесно стояли суда, что бухты за ними уже не было видно. И казалось, что заснеженные скалы той стороны навсегда запутались в паутине штангов и талей. А рыбаки валили и валили веселой разношерстной толпой мимо Семена... Но все это были не те, кого ждал он.
Семен подходил к самой кромке воды. Сапоги по щиколотку впаивались в зыбкий песок. И легкая волна, подкрадываясь, тонким лезвием касалась голенищ. Было пусто в душе, и кружилась голова. Он не верил самому себе. Он даже взял билет на морской трамвай, чтобы убедиться еще раз. Выдержки хватило только до Сероглазки. Весь путь туда Семен простоял один, прижавшись спиной к рубке, бессмысленно смотрел в воду и не мог оторвать от нее взгляда.
Осунувшийся и посеревший, весь в липкой испарине, он сошел в Сероглазке, втянув голову в плечи и пряча в карманах плаща вспотевшие руки. С морем все кончено – это было ясно...
Назад он добирался автобусом.
Не настолько велик Петропавловск, чтобы человек мог в нем затеряться. Семен не прятался. Он просто ждал. А когда ожидание сделалось невыносимым, опять пошел в «Вулкан» за столик, что стоит справа у стены рядом с оркестром...
В комнате горел свет. Кто-то сидел на подоконнике.
Семен знает, кто зажег свет в комнате. Спешить больше некуда. Трезвея, он сел на грязную ступеньку крыльца, закурил и тянул папиросу, пока не загорелся бумажный мундштук. Потом пошел к себе.
Их было четверо. На подоконнике в плаще и в кожаных перчатках сидел Феликс. Его фуражка с коротким козырьком лежала тут же. На кровати Федосова полулежали Меньшенький и Кузьмин. Свои телогрейки они сложили на табуретку.
На кровати Семена поверх одеяла спал четвертый – Мишка. Он до самого подбородка укрылся старой, еще курсантской, шинелью.
– Здравствуйте, мальчики, – осипшим от волненья голосом сказал Семен с порога. Плащ был застегнут неправильно: уголок воротника мешал говорить. Он стал расстегивать его и не смог, потянул. Верхняя пуговица с мясом упала на пол.
– Привет, старина, – сказал Феликс, соскакивая с подоконника. Он шел к Семену, снимая перчатки.
Семен принялся стаскивать плащ. Не рассчитав, задел рукой умывальник. Вода полилась в таз.
– Я каждую ночь видел вас всех во сне, а Ризнича, кажется, наяву, – криво усмехнувшись, сказал Семен.
– Ф-феликс, – подал голос Меньшенький. – Мы зря не слопали крабов и н-не вып-пили коньяк. Я говорил, что он придет ч-чуть теплый.
Только сейчас Семен заметил, что на столе стоит ведро, из которого торчат бледно-розовые клешни вареных крабов.
Феликс не ответил Меньшенькому. Он цепко взял Семена пальцами за щеки. Диковатые глаза Феликса смотрели на него из-под припухших век. И Феликс показался ему далеким. Как в бинокле, если смотреть в него с другой стороны.
– Было очень плохо, старик? – тихо спросил Феликс.
Слезы мешали Семену смотреть. Он хотел сказать, что нельзя так долго болтаться черт знает где, хотел сказать, как ждал их и боялся. Но, помимо воли, из него перли какие-то другие, ненужные слова. Отбросив руку Феликса, он заходил по комнате, крича и размахивая кулаками, и нес чепуху.
Проснулся Мишка. Он сел на койке, тупо переводя взгляд с одного на другого, спросил;
– Чего он авралит?
Семен так бы и продолжал до утра, если бы не Кузьмин. Неожиданно просто тралмастер сказал:
– Давай посуду, Семен...
Нашлась только одна кружка. Свою Федосов увез в Рязань.
– Эх, молодо-зелено, – проворчал Кузьмин, вытаскивая из кармана пластмассовый складной стаканчик.
Семена силой усадили на кровать между тралмастером и Мишкой, еще не проснувшимся окончательно. Напротив устроились Феликс и Меньшенький. Ведро с крабами водрузили между коек на табуретке. Было тесно. Коленями Семен больно упирался в ребро табуретки. Феликс налил до краев обе посудины. И, поколебавшись, отставил стаканчик в сторону.
– Будем из одной, – объявил он и поднял кружку. – Старина, – обратился он к Семену, – мы неплохо тралили...
Семен перебил его:
– Костя, этот капитан не приходил в машину довертывать шурупы? – Он нажал на слово «этот». – Теперь капитаны знают, где и что довертывать!
Феликс нахмурился.
– За то, что мы снова вместе, – сказал он и выпил первым.
– Миша, – сказал Феликс Лучкину. – Ты останешься здесь. До нашего прихода. Твою вахту отстоят. Я скажу. А то этот осел начудит, на свою голову. Мы придем в десять. Нет, в одиннадцать, – поправился он, для чего-то посмотрев на часы.
8
Семен улетал домой. Это сделали Феликс и Меньшенький. Они пришли точно в одиннадцать. Феликс вынул из внутреннего кармана тужурки голубой авиационный билет и сказал:
– Твой самолет уходит завтра в пятнадцать часов по местному. Одевайся. Пойдешь с Костей в отдел кадров, потом в бухгалтерию. Тебе дали отпуск. Вещи мы с Мишей соберем.
Семен не сопротивлялся. Ему даже стало легче.
У автобусной остановки Меньшенький вопросительно посмотрел на него и хлопнул белесыми ресницами:
– М-может, п-пешком?
– Давай пешком...
Он обрадовался:
– П-понимаешь, все никак находиться не могу, соскучился...
– Пойдем пешком, Костя.
– Завидую тебе. – Голос у Кости был тихим и грустным, – На материк, домой поедешь... А мой дом здесь... Я даже в Москве только п-про-ездом был... В детстве...
– Может быть, я не вернусь, Костя.
Он испуганно глянул на Семена сбоку.
– С-семен, ты вернешься... Эт-т-то, – он неловко повел рукой в сторону бухты, – въедается. Вернешься, Семен. Только осенью, к самым штормам...
– Как ты думаешь – завтра погода летная будет? – спросил Семен.
– Улетишь. Часок продержат на аэродроме, и улетишь.
– Почему часок? Я знаю – сутками сидят.
– Ты полетишь с Елизова, там другое дело. Южняк потянет – и п-порядок...
Начальник отдела кадров Красиков, шумный, какой-то взбудораженный, с веселым ожесточением накинулся на Баркова. Семен думал, что его будут расспрашивать. Но Красиков тотчас усадил его за стол и хлопнул перед ним листком бумаги. Пока Семен писал заявление об отпуске – ручка была тонкой и перо царапало, – он несколько раз выбегал из комнаты, шумел в соседнем кабинете и носился по коридору. Потом выхватил заявление, едва Семен успел расписаться, и умчался снова. Семен ждал его минут пять.
– Вот! Поезжай, механик, – радостно засмеялся он, словно не Барков, а сам уезжал в отпуск. – Поздравляю! Повезло!
– Спасибо, – буркнул Семен.
– Ты что – не рад?!
– Почему же, рад...
Красиков повел его к двери, приятельски положив на плечо свою пухлую розовую руку.
– Да, – спохватился он и вернулся к столу. Молниеносно перебрал кипу бумаг, выдернул оттуда один серый листок, нашарил конверт, свернул бумажку вчетверо и сунул ее в конверт.
– Это тебе, механик, на добрую память, – хитро подмигнул он.
Семен сунул конверт в карман и пошел по коридору.
На улице он достал конверт. На папиросной бумаге был текст какой-то радиограммы. Листочек истрепался – его немало потаскали.
«СРТ «Коршун» Капитану Федорову.
Состояние товарища Баркова внушает опасенье тчк Категорически необходимо ваше присутствие тчк Врач Гамберг».
По закорючке вместо подписи принявшего Семен узнал радиста с «Коршуна» и усмехнулся, вспоминая маленького доктора.
В аэропорт ехали на такси. Чемодан положили в багажник. Моросило. Щелкал стеклоочиститель, размеренно мотались по ветровому стеклу щетки. Впереди качалась залитая талой водой дорога.
Меньшенький сидел рядом с водителем. На заднем сиденье – Мишка, Феликс и Семен. Кузьмин принимал сельдяные снасти и не поехал.
Они прибыли в два часа дня. Мишка и Меньшенький подхватили чемодан и отправились регистрировать билет и оформлять багаж. Уже подали автобус для выезда к самолету. Весь двор заполнили пассажиры. Чтобы не толкаться, Семен и Феликс отошли к киоску – там была лужа, и никто туда не подходил. На грузовике повезли вещи. Чемодан Семена лежал сверху.
Феликс проводил грузовик взглядом и произнес:
– Вещи повезли. Улетишь.
– Да, – сказал Семен, – наверно.
– Старина, – сказал Феликс, – ты должен вернуться. Делай что хочешь, но ты должен вернуться.
– Я должен только тебе – за билет.
Феликс огорченно покачал головой и прищурился, точно ему было больно:
– Я не прощу себе, если ты не вернешься. Нельзя оставлять все так, как сейчас. Иначе от нас всю жизнь будет нести дохлой рыбой...
Он помолчал, ожидая, что Семен что-нибудь скажет ему. Но Семен глядел в сторону. Тогда он сказал:
– Я говорил тебе, что Славиков и Мелеша тогда пришли ко мне в рубку, оба. Я говорил... Помнишь?
– Помню...
– Я послал их тогда к черту... Но, кажется, я понял, в чем дело, старик...
– Не полощи мне мозги, товарищ капитан...
– Я только хотел сказать, что это добрые парни. Четыре года мы не замечали таких парней. Понимаешь? В команде двадцать шесть человек, а мы всегда были только впятером. Брали рыбу – считали, что это мы: Кузьмин, ты, Меньшенький, Мишка и я. В пролове сидели – тоже на себя принимали. Вспомни-ка, Семен, кто-кто у нас только не толкался на судне! Сколько этих Кибриковых прошло через «Коршун»! Кибриков-то еще ладно – матрос. А Табаков? Что, не было среди механиков или на мостике таких? А мы привыкли. Лишь бы нас не касалось. Приходили такие, как эти десятиклассники, мы и их под одну гребенку... И в результате обделались по самые уши...
В глубине двора шумно задвигались пассажиры. Феликс заговорил торопливо: хотел успеть все сказать.
– Когда Ризнич вывел «Коршуна» на пеленг триста семь, было поздно что-то менять...
– Да, ты говорил об этом, – сказал Семен.
Феликс посмотрел ему прямо в глаза.
– Я в тот раз не все тебе сказал, старик. Я ничего не сделал тогда, не имел права. Но если бы я почувствовал, что все двадцать шесть наших парней заодно, я все-таки послал бы Ризнича к чертовой бабушке и с легкой душой пошел бы под суд...
Пронзительно засигналил автобус, созывая пассажиров. И хотя оба ждали этого, они вздрогнули и растерянно взглянули друг на друга. Феликс переступил в луже с ноги на ногу.
– Я пошел, Феликс?..
– Может, будет еще машина?
– Надо идти... Чем скорей...
– Пошли... Где наши парни?
Феликс не сказал самого главного, – может, потому, что не успел, а может быть, потому, что сам до конца понял это лишь сейчас, разговаривая с Семеном: так плавать и жить, как они делали это раньше, нельзя. Надо все начинать по-новому. На «Коршуне» нужно все переделывать, переделывать с азов.
Шагая рядом с Семеном через лужи к автобусу, он думал о «Коршуне», и, захламленный, какой-то измученный, с ослабевшим такелажем, с захлестанными коридорами и каютами, со всей своей неразберихой, траулер показался Феликсу не пепелищем, а целиной, которую предстоит осваивать ему. И впервые в глубине души еще неосознанно он почувствовал себя капитаном.
Меньшенький и Лучкин нервничали возле автобуса. Костя сунул Семену билет и посадочный.
– С-счастливо, второй... Привези помидорчиков красненьких, а лучше арбуз, б-большой. – Меньшенький развел руками. – Вот такой!
– Можно и помидорчиков и арбуз, – солидно поправил его Мишка.
– Ладно, Костя, привезу арбуз с тебя ростом. До свиданья. Пока, Миша...
Он уже занес ногу на подножку. Перепрыгивая через лужи, к автобусу бежала женщина в форменном берете и летной куртке. В руках у нее трепетали белые списки пассажиров.
Она подтолкнула Семена в спину, он влез и оглянулся.
– Возвращайся, старина! – крикнул Феликс.
Автобус тронулся. Дорога на взлетную полосу огибала аэровокзал. Ребята пересекли двор вокзала и вышли к дороге. Семен еще раз увидел их. Они стояли на краю кювета, залитого водой, засунув руки в карманы плащей, и неулыбчиво смотрели на удалявшийся автобус. Где-то над ними едва угадывалась заснеженная громада Авачинской сопки. Моросило...