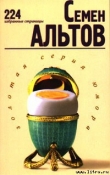Текст книги "Пеленг 307"
Автор книги: Павел Халов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Пешим порядком в Петропавловск собираешься?
– Старая привычка, навертывать портянки как следует... – отозвался не разгибаясь Семен.
– Не раздувай ноздри, старина.
– Ты видел?
– А что нужно было видеть?
– Как Меньшенького толкнули на камбузе?
– Кто его толкал, Сенька?
– Кибриков... Не прикидывайся.
– Мне нечего прикидываться – я не видел, но теперь мне все понятно.
– Хорошо, – Семен потопал ногами и распрямился. Они стояли друг против друга. – Если понятно, тогда нужно вышвырнуть к чертовой матери эту шпану!
– Вышвырнем – я тебе обещаю. Но кто сейчас сможет доказать, что Меньшенького толкнули, а не он сам лобанулся на палубу – в море качает. И еще одно...
– Что?
– А то, что я уважаю кодекс законов о труде – прочти его внимательно. Там нет такой статьи, но самое главное, что в нем толкуется, – это чтобы люди, поработав, не только испытывали усталость и переваривали обед, но знали, во имя чего они работают. Они пришли сюда не только зарабатывать, но и работать. Понимаешь – работать, а не кататься по морю и таскать пустой трал с борта на борт. План нужен – до зарезу. Мы не дадим, «Красное знамя» не даст, «Ветер» промажет – кто же даст рыбу? Но нас держат в этом районе, а мы ни черта не можем с этим поделать. Хотел бы я по душам поговорить с тем, кто составлял промысловый прогноз. Дай людям перспективы, и никто не станет бросаться лапшой. По-моему, так...
4
За шесть лет плаванья у Семена выработалась привычка упираться во время сна головой и ногами в переборки. Это получалось инстинктивно. Шесть лет назад Семену приходилось подкладывать между подушкой и стенкой коробку с шахматами. Во время шторма шахматы гремели. А сейчас он только чуть-чуть вытягивался, и тело при бортовой качке не елозило по постели. Но спать приходилось всегда на спине. Когда спишь на спине – снятся сны. Он научился просыпаться за двадцать минут до вахты. Пять минут он лежал, глядя в потолок и пытаясь вспомнить, что ему снилось. Потом вскакивал, одевался, шел на камбуз. Три минуты на одеванье, три – на туалет, семь – на еду и первую папиросу. За минуту до нужного времени Семен уже спускался по трапу в машинное отделение.
У машинной команды свое летосчисление. «Когда это было? Помнишь, сгорело динамо – в тот год» или «стосильный перебирали в рейсе – тогда».
Стаж работы исчислялся так – ухожу в отпуск, значит – три года Камчатки за спиной. Второй отпуск – шесть лет. Четвертый – двенадцать. Семен знал одного стармеха, который улетал на материк в шестой раз. Это уже живая история...
Там, где родился и вырос Семен, самой большой водой считалось Камышовое озеро. Местами его ширина достигала двухсот метров. Туда ездили ловить золотистых ленивых карасей и стрелять уток. Дробь, рикошетируя, щелкала по камышам на противоположном берегу. О море Семен читал в книжках. У него, водителя разъездной полуторки, и в догадке не было, что когда-нибудь он станет смотреть на море, как смотрит на дорогу, которая каждый день шуршит под колесами и плывет куда-то вниз, под радиатор.
Крутились колеса, оседала за кормой грузовика жирная степная пыль. Все туманнее становились воспоминания о грозных и голодных военных годах. Жизнь шла благополучно. По крайней мере так казалось Семену. Он работал, уставал, дни проходили без его вмешательства. Но иногда в город приезжали загорелые, с шелушащимися от солнца и ветра губами, с выгоревшими добела волосами парни и девчонки, с которыми он учился в школе. Семен с трудом узнавал своих товарищей. Они собирались вместе, ходили стайками, захлебываясь и перебивая друг друга, рассказывали о Москве, о Казахстанских степях.
Наслушавшись, Семен мучился по ночам. Страстно, по-мальчишески завидовал им. Курил в темноте папиросу за папиросой, гася окурки о железную ножку кровати. Приходила мать. Она включала настольную лампу и вглядывалась в лицо сына с тревогой и озабоченностью.
– Ты что, Сеня? Заболел никак?
– Нет, мам... Здоро-ов...
Мать гладила его по волосам, по лбу и тихим, грустным голосом рассказывала, как отец был на войне, а она ждала его. Как пуще глаза хранила сына. И сохранила – не хуже, чем у других. Одни уезжают – кто-то должен остаться и здесь. Говорила, что она рада – теперь все вместе живут и ничего ей больше не нужно, только бы видеть, как они – Семен с отцом уходят на работу...
Семену было горько оттого, что мать все понимала, но не пробуждала в нем той решительности, которой так недоставало ему.
А утром, когда он уходил на работу, – ласково светило яркое степное солнце. И он знал, что в совхозе, куда он повезет сегодня шефов на прополку, Томка-звеньевая будет смеяться счастливым мягким смехом, закидывая назад черноволосую голову и подставляя его поцелуям загорелую высокую шею.
Вечером, угоревший от горьковатого полынного запаха ее волос, Семен подолгу торчал в гараже, чтобы не встречаться с приезжими.
Отец молчал. Семену было понятно, что и он выжидает. Не раз он замечал, что отец хмуро поглядывает на него из-под очков. Но делал вид, что не замечает этих взглядов. Отец хмурился все больше и больше. Вечерами скучно говорил о своей механической... Но не вмешивался в дела Семена.
За неделю до начала занятий в институтах молодежь уезжала. Надышавшись степным воздухом, набегавшись, парни садились в вагоны и смотрели на тех, кто остается, веселыми, но уже далекими глазами.
Семен отвозил их на станцию. Поезд трогался. За вагонами бежали родные, продолжая давать наказы и советы. А Семен, стоя у остывающей машины, чувствовал, будто и он что-то теряет. Бросить бы все и уехать. Вот так же вскочить на подножку проплывающего мимо вагона и так же без сожаления махать рукой оставшимся на перроне. А потом, прижимаясь пылающим лбом к стеклу тамбура, считать летящие навстречу телеграфные столбы. «Но нельзя же оставить машину», – успокаивал он себя. Не дожидаясь, пока поезд уйдет за семафор, он забирался в кабину, нетерпеливым гудком скликал провожающих и гнал машину домой...
Потом все постепенно забывалось. Семен надевал выходную голубенькую безрукавку и отправлялся на танцы в парк. Парк носил странное название «Имени Трехсот борцов». И город снова становился для него дорогим и понятным.
Шло время. Пора было жениться. Об этом осторожно и все чаще заговаривала мать. Но Семен ни разу не подумал о Тамаре из совхоза. В Горске он встречался с Майей, тихой, хлопотливой украинкой. Она приехала в Горск из того же совхоза, в котором жила Тамара, училась на курсах, потом стала работать в городской автоконторе.
Для молодых готовили комнату в доме Семена. У Майи не было родителей – они погибли во время войны. Она воспитывалась где-то в детдоме. Семен был далек от того, чтобы считать себя благодетелем. Да ему бы и не позволили этого. Но в душе он испытывал гордость за свое бескорыстие. Он и женился бы и народил бы детей. Но...
В субботу, после работы, они вдвоем пошли на танцы. Нестройно играл жидкий духовой оркестр. Кружились пары, одетые в вискозный шелк Аннушки, Наташи и Наденьки осторожно опускали натруженные руки на шевиотовые плечи и зеленые солдатские погоны партнеров и кружились, полузакрыв глаза.
К Майе подошел невысокий тоненький парень, почти мальчишка, в серой спортивной куртке. Приглашая ее, он вежливо склонил лобастую голову. Семен, нервничая, следил за ними. Ходил пить пиво. И, сдувая плотную пену, исподлобья поглядывал вокруг. Парень пригласил Майю снова. Танцевали они почти не разговаривая, но, вернувшись к Семену, Майя сказала:
– Знаешь, кто это?
– Кто? – угрюмо спросил Семен.
– Моряк из Петропавловска. С Камчатки...
Танцы длились до часу ночи. И моряк еще раз пригласил Майю. Семен хотел было послать его подальше, но моряк так обезоруживающе приветливо и в то же время предупреждающе улыбнулся, что Семен не произнес ни слова. Домой им оказалось по пути. Шли молча. Семен и моряк по краям. Майя – в середине.
– Вам понравилось у нас? – тихо спросила она.
– Да. Хороший город, – ответил моряк. – Степью пахнет. Я уже забыл, как пахнет степь – все рыба, соляр да плесень. Солнце у вас. – Моряк говорил негромко, но весомо, точно знал, сколько стоит каждое сказанное им слово. И фразы строил как-то отчетливо, договаривая до точки.
Семен растерялся. Он чувствовал, что за плечами у этого парня лежит громадный и еще неведомый ему, Семену, мир: то, что всегда настораживало Семена в его школьных товарищах. Семен выпустил локоть Майи. Он догадался, что ей стало легче от этого.
Все шло своим чередом. Семену шили костюм, заказывали Майе подвенечное платье. Подсыхали в комнате веселые оранжевые полы. Но Семен видел, что с Майей что-то творится. Дважды он не застал ее вечером после работы в общежитии. Дожидаться, когда она придет, не позволила гордость. Встретились они нечаянно возле конторы строительного участка. Майя покраснела и, сославшись на то, что ее ждет подруга, убежала.
На другой день Семен пораньше загнал машину в гараж и отправился к автоконторе, где работала Майя. Она, занятая своими мыслями, медленно прошла мимо Семена.
– Майя! – окликнул он ее.
– А, Семен... Здравствуй, – не то обрадовалась, не то испугалась Майя.
Он хотел взять ее под руку.
– Не надо, Сеня, – попросила она.
– Маинька, что с тобой?
– Ничего... Устала немного.
– Ты бы зашла, взглянула, как жить будем...
Внезапно Майя остановилась, смятенно взглянула на Семена. Лицо ее стало бледным.
– Сеня... Милый... Ничего не будет, – едва слышно прошептала она. – Гадкая я, не люби меня... Прости, Сеня. Но ничего не будет... Неужто ты не видишь, неужто не видишь?.. – Майя закрыла лицо руками и заплакала. Плечи ее вздрагивали. – Слепой ты, что ли, не видишь...
Семен несмело тронул пальцами ее за локоть.
– Майя...
Она доверчиво уткнулась мокрым лицом ему в грудь.
– Ну, перестань... Ну, объясни, – бормотал Семен, не в силах пошевелиться от того, что все уже понял.
– Что мне делать, Сеня? – всхлипывала она.
– Он уехал? – глухо спросил Семен.
Майя кивнула головой.
– Приедет?
– Адрес оставил, сказал, что ждать будет...
Больше Семен ничего не слышал. Ошеломленный, ослепший, он широко зашагал прочь. Ему хотелось вернуться, закричать на нее. Но где-то под тяжестью боли и ненависти, слепивших ему глаза, брезжила мысль, что надо сделать что-то решительное, сделать сегодня, сию же минуту.
Двадцать пятого сентября утренним поездом он уехал в Хабаровск. Трое суток понадобилось там, чтобы завербоваться и оформить все документы. Ночью он улетел в Петропавловск-Камчатский. Он должен узнать, что же такое мятежное и тревожное привез с собой моряк.
Семен начал с того, что пошел в море машинным учеником, была такая должность на неуклюжем и ржавом лесовозе «Пенза», спущенном на воду в незапамятные времена. Пароход тащился, поскрипывая всеми суставами, через Охотское море, пахло на нем совсем по-домашнему – лиственницей и дегтем. И команда была какая-то лесная – неторопливые, пожилые дядьки. Освободившись от вахты, они по самое горло наливались в кубриках чаем и тосковали по дому. Под стать им оказался и капитан. Бывший двухсоттонник, получивший за тридцать лет исправной службы диплом штурмана дальнего плавания и состарившийся, он редко появлялся на мостине, доверяя во всем своему старпому – нелюдимому старику Захарычу. Оба были чуть ли не из одного приморского села. И даже на мостике звали друг друга – «Кузьмич», «Захарыч».
Изношенная машина «Пензы», сопя и плюясь маслом, могла дать около шести миль в хорошую погоду. Зато так выматывала машинистов, что, придя в кубрик, они едва могли раздеться и тут же валились по своим койкам.
Единственное исключение составлял третий помощник капитана Василий Васильевич Жихарев. Маленький, подвижный, с острыми глазами под низко опущенным козырьком фуражки, он беспрестанно курил и носился по всему пароходу. Лет ему было столько же, сколько Семену, если не меньше. Словно бросая вызов домашности, царившей на «Пензе», он всегда был одет строго по форме, накрахмаленный воротник белоснежной сорочки впивался в его бурую литую шею так, что казалось, если, он неосторожно повернет голову, то обрежется. Жихарев ни к кому не обращался по имени, никого не похлопывал по плечу. Он смотрел подчиненному прямо в зрачки и требовал четкого повторения своего приказа.
«Пенза» бросила якорь на рейде Петропавловска. Порт был занят разгрузкой рефрижератора. Семен сидел на баке, свесив ноги за борт. Жихарев остановился возле него. Они разговорились.
– Беги отсюда, машинист, – грустно сказал он Семену. – Прокиснешь... Хоть на баржу. Ей-богу, не прогадаешь – на всем флоте больше такого курятника нет... Эх, я бы вот на такой сучок, – Жихарев показал кончик мизинца, – улепетнул... Скоро курсы мотористов откроются, запиши для памяти.
Он докурил папиросу, швырнул ее за борт и ушел к себе.
Семен поступил на курсы. Они были очень похожи на курсы шоферов. Здесь он встретил старых знакомых – моторы и дизеля. Они так же стучали, работали почти по тем же законам, что и автомобильные двигатели, только вместо карбюраторов на них стояли форсунки, да больше было труб и патрубков, а меньше – проводов. И было странно видеть в этом совсем земном учреждении людей с тусклыми «крабами» на фуражках...
По окончании учебы Семена направили на только что спущенный на воду СРТ «Коршун» – мотористом. И тут он увидел море вблизи. Это было в бухте Северной. Оставляя широкий пенистый след и как будто подминая под себя зеркальную воду бухты, «Коршун» втягивался в гирло. Сзади, за кормой, море было бесконечным. След уходил туда и терялся почти у самого горизонта. И Семену не верилось, что он, Семен Барков, пересек это море.
Справа и слева к воде уступами падали заснеженные скалы, такие высокие, что хотя и находились на большом расстоянии, были выше мачты траулера.
Собиралось взойти солнце. Над морем оно уже взошло. Но здесь, в бухте, ему мешали скалы. Над водой поднимался туман. У берегов он лежал узкой плотной пеленой. Туман отсекал скалы от воды и словно держал их на весу. И казалось, что не «Коршун», населяя бухту отчетливым гулом дизеля, идет к ним, а они сами, чуть покачиваясь, плывут по воде к неподвижному судну.
С бьющимся сердцем Семен стоял у борта и смотрел, смотрел. Но его позвали в машину. Он сепарировал топливо, поливал маслом коромысла клапанов: старая, знакомая еще по Горску работа. Никак не вязалась она с тем, что он видел. Море требовало большего, как он думал, и совсем иного. Но ничего другого Семен не умел делать.
Иногда, шатаясь по оживленным улицам Петропавловска, он чувствовал себя необыкновенно сильным. К теплому машинному запаху, исходившему от его рук и щек, примешивался необъяснимый запах свежести. Он знал, что это запах моря.
Глава вторая
1
Маленькое окошко занавешено маминым темным платком. Я знаю этот платок. Ему лет восемь. Он появился еще тогда, когда я задумал жениться. Тогда мама и купила себе этот платок – теплый, громадный. В нем она становилась серьезной и строгой. Вместо кистей с краев платка свешивались какие-то короткие колбаски. Они постукивали друг о друга.
В соседней комнате разговаривали. Ступая босыми ногами по прохладным половицам, я ощупью нашел выход из спальни. Голос отца я узнал сразу – он не умеет говорить тихо.
– Да ты не плачь, стара. Не плачь. Все образуется. Приехал человек домой, а ты его оплакиваешь, – говорил отец, неуклюже поглаживая мамино плечо, – они сидели боком ко мне на низенькой скамейке и не видели, как я вошел. Мама не отнимала полотенца от глаз.
– Болен... может, и болен. Когда я с фронта вернулся, меня полгода припадки били. Помнишь? Думали – падучая. А вот зараз ничего. Семен взрослый мужик. Мало ли чего не бывает. Пережил что. Погодь, сам расскажет. Молочка парного попьет, огурцов поест, в степь съездит и расскажет...
– Здравствуйте, тату... – сказал я.
Отец засуетился, вскочил. Потом приосанился и снял очки.
– Здравствуй, сынок...
Мы обнялись. Щека у него была твердой и колючей. Его мокрые волосы коснулись моего лица – отец только что умывался. У нас одинаковые волосы – прямые, свисающие на лоб, соломенные. Только у отца они поредели и сделались сивоватыми. А высоко подбритые виски его стали совсем седыми. Отец взял меня за плечи и повернул к свету.
– Здравствуй, сынок, – серьезно повторил он и вдруг озорно встряхнул меня и молодо улыбнулся.
В дороге, еще подъезжая к Архаре, я открыл свой чемодан,, чтобы достать полотенце и мыло. Под полотенцем оказался солидный сверток. Я развернул его. Это были две бутылки вина с необычно яркими наклейками. Одна темная, длинная, похожая на зенитный снаряд, другая – восьмигранная с коротким горлышком. Она была оплетена золотыми шнурами. Я растерянно стоял над чемоданом, держа в руках обе бутылки. Как они могли попасть ко мне? Я подумал, что перепутал чемоданы. Но полотенце было мое. Я поставил бутылки на столик и стал осторожно рассматривать бумагу, в которую они были завернуты. Поперек всего листа размашистым почерком Феликса было написано: «Нехорошо, старина, ехать к отцу без подарка, достойного солдата».
– Папа, это, по-моему, достойно старого солдата, – сказал я, ставя вино на стол.
Среди эмалированных мисок и тарелок с милыми голубыми цветочками на дне, среди яиц и желтого прошлогоднего сала, рядом с щедро нарезанной селедкой, две эти позолоченные заграничные гостьи чувствовали себя неловко. Их содержимое мерцало угрюмыми огнями. Отец потоптался вокруг стола и потянулся за кепкой.
– Ты куда? – спросила мама.
– Кликнем кого, мать? – неуверенно сказал он. – Федора, Николаича с Мариной... Алешку... Вместе работаем, – объяснил мне отец. – Ну как, мать, а? Я мигом...
– Может, сами будем? Семен приехал, – тихо откликнулась мама.
– Тату, зовите, – помог я ему. – Это хорошо, что люди будут.
Они вежливо снимали кепки, старательно вытирали ноги и, перешагнув через порог, почтительно здоровались, И во всем этом чувствовались весомость и достоинство. Было похоже, что эти люди и дома вели себя точно так же.
– Здравствуй, Герасимовна. Не помешаю?
– Будь здоров, Федор. Милости прошу...
– Добрый вечер, соседка. С гостем тебя!
– Вечер добрый, сосед... Проходи, Алеша... Знакомьтесь, – мама отвечала тоже степенно и с достоинством.
У них были темные пористые лица. Я ловил на себе их короткие, испытующие взгляды и пожимал крупные руки. Только Алешка, паренек лет девятнадцати, с откровенным любопытством и, как мне показалось, с завистью посмотрев на меня, подал юношески упругую незаматеревшую руку.
Гости рассаживались, и было ясно, что у каждого здесь свое, раз навсегда отведенное ему место. Я сел рядом с отцом. Напротив – высокий лысоватый Николаич с Мариной. Сбоку – Федор и Алешка. Федор аккуратно расчесывал жиденькие волосы. Алешка неуклюже сидел на краешке стула, спрятав руки под стол. Он один был здесь редким гостем.
Федор – завгар мелькомбината. Они с отцом провоевали всю войну в одном автобате и считались в поселке почти братьями. Николаича я помнил с детства. Он белобилетник. Если бы не он, мы с матерью погибли бы с голодухи в сорок четвертом, как тетка Надя.
Все переговаривались, до меня долетали только обрывки фраз. И я ничего не мог понять из того, о чем они говорили. Я только подумал, что если есть за этим столом кто-нибудь лишний – так это я. Мне стало грустно. Они принесли сюда свой мир, свои слова. Они все были объединены так, что мне словно бы и не было места.
– Что, мать, смотришь? – неожиданно спросил отец.
– Уж больно вы похожие, – прошептала она.
У отца заблестели глаза. Он гордо покосился на гостей и рассудительно сказал:
– Иначе и быть не может. Сын. – Он обнял меня, и мы оба рассмеялись.
Вино разливали в стаканы. Я много слышал про искрометное вино. Но я ни разу не видел в вине искр. А это действительно было искрометным. Против света оно казалось багровым и пылало. Сбоку становилось коричневым, с солнцем в середине. А если смотреть на него со стороны света, оно нежно и умиротворенно яснело.
Отец осторожно пригубил стакан.
– Да, брат... – протянул он. – Вещь... А я было на всякий случай резерв подготовил. – Под общий смех он вытащил из кармана штанов поллитровку «Московской».
Густой аромат вина не мог побороть знакомого мне машинного запаха, исходившего от них. Этот запах неистребим. Можно семь шкур содрать в парной с человека, одеть его в чистую, только что из комода рубашку, но стоит ему войти в комнату, как тотчас запахнет машиной. Я знаю это по себе.
Мы пили вино и закусывали селедкой. Федор, доставая вилкой селедочный хвост, спросил меня:
– Надолго в отчий дом, племяш?
– На полгода... Отпуск.
Он недоверчиво посмотрел на меня.
– Да, на полгода. Камчатский отпуск, – повторил я, – за три года.
– Добре-е! Только ведь трудно поди полгода-то отдыхать? Трудно...
– Одолею, – усмехнулся я.
– Невмоготу станет – приходи. Найдем дело так, чтоб в полсилы.
– Хорошо, – сказал я. – Приду...
Провожали гостей мы вдвоем с отцом. Стояла многозвездная высокая ночь. Голоса растворялись в тишине. Отец обсуждал с Федором и Николаичем свои дела. Алешка шел рядом со мной, сопел, вздыхал и явно хотел заговорить, но так и не решился. На прощанье он долго жал мне руку.
Мама налила в таз горячей воды. Я вымыл голову. Она принесла мне большой костяной гребень.
– На вот, сынок. Почеши, почеши – голова дово-о-льная станет...
2
Сколько я помню, мама мечтала о корове. Не просто о корове, а о «Зорьке» – такой рыжей с белым пятном на лбу. Во дворе она даже отвела место для стойла. Она исподволь вела с отцом разговоры о том, как хорошо по утрам пить парное молоко, особенно ему, механику, человеку железной профессии, – и душу размягчает, и здоровье крепче делается. Но отец разгадал ее «хитросплетенья».
– Запомни, Настя, раз и навсегда – никаких рогатых и копытных. Не позорь меня, – заявил он необыкновенно резко. – Я рабочий человек, обрастать обозом нам не к лицу. Сперва куры, потом поросенок... Теперь корова, а там, глядишь, и конягу вислопузую на двор приведешь. Войну без коровы прожила...
Корову так и не купили. Каждое утро нам носят молоко. Ровно в половине восьмого появляется кургузая бабенка с двумя сияющими бидонами. Молоко еще теплое. И когда с бидона снимают крышку, оно пузырится. Спросонья пьешь его большими глотками, и кажется, что тело наливается бодростью.
Отец уходит на работу, а мы с мамой берем тяпки и отправляемся в огород окучивать картошку. Солнце пригревает так, что приходится снимать сначала рубашку, потом майку. Я отвык от солнца и с наслаждением подставляю ему обнаженные плечи и спину. От рыхлого чернозема исходит удивительно легкая, какая-то весенняя прохлада. Иногда над огородом пробегает едва ощутимый ветерок. Он приносит из степи запах полыни.
Мы с мамой работаем в нескольких шагах друг от друга. Время от времени она распрямляется – то подвязать косынку и убрать со лба волосы, то просто передохнуть. Мы взглядываем друг на друга и молча улыбаемся.
К обеду у меня горели ладони и болела спина. И всю ночь мне снилось, что в руках я держу раскаленный лом, которым скалывал лед на «Коршуне». Но на другой день стало легче. Работа подвигалась быстро, и я уже начинал подумывать, чем буду заниматься потом, когда на огороде все будет сделано. Одно мне было совершенно ясно: ни на минуту я не должен был оставаться наедине с самим собой.
В эти дни отец не обедал дома и возвращался из механической поздно. Мама сказала:
– Время, сынок, горячее подходит. Мелькомбинат принимать урожай с полей должен. Отец с Федором и Николаичем что-то там придумывают по ремонту машин. Три самосвала стоят, поломались, что ли, полуоси, а новых нет.
– Откуда вы знаете, мама, эти вещи? – удивленно спросил я.
– Как откуда? На земле же я живу! – ответила она. – Погоди, и ты скоро все будешь знать – этим весь поселок дышит...
3
На третий день мы закончили окучку. Я обошел весь двор. В одном месте покосился заборчик.
– Мама, где у нас молоток и гвозди?
– Аль забыл – в чуланчике. Там отцов инструмент.
– Забор надо подправить.
– В чулане, Сенечка...
Я не забыл про этот чуланчик. Еще когда я был маленький, попасть туда было заветным желанием. Но даже в тяжелое военное время мать ни на шаг не подпускала к нему никого. Лишь иногда она собственноручно выдавала мне топор или молоток. И вот я в чулане. Здесь чисто и тихо. Пахнет горячими сосновыми досками. Из-под крыши двумя острыми ослепительными лучами проникает солнце. Я вошел. С полу поднялась пыль, и лучи дымятся. На полочках аккуратно поставлены ящики с инструментами. Во всю продольную стену прибита планка с отверстиями – в них вставлены долота, отвертки, большие пассатижи, молоточки, молотки и молоточища, напоминающие кувалды, внизу – железные банки с гвоздями, гайками и болтами.
Мое внимание привлекает широкая плоская коробка с белой пластинкой на крышке. Я открываю ее – надежно, как оружие, поблескивают удобно расположенные в гнездах кронциркуль, микрометр, штангель. Это премия отцу. Я бережно задвигаю крышку. На верхней полке среди железного хлама мерцают обе бутылки из-под бордо, стоят мои старые самодельные санки, самодельные коньки, связанные бечевкой.
Любая семья хранит свою историю по-разному. У одних – это пухлые, битком набитые фотографиями альбомы, у других – вещи, родные с незапамятных времен. Чулан отца – архив нашей семьи. Всю ее историю можно прочитать по инструментам. Здесь есть чудной фигурный молоток с дореволюционным клеймом Путиловского завода, аляповатые и неудобные ключи тридцатых годов, самоделки военного времени и ловкие инструменты последних лет. Здесь вся биография моего отца и, пожалуй, моя. Взять хотя бы эти коньки и санки. Если порыться – можно найти все игрушки, которые были у меня в детстве, и, вероятно, тот первый болт, который я нарезал под руководством отца... Ни он, ни мама никогда не выбрасывали ничего металлического, что носило на себе следы человеческой руки. Я знаю, что отец страдал, когда видел, как в канаве ржавеет флянец или гайка. Он обязательно поднимал ее, обтирал и складывал потом в эти железные банки под верстаком. Они совершенно были ему не нужны. И подбирал он их не от жадности. Время от времени он относил свои сокровища в механическую – там находилось им применение. Но через полгода банки под верстаком наполнялись снова.
Я нашел гвозди, подобрал молоток. Пора было уходить. Но я все медлил. Мне показалось, что никогда я не понимал отца своего так хорошо, как сейчас. И не только отца. Сердце у меня билось тревожно...
Потом я вышел из чулана. Мама кормила поросенка.
– Мама, знаете что... Бросьте все, и пойдемте в город! Ладно?
– Что случилось, Сеня? – встревожилась она.
– Ничего не случилось, маманя... Вы все узнаете, только скорей пойдем.
– Куда идти-то?
– В город, маманя. На почту, – сказал я.
– На почту?
– Да пойдемте же, – взмолился я.
– Ну, хорошо, сынок, ну, хорошо... Я иду...
Пока она умывалась и повязывала голову платком, в комнате под койкой я нашарил свой чемодан. Рубашку, галстук, носки я вытряхнул на покрывало... Сверху упал небольшой плотный сверток. Я сунул его в карман.
Забывшись, я шагал широко, и мама не поспевала за мной. Я останавливался, поджидал ее. Она семенила по тротуару и с тревогой поглядывала на меня.
У почты я посадил ее на скамейку так, чтобы солнце не мучило ее.
Операция предстояла не сложная, но долгая. В Петропавловске меня продержали у окошечка целый час. И тут пришлось ждать.
Веснушчатая девчонка в белой сатиновой кофточке, расставив острые локотки, принялась старательно писать. Потом орудовала ножницами. Минут через тридцать сказала:
– Владелица должна предъявить паспорт и расписаться вот тут и тут.
– Хорошо, – ответил я и отправился за мамой.
Еще ничего не понимая, мама вышла на улицу, держа в руке серую книжечку. Она посмотрела на меня.
– Это вам, маманя, – сказал я.
Она раскрыла книжечку, перевернула листок и стала читать, беззвучно шевеля губами.
– Спасибо тебе, сынок! – сказала она. – Вам с отцом на эти деньги я справлю по хорошему костюму. У тебя ведь нет хорошего костюма?
– Нет, мама, это вам. Здесь хватит и на корову, и потом вы с батей поедете куда-нибудь в отпуск – на родину или в Крым.
Мы долго молчали и медленно шли по тротуару рядом. Потом она остановилась и торопливо, точно спохватившись, заговорила:
– Ты не сердись, Сенечка. Я не могу... Не могу я принять такие деньги. – Она стала совать книжку мне в руки. – Ты, милый, не обижайся. Они тебе самому нужны будут. Пригодятся... Ты уж прости меня, старую, – не могу я...
Мне стало обидно:
– Неужели вы думаете?..
– Нет, нет, – перебила она. – Господь с тобой, сынок! Я ничего не думаю. Ты трудился, без отдыха и срока. Замерзал где-то там, недоедал, недосыпал... Вон – седеть начал. – Ее глаза наполнились слезами. —А я... Пойми, сынок, не могу я...
Дрожащими руками я начал вытаскивать из карманов свои бумаги – паспорт, диплом, расчетную книжку, – они были в одном свертке с аккредитивами...
– Вот, маманя, смотрите – тут написано, сколько мне заплатили. Вот тут, – тыкал я пальцем в расчетную книжку. – Вот тут, вот...
Она отвела мои руки в сторону. По ее впалым мягким щекам катились слезы.
– Сенечка, – бормотала она. – Как ты можешь так! Не хочу я читать. Неужто я, мать, – и не верю своему сыну. Пойми ты, не в этом дело... Не могу я!
– У меня есть еще! Целых семь тысяч – на всякий случай. А эти... Помогите мне, маманя... – прошептал я.
Она молчала и смотрела в сторону. Потом сказала:
– Хорошо. Я возьму. Но дай мне слово, что в любой момент, когда я решу, ты возьмешь их обратно.
– Идет, маманя!
Всю дорогу домой мне хотелось дурачиться. Мне было легко, словно я только что родился. Я тормошил мать, шутил и, сам не зная чему, смеялся. А мама шла рядом, задумчивая и притихшая...
4
Это самое тихое время на земле.
Небо яснеет и яснеет. Четыре часа утра. Сейчас в подсолнухах рождаются сладковатые молочные семечки. Ночь еще вязнет в недвижных кронах тополей и клубится у заборов. Воздух весом и терпок. Его можно пить: мелкими капельками он оседает на щеки и губы.
Я стою в одних трусах на темных от росы гладких досках крыльца. По листьям тополей щелкают тяжелые капли. Иногда тополя роняют капли к своим корням. Они падают с мягким стуком. Мгновенье они лежат и, блеснув, неслышно уходят в землю. Какую-то долю секунды земля в этом месте влажно светится. Потом уже не отыскать, где упала капля.
Доски под ступнями ног нагрелись. Трудно заставить себя шагнуть на дорожку, по которой сегодня еще никто не успел пройти. Темные острые листья кукурузы задевают голые ноги. От росы ноги мокры до колен. По икрам стекают холодные ручейки. На полпути я останавливаюсь, чтобы посмотреть назад. Кукуруза и подсолнухи до самого карниза скрывают от меня фасад нашего дома. Я чувствую себя так, словно открываю мир. Как в детстве – шаг за шагом. И если делаю несколько шагов подряд – мне начинает казаться, что я ушел страшно далеко. Найду ли дорогу назад?..