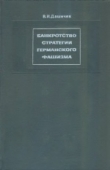Текст книги "Происхождение фашизма"
Автор книги: Павел Рахшмир
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Экстремистские тенденции в верхах и среди мелкой буржуазии представляли собой явление международного масштаба. Но, естественно, степень их остроты в тех или иных странах определялась национально-исторической спецификой, зависела от того, насколько велика была угроза классовому господству буржуазии, от соотношения сил между сторонниками либерального и консервативного курса, от того, в какой мере пошатнулись позиции мелкобуржуазных слоев. Последствия войны выразились не столько в вымывании мелких предпринимателей, ремесленников и торговцев, сколько в углублении разрыва между этими социальными категориями и крупным капиталом. При незначительном колебании количественного состава мелкой буржуазии быстрее уменьшается ее удельный вес в экономике. На фоне монополистических гигантов мелкие предприниматели и торговцы особенно остро ощущали собственную слабость, испытывали своего рода комплекс социальной неполноценности.
Уровень доходов мелких буржуа все более и более приближается к заработной плате рабочих. Это же можно сказать и о жизненном уровне служащих, количество которых значительно выросло. В Германии в 1913–1925 гг. средняя зарплата рабочих в промышленности, торговле и на транспорте изменялась в пределах от 1085 до 1825 марок в год, у служащих – с 2000 до 2600. Среднегодовой доход ремесленников и мелких торговцев колебался от 3 тыс. до 4 тыс. марок. Между тем средний размер ежегодного дохода 300 тыс. более крупных предпринимателей, акционеров и руководящих служащих, по данным на 1928 г., оценивался в 25–30 тыс. марок{162}. Мелкие буржуа и служащие более всего страшились потерять свой социальный статус, пролетаризироваться. Хотя нивелировка материального положения рабочих и служащих шла довольно интенсивно, «пролетариат в накрахмаленных воротничках», по словам германского социолога веймарских времен В. Шенемана, не хотел отказываться от «социальной дистанции по отношению к рабочим»{163}.
Особенно болезненные психологические потрясения вызвал крах довоенного мира, казавшегося теперь на фоне революционных потрясений «золотым веком уверенности», в германском «миттельштанде», т. е. среднем сословии – «конгломерате социальных групп, включавшем мелких рантье, чиновников, мелких предпринимателей, ремесленников и розничных торговцев»{164}. Гогенцоллерновский рейх во многом соответствовал их идеалам государственной мощи, авторитета, «твердого порядка». Веймарская же республика ассоциировалась в сознании «миттельштанда» с социальной нестабильностью, «национальным позором», подписанием унизительного Версальского мира. На счет Веймарской республики был отнесен и инфляционный кризис. Осенью 1923 г. американский доллар оценивался в 40 млрд, марок, а кружка пива, за которую в 1913 г. платили 13 пфеннигов, стоила 150 млн. марок. Хотя инфляция имела для мелкой буржуазии и положительные стороны, в частности ей удалось расплатиться с долгами обесценившейся валютой, психологический эффект был однозначен: режим, допускающий такие беспорядки, не заслуживает доверия. Правда, «среднее сословие» отнюдь не сразу устремилось в объятия нацистов. Так, на выборах 1920 г. весьма значительная часть средних слоев отдала голоса различным буржуазно-либеральным партиям. Но «миттельштанд», и в особенности мелкая буржуазия, привыкли полагаться на протекцию государства, а либеральный курс предусматривал минимальное участие государства в экономической жизни. Ту часть мелкой буржуазии, которая связывала свои надежды с реформистским социализмом, тоже постигло разочарование. И уже после выборов 1920 г. начинается поправение «миттельштанда». Кульминация этого процесса пришлась на период кризиса 1929–1933 гг., когда нацистам удалось создать широкий социальный базис из средних и мелкобуржуазных слоев.
В Италии процесс вовлечения аналогичных социальных элементов в сферу влияния фашизма проходил быстрее, так как верхи, разуверившиеся в традиционных методах, раньше делают ставку на фашистов, включают их в партийно-политическую систему. В отличие от германских собратьев у итальянских мелких буржуа не было таких сладких воспоминаний о «славном» довоенном прошлом. Они были более открыты идеям обновления существующих порядков и быстрее откликнулись на призыв фашистов, предлагавших им свою модель «революции».
Италия вышла из войны с растерзанной экономикой. Лира обесценилась в четыре раза, уровень жизни резко упал. В 1919–1920 гг. рабочим удалось добиться некоторого повышения зарплаты. Резко возросла степень их организованности: в четыре раза выросла численность Социалистической партии и профсоюзов. У мелкобуржуазных элементов укрепление политических позиций рабочего класса, его успехи в борьбе против предпринимателей усиливали ощущение собственной слабости, вызывали острую зависть. Это было тем более непереносимо, что на рабочих мелкий буржуа привык смотреть свысока.
Глубокую характеристику позиции мелкой буржуазии, ее духовного состояния дал А. Грамши: «Этот класс, который больше всех возлагал надежды на войну и победу, больше всех потерял в результате войны и победы. Мелкая буржуазия верила, что война действительно будет означать процветание, свободу, материальную обеспеченность, удовлетворение присущего этому классу националистического тщеславия, верила, что война даст все эти блага «стране», т. е. мелкой буржуазии». Однако ее надежды не оправдались: «Оказалось же, напротив, что она все потеряла, что ее воздушные замки рухнули, что она лишилась свободы действий, доведена постоянным повышением цен до самой мучительной нищеты и впала в отчаяние, в неистовство, в звериное бешенство; она жаждет мщения вообще, неспособная в ее теперешнем состоянии разобраться в действительных причинах маразма, охватившего нацию»{165}.
Непомерные притязания мелкобуржуазных идеологов и публицистов, их позерство и дешевая риторика напомнили А. Грамши киплинговский рассказ о Бандар-Логах – обезьяньем племени, восхвалявшем себя как наиболее достойное в джунглях. Представители мелкобуржуазного лагеря претендовали на высшую политическую мудрость, историческую интуицию и на «подлинную революционность»{166}.
Фашисты искусно играли на эмоциях мелкой буржуазии, льстили ее самолюбию, обещали привести к власти. Среди мелкобуржуазных сторонников фашизма было немало таких людей, кто действительно верил в революционность нового движения, в его антикапиталистические лозунги, видел в нем подлинную «третью силу». Их искренняя убежденность придавала достоверность демагогической по своей сути фашистской пропаганде, адресованной к средним слоям. В этом уже содержались элементы противоречия между политической функцией и социальным базисом фашизма. Это противоречие с особой силой проявлялось в период консолидации фашистских режимов, когда рассеивалась демагогическая пелена и четко проступала сущность фашизма как диктатуры наиболее агрессивных и реакционных монополистических группировок. Более того, после установления фашистских режимов наблюдалось устранение тех радикальных элементов, которые всерьез воспринимали пропагандистскую фразеологию главарей. Один из аспектов пресловутой «ночи длинных ножей» в Германии (30 июня 1934 г.) заключался в ликвидации недовольных штурмовиков, требовавших «второй революции». Муссолини немало хлопот доставили сторонники «второй волны», которых не устраивала политика дуче после «похода на Рим». В фашистской партии постоянно шли чистки. Так, только в конце 20-х годов было исключено не менее 55–60 тыс. человек{167}. Во франкистской Испании противоречие между мелкобуржуазными и люмпен-пролетарскими элементами и верхушкой режима нашло отражение во фронте «старых рубашек». Однако, несмотря на противоречия, фашистским главарям удавалось (с разной степенью успеха) сохранять массовую опору, комбинируя террор с социальной и националистической демагогией. Корпоративистская пропаганда, стремление растворить социальные различия в широкой категории «рабочие умственного и физического труда», культивирование идей расового или национального превосходства – все это было призвано создать впечатление, что в фашистских государствах будто бы повышается социальный статус и престиж средних слоев. Реальной компенсацией для представителей массовой базы фашизма стали места на нижних и средних ступеньках непомерно разросшегося государственно-административного аппарата.
Когда речь идет о рекрутах фашизма, нельзя не учитывать выходцев из люмпен-пролетарской среды, охотно клюющих на приманку реакции. Буржуазное общество постоянно воспроизводит эту прослойку, пополняющуюся за счет тех, кого оно деклассирует, выбрасывает из сферы производительного труда. По определению К. Маркса, люмпены представляли собой «отребье», «накипь всех классов»{168}. В. И. Ленин охарактеризовал их как «слой подкупных людей, совершенно раздавленных капитализмом и не умеющих возвыситься до идеи пролетарской борьбы»{169}.
Люмпены откликались на призыв реакции в самых ее разнообразных формах – будь то бонапартизм Наполеона III, буланжизм, джингоизм, «черные сотни» и, наконец, фашизм. Подобная среда поставляла фашистам и «фюреров» разного ранга. Молодой Гитлер по своему образу жизни был близок этому паразитарному слою. «Классическим» типом люмпена являлся пресловутый Хорст Вессель, один из главарей берлинских штурмовиков, убитый в пьяной драке, а затем канонизированный в качестве «героя и мученика» нацистского движения. Такого рода люмпенские, а порой и откровенно уголовные элементы подвизались в рядах практически всех фашистских движений. И в наши дни прочно укоренившийся в порах буржуазного общества люмпен-пролетариат служит социальным резервуаром для правых и левых экстремистов{170}. Среди фашистов «первого часа» (так обычно именовали тех, кто пришел в ряды движения еще до прихода Муссолини к власти) преобладали представители средних слоев, мелкой буржуазии, люмпен-пролетарские элементы. Так, на основе данных о составе нацистской партии, хотя и отрывочных до 1923 г., можно судить о ее социальном облике. Западногерманский ученый М. Катер подверг анализу фрагмент списка членов НСДАП на сентябрь-ноябрь 1923 г., включающий 4800 лиц (всего тогда в партии насчитывалось 55 287 членов). На долю низших средних слоев (ремесленники, фермеры, коммерсанты, мелкие чиновники, служащие частных предприятий) приходилось 66 % состава, на долю верхних средних слоев (высших служащих, чиновников, лиц свободных профессий) – 11,8 %. Что касается пролетариата, то в партии, именовавшей себя «рабочей», он был представлен главным образом провинциальными неквалифицированными рабочими со слабо развитым классовым самосознанием (9,5 %){171}.
Данные по фашистской партии Италии более репрезентативны. Имеется список за ноябрь 1921 г., охватывающий 151 644 человека (около половины всего состава). Ремесленники и торговцы представлены гораздо скромнее, чем в НСДАП (9,2 %), что примерно соответствовало их удельному весу в населении Италии. Правда, подмастерьев тогдашние статистики включили в разряд промышленных рабочих (15,5 %). Сравнительно большое количество сельскохозяйственных рабочих (24,3 %) объяснялось тем обстоятельством, что фашисты насильственно загоняли в свои ряды членов разгромленных ими социалистических и католических организаций сельского пролетариата. Фашисты нашли немало сторонников среди землевладельцев, в том числе «новых» земельных собственников, т. е. зажиточных крестьян, сумевших за годы войны существенно расширить свои владения (крупные, средние, мелкие собственники и арендаторы – 11,9 %). Велик удельный вес государственных и частных служащих – 14,6 %, тогда как в структуре населения страны на них приходилось 4–5 %. Довольно много и лиц свободных профессий – 6,6 % (по стране 5 %). Широко представлены студенты и учащиеся старших классов (13 %); они чаще всего были выходцами из семей служащих, коммерсантов, землевладельцев и промышленников. Преподаватели составляли 1,1 % членов партии (4–5 % общего количества этой профессиональной группы в стране){172}. Многие учителя и студенты, вернувшись с фронта, столкнулись с трудностями, а зачастую просто с невозможностью продолжать работу или учебу. Жертвами безработицы стали не только учителя, но и врачи, инженеры, лица других профессий с высшим образованием. Надежды на восстановление прежнего статуса определенная их часть связывала с фашизмом.
Нетрудно уловить различия в социальном составе фашистских партий Германии и Италии, вытекающие из разного уровня экономического развития и социальной структуры двух стран. Хотя и в том и в другом случае велик удельный вес мелкобуржуазных элементов, но у нацистов это главным образом мелкие предприниматели, торговцы, ремесленники, т. е. «промысловое среднее сословие», а у итальянских фашистов, если воспользоваться определением Л. Сальваторелли, – «гуманитарная мелкая буржуазия». Эта разница проявилась, в частности, в большей идеологической подвижности итальянского фашизма, его более пестром по сравнению с нацизмом идейном багаже.
Говоря о психологических аспектах генезиса фашизма, нельзя пройти мимо того факта, что весьма значительную и наиболее активную часть фашистского контингента составляли бывшие фронтовики, которых после войны буржуазное общество не могло обеспечить работой и достатком. Муссолини восхвалял фронтовиков как «траншейную аристократию», кровью заслужившую право определять судьбы послевоенной Италии. Фашистская пропаганда внушала фронтовикам иллюзорное представление о том, что они будто бы являются той самой «третьей силой», которая призвана сменить одряхлевшие правящие классы.
Разумеется, не следует преувеличивать успехи фашистской вербовки среди фронтовиков. Многие из них не поддались фашистской пропаганде, а многие, поддавшиеся на первых порах националистическому дурману, вскоре прозрели. Не случайно именно в вооруженных силах возникали первые очаги революционной борьбы, происходили восстания солдат и матросов. Вообще «человек с ружьем» стал ключевой фигурой послевоенных революционных боев. Однако империалистический характер войны порождал также тип фронтовика с психологией и повадками ландскнехтов. Фашисты «первого часа», своего рода «элита», рекрутировались главным образом из участников войны, которые не смогли или не пожелали вернуться к прежнему образу жизни, так как былой статус их не устраивал. Их претензии шли гораздо дальше. Отношение этих людей к буржуазному обществу было двояким. Осуждая и отрицая существующее положение вещей, они не покушались на принципы капиталистического устройства. Их недовольство объяснялось собственной незавидной ролью в буржуазном обществе. Чаще всего это были выходцы из буржуазии или средних слоев, для которых война превратилась в привычное занятие, своего рода ремесло или спорт. Они представляли собой идеальный контингент для авантюр и контрреволюционного террора. Разглагольствования о «траншейной аристократии» льстили их самолюбию и находили у них живой отклик.
Бессмысленное четырехлетнее кровопролитие, послевоенные кризисные потрясения подрывали остатки веры в рациональность окружающего мира. В тщетных поисках выхода, в метаниях между различными крайностями, в стремлении к спокойствию и порядку социальные элементы, лишенные четкого классового самосознания, готовы были пойти за любым сколько-нибудь искусным демагогом.
«Удар кинжалом в спину», «ноябрьские преступления», «версальский позор» – этот набор пропагандистских мифов, распространявшихся в побежденной Германии, призван был объяснить все беды послевоенного бытия. Они выстраивались в простую и, казалось бы, предельно четкую схему: «ноябрьские преступники» нанесли «удар кинжалом в спину» победоносному войску, результатом чего и стал «версальский национальный позор». Версальский мир мрачной тенью лег на Веймарскую республику, которую реакционная пропаганда сделала синонимом национального унижения. Буржуазно-демократический режим по западноевропейскому образцу изображался как чуждая германскому духу, навязанная извне модель. Неприязнь к буржуазной демократии западного стиля усугублялась крахом иллюзий, порожденных широковещательной пропагандой американского президента В. Вильсона, который после выдвижения своих «14 пунктов» и плана создания Лиги наций стал на какое-то время «идолом мещан и пацифистов»{173}. Тем более велико было разочарование воодушевленного мещанства, когда из тумана напыщенной проповеднической фразеологии Вильсона вырисовывалась жестокая реальность послевоенного империалистического урегулирования.
Все это относится к Италии почти в той же мере, что и к Германии. Там тоже наблюдалось увлечение морализаторскими проповедями американского президента, и, хотя формально страна принадлежала к лагерю победителей, плоды победы были отнюдь не столь весомыми и сладкими, как это грезилось тем, кто втянул Италию в войну. Теперь они распространяли среди итальянского народа миф об «искалеченной», или «испорченной», победе. Националисты и фашисты сделали его ключевым эле^ ментом своей пропаганды. Послевоенную Италию они уничижительно называли «Италиеттой», обещая создать Великую Италию на путях империалистической экспансии. Духовный климат послевоенных лет в немалой степени способствовал успехам фашистской агитации среди мелкобуржуазных слоев. Антигуманистические и иррационалистические тенденции, разъедавшие капиталистическое общество, существенным образом повлияли на психологию этих слоев, их политическое поведение. Культ насилия, героя-сверхчеловека, аморальность – все то, что реакционные идеологи проповедовали и раньше, школа империалистической войны внедрила в массовое сознание. Вследствие всесторонней милитаризации общественной жизни, совершенствования системы и методов массовой пропаганды возникают новые возможности для манипулирования сознанием определенных слоев населения в интересах господствующих классов. Невиданная бойня катастрофически понизила ценность отдельной человеческой жизни, породила довольно многочисленную категорию людей, для которых пролитие чужой крови становится обыденным делом. Так благодаря войне реакция получила в свое распоряжение значительный контингент хорошо подготовленных головорезов.
ШКОЛА ДИКТАТОРОВ
Безусловно, как нацизм не был просто гитлеризмом, так и итальянский фашизм не был просто муссолинизмом. Нельзя персонифицировать сложные социально-политические явления. Такой подход весьма распространен на Западе, потому что с его помощью удобно маскировать глубокие объективные предпосылки возникновения фашизма. В западных странах сложилась колоссальная литература о фашистских диктаторах, преследующая и политические, и коммерческие цели. На большинстве такого рода писаний лежит отпечаток дешевой сенсационности, которая обеспечивает успешный сбыт этой продукции. Смакуя пикантные детали из жизни фашистских лидеров, копаясь в недрах их психики, буржуазные авторы пытаются убедить читателей, что именно здесь, в сугубо личностной сфере, следует искать разгадку фашизма. Фашизм предстает не столько следствием определенных социально-политических тенденции, сколько результатом деятельности отдельных личностей.
Действительно, оформление фашистских движений чаще всего связано с конкретными личностями, сам характер этих движений предполагает культ лидеров. Наличие предпосылок фашизма неотделимо от предпосылок появления соответствующего типа лидера. «Случайно ли, что вожаками фашизма, как на подбор, оказались – и оказываются – типы феноменальных подонков: люди без следа совести и морали, хотя бы буржуазной, полуманьяки, полуобразованные (хотя отнюдь не тупые), с садистским уклоном, нередко с уголовным прошлым?» – ставит вопрос публицист Э. Генри. Он же дает четкий и недвусмысленный ответ: «Нельзя переходить к фашистской или военно-авторитарной диктатуре, не создавая новый тип государственного деятеля: тип политика-преступника»{174}. Такие политики не останавливаются ни перед какими злодеяниями, массовый террор в сочетании с разнузданной социальной демагогией становится наиболее характерной чертой их политической практики. Буржуазное общество на империалистической стадии формирует множество кандидатов в фюреры. Но для реализации их устремлений мало одной лишь «воли к власти». Она помогает главным образом взять верх в борьбе с себе подобными. Чтобы создать сильное движение и прорваться к власти, необходима широкая и многообразная помощь со стороны господствующих классов. Хотя личность «вождя» накладывала отпечаток на фашистские движения, но важно отметить, что сам тип лидера во многом определялся типом движения, обусловленным особенностями исторического развития отдельных стран. Там, где существовала сравнительно массовая социальная база, на роль лидеров лучше всего подходили так называемые «люди из народа». А, например, в Испании с ее архаичной социальной структурой, с мощными консервативными силами, несмотря на попытки отыскать подходящую кандидатуру «человека из народа», главарем фаланги стал рафинированный аристократ, «сеньорито» – X. А. Примо де Ривера.
Политическую биографию Муссолини можно понять лишь в контексте многопланового процесса генезиса фашизма, и в свою очередь его личная эволюция помогает глубже осмыслить суть всего процесса. Обычно буржуазные историки выпячивают значение того периода в жизни Муссолини, когда ой находился я рядах социалистического движения, показал себя мастером революционной фразы.
Они всячески обыгрывают тот факт, что будущий главарь итальянского фашизма в молодости слыл «непримиримым революционером». Однако объективный анализ идейно-политической эволюции этого персонажа свидетельствует о том, что он никогда не был подлинным социалистом. Не будет преувеличением сказать, что социалистом Муссолини стал в силу обстоятельств, а фашистом – по склонности и убеждению.
Сын кузнеца и учительницы деревенской школы, Муссолини с детских лет попал в среду провинциальных «социалистов чувства» с сильной анархо-синдикалистской закваской. Таковым был и его отец Алессандро. Своему сыну, родившемуся 29 июля 1883 г., он дал имя Бенито Амилькаре Андреа в честь героя мексиканского освободительного движения Бенито Хуареса и анархистов Амилькаре Чиприани и Андреа Косты. Учительская карьера, открывавшаяся перед Муссолини после окончания училища (оно готовило педагогов для начальных школ) мало привлекала амбициозного юнца. Уже в годы учебы он обнаружил необузданность нрава, стремление верховодить в детских и юношеских компаниях. Из начальной школы его даже исключали за поножовщину. Оставив место школьного учителя в одной из сельских коммун, Муссолини, как и многие итальянцы, отправился искать счастья за границей. С 1902 по 1905 г. он жил в Швейцарии. Подумывал эмигрировать за океан. В бытность свою в Швейцарии Муссолини стал сотрудничать в социалистической эмигрантской прессе. Его писания составили около 40 томов, главным образом газетных и журнальных статей.
По возвращении в Италию Муссолини отслужил в армии (1905–1906 гг.). Затем – вторая неудачная попытка учительствовать. Своими статьями он привлек внимание таких влиятельных деятелей Социалистической партии, как Д. Серрати и А. Балабанова. С их помощью он и начал политическую карьеру. Сначала Муссолини возглавил организацию Социалистической партии в Трентино, затем у себя на родине – в Форли. По-прежнему он тяготел к журналистике. Его трибуной стал форлийский еженедельник «Лотта ди классе» («Классовая борьба»).
Журналистская деятельность для Муссолини была, по меткому выражению итальянского историка Г. Джудиче, «демагогической гимнастикой»{175}. Будущий основатель фашизма не упускал случая поупражняться в демагогии, стяжав себе репутацию ультрареволюционера. Муссолини был среди тех левых социалистов, которые решительно осуждали Ливийскую войну. Он даже угодил в тюрьму за антивоенную пропаганду. Выйдя из тюрьмы в ореоле мученика, он на съезде в Реджо-Эмилии (июнь 1912 г.) присоединился к левому крылу и сыграл заметную роль в изгнании из Социалистической партии Л. Биссолати, И. Бономи и некоторых других правых реформистских лидеров. Вскоре после съезда, на котором восторжествовали «левые», Муссолини стал редактором центрального органа партии «Аванти!».
Казалось бы, эта цепь событий работает на версию об изначальном «социализме» Муссолини. Однако если проанализировать те мотивы, те идейно-политические установки, которыми руководствовался будущий дуче, то дело предстает совершенно в ином свете. Хотя «социалист», притом ультралевый, Муссолини порой взывал к имени К. Маркса, марксистское учение было ему глубоко чуждо. «О социализме я имею варварское представление, – не без кокетства заявлял Муссолини, – я воспринимаю его как самый великий акт отрицания и разрушения, который когда-либо регистрировала история». Муссолини фактически не отличал марксизм от вульгарного материализма. Вообще его знакомство с трудами Маркса было крайне поверхностным. Весьма сомнительно, полагает Г. Джудиче, чтобы Муссолини знал более двух-трех произведений Маркса. Цитаты он обычно брал из вторых рук, чаще всего у Сореля и сорелианцев, из их газетных и журнальных статей. Чего стоит такое высказывание Муссолини: «Благодаря книгам Сореля мы достигли более верного понимания марксизма, чем то, которое прибыло к нам из Германии в неузнаваемом виде»! «Постигая» таким образом Маркса, он зато в подлинниках читал Штирнера, крайний индивидуализм которого Маркс и Энгельс развенчали с убийственной иронией в «Немецкой идеологии», и, конечно же, Ницше. Их взгляды совпадали с умонастроением и характером будущего дуче. «Я прославляю индивидуума. Все прочее не более чем проекции его воли и его ума», – в штирнеровском духе вещал Муссолини. В себе самом он видел ницшеанского сверхчеловека. О Ницше им была написана не одна статья. «Нет ничего истинного, все дозволено. Это будет девизом нового поколения», – так считал Муссолини уже в начале своего жизненного пути. И надо сказать, что он хранил верность этому девизу. К своему 60-летию дуче получил в подарок от Гитлера специальное роскошное 22-х томное собрание сочинений Ницше с проникновенной дарственной надписью фюрера.
Откровенный цинизм, авантюризм, моральная нечистоплотность – все это уживалось у Муссолини с чувством собственной исключительности. «Я ненавижу здравый смысл и ненавижу его во имя жизни и моего неистребимого вкуса к авантюрам», – изливал он душу очередной любовнице. У Муссолини начисто отсутствовало социальное самосознание. Себе самому он представлялся кем-то вроде свободного художника, оторванного от каких бы то ни было социальных корней. Во время одного из разговоров с Муссолини весной 1932 г. немецкий писатель Э. Людвиг спросил своего собеседника: «Во время поездки в Рим (по приглашению короля после пресловутого «похода на Рим!» – П. Р.) чувствовали Вы себя художником, начинающим творение, или пророком, выполняющим свою миссию?». Ответ Муссолини был кратким: «Художником»{176}. Это одновременно и эффектная поза, и отражение асоциальности, и глубокий внутренний авантюризм, тем более опасный, что он не исключал холодного расчета и незаурядной тактической ловкости. Очень близкий ему младший брат Арнальдо говорил: «Следует признать, что в основе характера моего брата иногда обнаруживалось нечто уголовное»{177}.
Для Муссолини была характерна тяга к лидерству, стремление повелевать, распоряжаться. На пути к власти он готов использовать любые средства, включая преступные. В то же самое время он в определенных ситуациях предпочел бы беспрекословно повиноваться, уйти от принятия ответственных решений, переложить их тяжесть на плечи других. «Мне нравилась солдатская жизнь. Чувство иерархии соответствовало моему темпераменту», – вспоминал Муссолини о тех временах, когда ему приходилось отбывать воинскую повинность. Начальство сначала с подозрением встретило человека, имевшего репутацию смутьяна. Но затем, не без гордости говорил Муссолини, «капитан, майор и полковник находили по отношению ко мне слова самой высокой похвалы». И это был тот самый Муссолини, который годом раньше в статье под кричащим названием «Дезертировать!» призывал парализовать чудовище милитаризма. Он возмущался тем, что пролетариат принужден платить кровавый налог, поставляя в казармы своих сыновей. «У вас есть хорошее и верное средство, чтобы избежать позорного военного принуждения: дезертировать!» – обращался он к трудовому люду. Сам же Муссолини, будучи в армии, зарекомендовал себя рьяным служакой. «Все же прекрасно было в траншеях, нужно было только повиноваться», – признавался Муссолини своему биографу Маргерите Сарфатти в трудный момент послевоенной политической борьбы, когда необходимо было принимать ответственные решения. За трескучей риторикой и вызывающей манерой поведения дуче зачастую скрывались слабость и неуверенность. Элементы мании величия сменялись состоянием абсолютного безволия, депрессии.
Особенности индивидуально-психологического склада Муссолини представляют отнюдь не самодовлеющий интерес. Они помогают понять, почему он был так открыт для восприятия самых разнообразных экстремистских тенденций эпохи. Кроме Штирнера и Ницше, глубокое влияние оказали на него Бергсон и Сорель. Их понятийный аппарат и даже фразеология узнаются в статьях «социалиста» Муссолини. Когда журнал германских социал-демократов упрекнул Муссолини в бергсонианстве, он отвечал, что не находит «прямой несовместимости между Бергсоном и социализмом»{178}. Бергсонианская апология интуиции, конечно же, не могла не импонировать авантюристическим наклонностям Муссолини. Из синдикалистских концепций Сореля Муссолини быстро извлек их экстремистское ядро, прежде всего идею «прямого действия», не обращая внимания на остальное. Восторженный отклик у Муссолини нашел сорелианский гимн насилию. Он переводит несколько абстрактные положения Сореля на живой, конкретный уровень: «Мое представление о насилии простое, может быть, наивное, примитивное, если хотите, традиционное. Для меня насилие – это явление физическое, материальное, мускульное». В духе Сореля, которого он называл «нашим учителем», Муссолини предлагает «оздоровить» социализм: «Если социализм не желает умереть, он должен набраться смелости быть варварским». Особенно привлекала его сорелианская концепция «мифов». Если марксисты стремились донести свои идеи до сознания масс, раскрывая их рациональное содержание, то Муссолини надеялся повлиять на инстинкты и эмоции толпы с помощью мифологизированных идей. Для триумфа великих идей, утверждал он вслед за своим мэтром, нужно, чтобы «они воздействовали на душу толпы, как мифы»{179}. Не случайно Муссолини высоко ценил и неоднократно перечитывал пронизанную презрением к массам книгу Г. Лебона «Психология толпы». «Масса любит сильных людей. Масса – женщина», – говорил Муссолини, уже будучи диктатором.