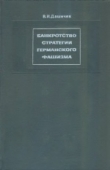Текст книги "Происхождение фашизма"
Автор книги: Павел Рахшмир
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Стремление поддержать в стране высокий националистический тонус было характерно для всех фракций германских верхов, но особенно усердствовали сторонники ультраконсервативного курса. Вновь дал о себе знать Картель производительных сословий, созданный накануне войны крайне правыми силами. Его рука явно ощущалась в деятельности комитетов по пропаганде военных целей, созданных по всей Германии. Исключительную активность проявлял Пангерманский союз, щедро субсидируемый промышленниками и верховным командованием, точнее, его «третьим отделом» во главе с подполковником Бауэром. В результате их совместных усилий возникают такие организации, как «Независимый комитет за германский мир», а в Южной Германии – «Народный комитет за скорейший разгром Англии».
Летом 1917 г. в Бремене под руководством слесаря В. Валя, лидера ячейки «желтого» крупповского профсоюза, был организован «Свободный комитет за немецкий рабочий мир». Уже с начала 1917 г. Валь находился в контакте с подполковником Бауэром. Военное ведомство издало одно из публичных выступлений Валя для распространения среди рабочих. Одновременно этот же материал появился и в контролируемых Гутенбергом и Кирдорфом «Берлинских последних новостях». В начале 1918 г. комитет, возглавляемый Валем, насчитывал 290 тыс. членов, его филиалы распространились по всей стране. 3 марта 1918 г. в Мюнхене слесарь железнодорожных ремонтных мастерских А. Дрекслер организовал «Свободный рабочий комитет за хороший мир». Правда, ему удалось объединить лишь 40 человек. Эта организация стала основой кружка «пивных политиков», послужившего Гитлеру исходным материалом для создания нацистской партии.
На митингах и в печати такого рода организации проповедовали необходимость «немецкого победоносного мира», призванного спасти рабочих от участи рабов англо-американского и французского капитала, подобных индийцам, африканцам и т. д. Отсюда следовало, что и война против стран Антанты носила антикапиталистический характер. Немецкому рабочему пытались привить элитарные и расистские предрассудки. Утверждалось, будто сам факт принадлежности к германской нации ставит его над рабочими других стран, что благодаря этому он автоматически обретает и «свое величие и интеллектуальное превосходство»{109}. По мысли Валя, в победившей «Великой Германии» германский рабочий сможет почувствовать себя «бюргером». Ту же самую идею развивал и Дрекслер. Необходимо, полагал он, «облагородить» германского рабочего. Между рабочим и пролетарием должно быть резкое различие. Обученный и оседлый рабочий скорее относится к «среднему сословию». Что же касается крупного капитала, то его представителей нужно взять под защиту, как «работодателей»{110}. Следует отметить, что такие идеи не нашли отклика у организованного кадрового пролетариата. Их впитывали преимущественно ремесленники и те категории рабочих, которые были вовлечены в крупное фабрично-заводское производство только в годы войны. Вкладывая в понятие «рабочий» мелкобуржуазное содержание, Дрекслер и назвал свою группу в начале 1919 г. Германской рабочей партией. (Отсюда прилагательное «рабочая» перекочевало в название гитлеровской партии.)
Уже с весны 1918 г. Дрекслер был связан с расистско-националистическим «Обществом Туле». Через Дрекслера и ему подобных баварские правые экстремисты надеялись внедриться в «народ». Программа общества была выдержана в мистическом духе, в стиле «фёлькише», его символом стала свастика. Членом «Общества Туле» был литератор Д. Эккарт, будущий духовный ментор Гитлера. В обществе подвизались и различные авантюристы типа А. Розенберга и Р. Гесса.
Робкие «мирные» жесты рейхстага и правительства Бетман-Гольвега, а также перспектива отмены пресловутого прусского избирательного права – все это активизировало крайне правый лагерь, побуждало его к дальнейшей консолидации. Осенью 1917 г. была создана Немецкая отечественная партия, объединившая самые разнообразные реакционные элементы. Д. Штегман считает, что она представляла собой «новое издание Картеля производительных сословий 1913 г. с более широкими целями»{111}. Основателями Немецкой отечественной партии были Капп и гросс-адмирал Тирпиц. Почетное место среди ее создателей принадлежало Кирдорфу и Гугенбергу. К лету 1918 г., кульминационному моменту своей недолгой истории, эта партия насчитывала до миллиона членов, ей была обеспечена огромная материальная поддержка промышленно-финансового мира, прежде всего тяжелой индустрии.
Капп, Тирпиц и К° уверяли, что цели новой партии сугубо внешнеполитические: аккумулировать энергию народа для достижения победного «гинденбурговского» мира. Однако на деле создатели Отечественной партии шли гораздо дальше. Они намеревались создать массовый базис для военной диктатуры Людендорфа – Гинденбурга, пытаясь наряду со своими традиционными сторонниками из рядов националистической консервативной буржуазии и мелкобуржуазных кругов привлечь рабочих и служащих. Интересно, что на учредительном съезде партии (24 сентября 1917 г.) присутствовал В. Валь. Весной в партийное правление был кооптирован член руководства «Свободного комитета за немецкий рабочий мир» столяр Пфейффер. В Отечественной партии подвизался и А. Дрекслер. Правда, в связи с основанием «Свободного рабочего комитета за хороший мир» он официально вышел из партии, но контакты с ней не порывал. На митинге, созванном Отечественной партией осенью 1918 г., Дрекслер обратился к собравшимся с таким призывом: «Граждане буржуа и граждане рабочие, объединяйтесь!». Однако рабочая аудитория ответила ему руганью, а митинг кончился скандалом{112}.
Вербовочная кампания Отечественной партии среди рабочих и служащих довольно скоро потерпела неудачу. Дальше создания «желтых» организаций, связанных с предпринимательскими союзами, дело не продвинулось. Тогда Капп и К° принялись за дело с другого конца. В начале 1918 г. у них созревает план создания такой рабочей организации, которая, будучи самостоятельной по отношению к их собственной партии, могла бы вербовать националистически настроенных рабочих, конкурируя с социал-демократами. Главным исполнителем этого плана должен был стать В. Геллерт, служащий калийного синдиката в Берлине, выходец из рабочих. До войны он придерживался национал-либеральных взглядов, затем стал членом «Независимого комитета за германский мир» и «Народного комитета за скорейший разгром Англии», присоединился к Отечественной партии. Капп добился освобождения Геллерта от службы в синдикате, чтобы тот целиком мог посвятить себя политической деятельности. Наряду с рабочими в новую партию предполагалось вовлечь и служащих. В феврале 1918 г. был образован подготовительный комитет Германской партии рабочих и служащих, а в конце марта опубликовано программное воззвание, выдержанное в пангерманском духе. Помимо аннексионистских требований, провозглашалась безоговорочная поддержка Людендорфа и Гинденбурга в противовес рейхстагу и «неспособным дипломатам»{113}. Антикапиталистическим настроениям масс был дан выход. Трудолюбивая, созидающая Германия изображалась жертвой хищнического, паразитического капитализма западных держав. Под непосредственным влиянием Каппа были усилены антисемитские ноты, так как, по расчетам реакционных политиков и идеологов, антисемитизм должен был служить своеобразным громоотводом для «истинно германского», «созидательного» капитала. Все эти пропагандистские мотивы позднее были подхвачены и развиты нацистами. Финансово-промышленный мир приветствовал Германскую партию рабочих и служащих, как «поддерживающую государственные устои и дружественную предпринимателям»{114}. Однако новое детище консервативной реакции оказалось мертворожденным. В условиях наметившегося революционного подъема рабочий класс и значительная часть служащих игнорировали призывы справа. Очевидным свидетельством провала затеи с Германской партией рабочих и служащих явилось сокрушительное поражение Геллерта на выборах в рейхстаг по берлинскому избирательному округу в октябре 1918 г. Полный провал сопутствовал публичным выступлениям Валя, Дрекслера и им подобных. Хотя первые эксперименты с выдвижением подходящих «людей из народа» закончились неудачно в силу объективных и субъективных причин, они стали источником ценного опыта для господствующих классов при разработке программных установок и подборе кандидатур в диктаторы.
Последней надеждой германской реакции оставалась военная диктатура. Капп и его окружение умоляли Людендорфа создать военное правительство с неограниченной властью. Однако негласный диктатор в тот момент, когда фронт рухнул и нужно было нести ответственность за поражение Германии, предпочел ретироваться, предоставив «расхлебывать кашу» рейхстагу и кабинету министров. Впоследствии это даст ему возможность сочинить легенду об «ударе кинжалом в спину», который будто бы был нанесен победоносному войску революционерами и бездарными политиками.
Нарастание революционной ситуации усилило внутреннюю борьбу в правящем лагере по тактико-стратегическим вопросам. Наиболее дальновидные представители даже крайне правого лагеря начинают осознавать, что нельзя методом репрессий остановить революционный подъем масс. К мысли о необходимости компромисса с социал-демократическими и профсоюзными лидерами склоняется такой авторитетный магнат тяжелой индустрии, как Стиннес. 9 октября 1918 г. он официально вступает в переговоры с профсоюзами. Еще раньше этот путь избрали магнаты электротехнической промышленности – Ратенау и Сименс. Только самые твердолобые, вроде Кирдорфа и Гугенберга, никак не могли примириться с необходимостью социально-политического маневрирования. Однако поворот к более гибкому курсу был временной, продиктованной чрезвычайными обстоятельствами мерой, он носил чисто тактический характер. При первой же возможности монополистическая буржуазия возвратилась к жестким методам отстаивания своего классового господства.
На базе экстремистского консерватизма в Германии в годы войны ускоренным темпом развивался фашистский потенциал. Если он не был тогда реализован, то главным образом из-за мощной революционной волны, опрокинувшей кайзеровский режим, похоронившей планы создания военной диктатуры. Но этот потенциал не был ликвидирован во время буржуазно-демократической революции 1918–1919 гг. Более того, в результате разгрома революционных сил реакции удалось не только сохранить, но и преумножить его.
Первые всходы семена фашизма дали в Италии, первоначально остававшейся вне сферы военного конфликта. Для того чтобы втянуть ее в войну, реакционным фракциям верхов потребовался рычаг в виде массового внепарламентского движения. Часть правящей верхушки во главе с Д. Джолитти стояла на позициях нейтралитета, понимая, что участие в войне будет для страны непосильным бременем. Но сторонники вступления в войну во главе с А. Саландрой и С. Соннино пошли на сговор со странами Антанты, которые обещали Италии не только возвращение территорий, остававшихся под владычеством Австро-Венгрии, но и новые владения в Адриатике и бассейне Средиземного моря. К этому сводилось содержание секретного соглашения, подписанного в апреле 1915 г. в Лондоне.
Лагерь сторонников вступления в войну – интервенционистов, как их тогда называли, – объединял самые разношерстные элементы. Здесь были, конечно, националисты и футуристы, а также представители социалистов и синдикалистов. Синдикалисты искренне полагали, что участие Италии в войне должно ускорить революционный взрыв. Многих из них интервенционистами сделала непреодолимая тяга к «прямому действию», безудержный, не имеющий четкого социального направления активизм. Это толкало их на сближение с националистами. Интересно, что сами националисты – убежденные поклонники Германии – тем не менее присоединились к ее врагам.
В первый период войны они готовы были немедленно выступить на стороне центральных держав, с которыми Италия была связана тройственным союзом. Так, один из идеологов национализма – Л. Федерцони требовал отказаться от трусливого выжидания, от «позиции гиены»{115}. Но после поражения немцев на Марне националисты меняют ориентацию. Сделать это для них было тем проще, что, с одной стороны, они вдохновлялись принципом «священного эгоизма» («Италия превыше всего»), а с другой – свойственный им голый динамизм, культ действия ради действия делал сам факт вступления в войну более важным по сравнению с вопросом, на чьей стороне воевать.
Интервенционизм в значительной степени был инспирирован и раздут сверху, наиболее агрессивными кругами итальянского империализма. Кульминации интервенционистское движение достигло в мае 1915 г., когда и решился вопрос о вступлении Италии в войну. Шумные манифестации, избиение противников, разгром редакций тех газет, которые занимали нейтралистские позиции, – все это крайне нагнетало обстановку, создавало иллюзию воинственного настроя масс. Между тем подавляющее большинство итальянцев войны не хотело. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует признание человека, приложившего огромные усилия для того, чтобы втянуть Италию в войну. Находясь под арестом после переворота 25 июля 1943 г., дуче признавал, что народ не одобрял войну. Поскольку центром интервенционизма был Милан, то в народе сторонников вступления Италии в войну называли «миланцами». Чтобы избежать мести со стороны товарищей на фронте, солдаты-миланцы скрывали, что они родом из этого города{116}.
Свыше 300 парламентариев (из 508) выразили свою поддержку нейтрализму Джолитти. Тем не менее в мае 1915 г. Италия вступила в войну. Интервенционисты, пишет П. Алатри, «составляли тогда ничтожное меньшинство, сумевшее при помощи короны и правительства подавить общественное мнение и его конституционный орган – парламент»{117}. Главный глашатай интервенционизма Д’Аннунцио воспевал войну как «созидательницу красоты и мужества». Политике Джолитти, этого «интригана из Дронеро», он противопоставлял новый стиль политической борьбы «с дубинками и оплеухами, с пинками и кулаками», с опорой не просто на кричащую толпу, а на организованные по военному образцу отряды{118}. «Радужный май» 1915 г., как его восторженно называли те, кто вверг страну в кровавую бойню, явился генеральной репетицией будущего муссолиниевского «похода на Рим». Конечно, далеко не каждый из интервенционистов впоследствии стал фашистом, но практически все главные действующие лица первоначальной фазы истории фашизма были выходцами из интервенционистского лагеря.
«ВЕЛИКИЙ СТРАХ»
Вопреки расчетам буржуазии война расшатала устои ее классового господства, ускорила вызревание общего кризиса капиталистической системы. С октября 1917 г. началась эпоха мировой социалистической революции. Великая Октябрьская социалистическая революция явилась закономерным результатом мирового революционного процесса и вместе с тем его катализатором, подняв классовую борьбу пролетариата на качественно новый уровень. Для капиталистического же мира эпоха мировой социалистической революции становится эпохой общего кризиса, пронизывающего все буржуазное общество. Но буржуазия изо всех сил стремится затормозить мировой революционный процесс, не останавливаясь перед самыми крайними средствами. Тогда и возникает фашизм – законное детище общего кризиса капитализма.
Это обстоятельство необходимо постоянно иметь в виду, так как буржуазные историки навязывают мысль о том, что своим появлением на политической сцене фашизм обязан не всеобъемлющему, эпохальному кризису буржуазного общества, а лишь послевоенным кризисным потрясениям.
Послевоенное пятилетие, когда капиталистический мир столкнулся с невиданным подъемом революционного движения, представлявшим непосредственную угрозу его существованию, а также годы общего экономического кризиса (1929–1933) были важными этапами в становлении фашизма. Будучи прямыми следствиями общего кризиса капитализма, эти события накладывались на него и усугубляли его действие. С этими периодами связаны две фашистские волны, захлестнувшие прежде всего Европейский континент. Возникновению фашизма, таким образом, способствовали как глобальные, так и локальные кризисные явления. Пытаясь связать генезис фашизма только с последними, буржуазные историки хотели бы затушевать тот принципиальный факт, что капиталистическое общество на стадии общего кризиса постоянно генерирует предпосылки для этого феномена.
Новая эпоха поставила верхи в трудное положение. Никогда еще не приходилось сталкиваться со столь острой угрозой всей системе их классового господства. Необходимо было дать ответ на глубочайшие социально-экономические и политические сдвиги, попытаться затормозить необычайно ускорившийся революционный процесс. Из-за новизны ситуации не всегда срабатывал накопленный за предшествующее время политический опыт. На поиск и выбор социально-экономических и политических решений влияла и определенная передвижка сил в самих правящих верхах.
В годы войны значительно усилились позиции монополистической буржуазии, особенно тех ее группировок, которые были связаны с военной экономикой. Рост могущества монополий происходил как в экономическом плане – за счет концентрации производства и капитала, так и в плане политическом – благодаря внедрению в государственную надстройку. Происходит организационная консолидация буржуазии под эгидой монополистического капитала. В 1919 г. оформилась Итальянская конфедерация индустрии (Конфиндустрия). Ее лидерами стали наиболее могущественные монополисты. Процесс консолидации германской буржуазии четко проявился в слиянии двух соперничавших объединений в единый Имперский союз германской промышленности (4 февраля 1919 г.). Подобные тенденции проявились и в других странах. Реорганизация, укрепление, централизация предпринимательских объединений – общая черта развития классовой самозащиты и классового самосознания буржуазии. В отличие от довоенного времени эти объединения все более и более превращаются в центры концентрации классовой воли и принятия решений, становятся инструментами в руках узкой прослойки монополистических магнатов.
Острота противоречий между буржуазными политическими партиями Германии привела к тому, что, как отмечает советский ученый Р. П. Федоров, создалось «то незаполненное политическое пространство, в котором развернулась действительно четко структурированная и централизованная организация буржуазии, абсолютно единая в классовом отношении и стоявшая полностью под влиянием могущественнейших монополистов, – Имперский союз германской промышленности»{119}. Аналогичные функции в значительной мере взяла на себя и Конфинду-стрия вследствие напряженной борьбы течений, постоянно лихорадившей пестрый и организационно рыхлый лагерь итальянских либералов. Роль монополистического капитала стала более весомой и вследствие того, что война привела к ослаблению главным образом политических устоев буржуазного общества, тогда как экономически крупный капитал заметно усилился.
Отношение монополий к государству в послевоенный период было весьма противоречивым. Современникам иногда казалось, что после войны, как пережитки военного времени, были решительно выброшены за борт различные формы и методы государственного вмешательства в экономику. На самом же деле, несмотря на внешнее возвращение к довоенным принципам, степень необратимости государственно-монополистического развития была чрезвычайно велика. Это очень убедительно показал в своем исследовании американский ученый Ч. Майер. Так, к 1925 г. правительства ведущих западноевропейских стран концентрировали в своих руках и расходовали примерно 20–25 % национального дохода, вдвое больше, чем до войны{120}. Многих вводила в заблуждение двойственная позиция монополий по отношению к государству. Монополии были против какой-либо регламентации своей производственной или финансовой деятельности. Они с подозрением воспринимали попытки социального маневрирования, опасаясь за свои материальные интересы. Вместе с тем они желали, чтобы государство выступало в качестве гаранта социальной стабильности, твердо и неукоснительно осуществляло репрессивные функции против трудящихся, обеспечивало порядок на внутреннем рынке и успешную экспансию на внешнем. Иначе говоря, монополисты хотели получать от государства как можно больше, не поступаясь при этом своими интересами. Пройдет еще некоторое время, пока монополии начнут свыкаться с мыслью о необходимости проведения государством общего политического курса даже ценой ущемления интересов отдельных групп или фирм.
В условиях всестороннего общего кризиса, охватившего капиталистический мир после победы Великого Октября, в полной мере обнаружилась несостоятельность методов, с помощью которых буржуазия защищала свое классовое господство.
Опыт войны, социальные и политические потрясения послевоенных лет укрепили недоверие монополистического капитала к традиционным формам государственной надстройки. Парламентские порядки, по мнению монополистических кругов, мешали эффективному функционированию государства, поэтому представительную демократию следовало бы заменить каким-либо вариантом авторитарного или корпоративного устройства.
В послевоенные годы в странах Запада становится нормой нарушение принципов буржуазной демократии. Если до первой мировой войны правительства лишь в самых исключительных случаях получали чрезвычайные полномочия, то теперь чрезвычайное законодательство становится обычным делом. Даже в Англии, стране с глубокими демократическими традициями, в 1920 г. парламент принял «Акт о полномочиях правительства при чрезвычайных обстоятельствах». По этому закону правительство получило полную свободу в борьбе с забастовочным движением. Печально знаменитая статья 48 Веймарской конституции давала возможность главе государства в нужный момент перечеркнуть всю буржуазно-демократическую законность. На основе этой статьи правительство осуществляло расправу с революционным движением в 1923 г. Опираясь на нее, престарелый президент Гинденбург 30 января 1933 г. вручил полномочия главы правительства нацистскому фюреру.
Еще в довоенный период наметились тенденции к расширению диапазонов консервативной и либеральной политики обычного типа. Под воздействием Великой Октябрьской социалистической революции эти тенденции обретают более четкие, завершенные формы. Следствием расширения диапазона либеральной политики влево явилось возникновение ее либерально-реформистского варианта на основе союза либеральной буржуазии с реформистским крылом рабочего движения. Тесное сотрудничество между реформистами и правящими классами сложилось в годы первой мировой войны. Именно тогда был заложен фундамент либерально-реформистского блока во многих воевавших государствах. «Война, – писал В. И. Ленин, – ускорила развитие, превратив оппортунизм в социал-шовинизм, превратив тайный союз оппортунистов с буржуазией в открытый»{121}.
Мысль о необходимости такого Союза в послевоенные годы все глубже проникает в сознание представителей различных буржуазных идейно-политических течений. Об этом, например, постоянно говорил один из наиболее искушенных германских буржуазных политиков начала 20-х годов – В. Ратенау. Крупный германский историк и идеолог либеральной Немецкой демократической партии Ф. Майнеке вскоре после Ноябрьской революции пришел к твердому убеждению, что главные ценности буржуазной культуры «могли быть приведены в созвучие с целями социалистов большинства». Его не обманывала сохранившаяся в багаже реформистов прежняя фразеология: «Сегодняшняя социал-демократия большинства гораздо лучше, нежели ее догмы»{122}. Лидер Немецкой народной партии, стоявшей на более правых позициях, Г. Штреземан предостерегал, что для буржуазии могут возникнуть серьезные трудности, если «оттолкнуть социал-демократов»{123}. Сторонникам вовлечения социал-реформистов в правительственную орбиту были ведущие итальянские политики Д. Джолитти и Ф. Нитти.
Фракции верхов, привыкшие полагаться исключительно на силу, ощущают слабость традиционных методов управления. В стремлении сбить революционную волну, вызванную непосредственным воздействием Великого Октября, они санкционируют насилие в таких масштабах и формах, которые не укладывались в рамки обычных представлений о консервативном типе политики. Как отмечал В. И. Ленин, «империалисты всех стран не останавливаются перед самыми зверскими средствами подавления социалистического движения»{124}. Крайней формой реакции в конечном счете и стал фашизм. Правда, это явление не сразу обрело свой собственный облик, теряясь еще в общем реакционном потоке. Тем не менее В. И. Ленин определил социально-политическую функцию фашизма, указал на единство тактических установок фашистов и тех группировок господствующих классов, которые избрали курс на контрреволюционный террор. Фашизм как политический метод становится реальным воплощением нового экстремистского варианта консервативной политики. Однако при всем тесном политическом и генетическом родстве с традиционной консервативной реакцией фашизм представлял собой качественно новое явление, порожденное общим кризисом капиталистической системы. Из эпизодически используемого средства насилие превращается в норму общественной жизни, перманентный террор подкрепляется демагогической апелляцией к массам. Насилие было наиболее естественной реакцией верхов на резкое обострение классовой борьбы. Буржуазия, подчеркивал В. И. Ленин, была запугана «большевизмом», озлоблена на него до умопомрачения, и именно поэтому она сосредоточивает внимание на насильственном подавлении большевизма{125}. Говоря о годах революционного подъема, когда рабочие «повсюду поддались чарам большевизма», итальянский либеральный политик Ф. Нитти делает такое признание: «Как трудно было управлять в то время без кровопролития и сохранять средний курс между реакцией и революцией!»{126}.
Капиталистический мир оказался во власти «великого страха», который в сознании идеологов буржуазии, ее интеллектуальной элиты вызывал историческую параллель с паникой, пережитой феодально-абсолютистским «старым порядком» во времена Великой французской революции. «Наш мир подавлен страхом перед революцией», – констатировал один из английских комментаторов в 1920 г. В связи с этим он привел слова Б. Дизраэли о том, что «нет более отталкивающего зрелища в мире, чем патриций, охваченный паникой»{127}. Это был не только страх перед сегодняшним днем. Его подоплека была гораздо глубже и серьезнее; буржуазия теряет историческую перспективу. В ее рядах становится все больше тех, кто еще только чувством, а кто уже и разумом, воспринимал послевоенную действительность как совершенно новую эпоху по сравнению с довоенной «золотой порой».
Главной приметой новой эпохи явились революционные потрясения грандиозного масштаба, она не сулила ничего утешительного господствующим классам. Будущее выглядело достаточно мрачным. Окончательно рухнули наивно-оптимистические позитивистские воззрения, преобладающим мотивом в идеологии и психологии буржуазии Запада становится исторический пессимизм. Основным содержанием «нашего времени», утверждал в начале 20-х годов испанский философ X. Ортега-и-Гассет, является процесс смены рационалистической эпохи эпохой разочарования{128}. «Мы несомненно подошли к тому моменту развития, который прямо аналогичен положению римской плутократии к концу республики», – писал тогда же В. Парето{129}.
В это время на Западе успехом пользовалась книга реакционного немецкого философа О. Шпенглера «Закат Европы». Само ее название стало емкой формулой буржуазных представлений об эпохе. «Необычайный успех книги Шпенглера, которой в 1918–1923 гг. зачитывалась вся Германия, – пишет советский философ В. Ф. Асмус, – не есть успех философский, но прежде всего факт социальной психологии, показатель интеллектуального тонуса определенных общественных групп»{130}.
Послевоенное время связано с нарастанием антигуманистических тенденций в духовной жизни Запада. Вспомним Серенуса Цейтблома из «Доктора Фаустуса». Этот герой Т. Манна – воплощение гуманистического начала – испытал после войны потрясение, острый страх перед судьбой, первопричиной которых было чувство, «что завершилась эпоха, не только охватывавшая девятнадцатый век, но восходившая к концу средневековья, к подрыву схоластических связей, к эмансипации индивидуума, к рождению свободы… словом, эпоха буржуазного гуманизма»{131}. Если сам Серенус Цейтблом был охвачен ужасом при виде крушения всего, что представляло для него высшую ценность, то многие из тех, кто окружал его, стремились как можно скорее избавиться от «оков гуманизма». Откровенная проповедь насилия, воинствующий иррационализм, решительный отказ от гуманистических ценностей – таковы духовные спутники исторического пессимизма.
Складываясь под влиянием политических и социально-экономических процессов, подобное мировосприятие существенным образом влияло на духовный климат, который в свою очередь оказывал сильное обратное воздействие на политическое поведение буржуазии. Исторический пессимизм создавал питательную почву для политического авантюризма, стратегии игры ва-банк. Такого рода настроения, естественно, благоприятствовали консервативно-экстремистским, а не либерально-реформистским тенденциям.
В созданном буржуазией аппарате насилия существенная роль была отведена военщине. Это обстоятельство специально отмечал В. И. Ленин: «…преступнейшая и реакционнейшая империалистская война 1914–1918 годов воспитала во всех странах и выдвинула на авансцену политики во всех, даже самых демократических республиках именно десятки и десятки тысяч реакционных офицеров, готовящих террор и осуществляющих террор в пользу буржуазии, в пользу капитала против пролетариата»{132}. Наряду с официальными звеньями аппарата насилия буржуазия использует всякого рода парамилитаристские организации, вербуя в них демобилизованных военных, взбесившихся от страха перед революцией мелких буржуа, реакционное студенчество, деклассированные элементы.
Наиболее важную роль подобные формирования сыграли в послевоенной Германии. Мысль о создании добровольческой армии для борьбы с революционным движением возникла у германских милитаристов еще до Ноябрьской революции.
Германская военщина в союзе с правыми социал-демократами на деньги монополий осуществила эту идею, использовав новоявленных ландскнехтов для расправы с революционными выступлениями. Кстати, пять миллионов марок пожертвовал на столь важное дело и Ратенау, вскоре сам погибший под пулями этих профессиональных убийц. Добровольческие корпуса (фрейкор), численность которых колебалась от 200 тыс. до 400 тыс. человек, были организованы как воинские части, их командиры сосредоточили в своих руках огромную реальную власть{133}.