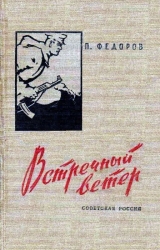
Текст книги "Встречный ветер. Повести"
Автор книги: Павел Федоров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В доме Седлецких поселился обер-лейтенант Альфред Цугер. С утра он уходил на службу, вечером, возвращаясь на квартиру, принимался ухаживать за Ганной. Не отставал от него и Гаспери-Сукальский, часто приезжавший в Вулько-Гусарское. Помимо того, что он являлся уполномоченным от митрополичьей курии по делам католической церкви, ему было поручено готовить почву для формирования воинских частей из лиц призывного возраста, проживающих на оккупированной территории. Разъезжая по районам, Сукальский налаживал связи со старыми знакомыми из реакционной католической клики и прощупывал настроение в народе.
По вечерам он и Цугер удерживали Ганну в столовой и почти силой усаживали ее за стол, откупоривали дорогое французское вино и заводили разговор на волнующую тему. Всех интересовало, что будет с Москвой.
Приходил Олесь, скромно усаживался в уголок и покуривал свои цигарки.
– Вы бывали в Москве? – спросил как-то Цугер у Ганны.
– Да. В этом году я была в Москве, – кутаясь в черную шаль, отвечала Ганна.
Она каждый раз старалась пораньше покинуть это тяжелое для нее общество. Но мать побаивалась офицеров и говорила ей:
– Ты уж потерпи! Мало ли что может с нами случиться…
– Как же вас впустили в Москву? На это, кажется, требовалось разрешение? – приставал Цугер.
– Для вас, конечно, потребовалось бы особое разрешение… язвительно заметила Ганна.
В глазах сидевшей на стуле и штопавшей чулок Стаси появился испуг. Своим резким, насмешливым разговором Ганна могла накликать беду. Вдруг им напомнят о родстве с русским офицером, да и вообще еще неизвестно, чем все это кончится. Михальский на Стасю волком смотрит, а Владислав работает в волости и как будто совсем не замечает своей соседки.
– Мы и так скоро будем в Москве, – не переставая чистить напильничком ногти, вставил Сукальский, самодовольно улыбаясь.
– Не думаю, – отвечала Ганна. – Слишком далеко…
После таких слов наступило долгое молчание. Обер-лейтенант с нескрываемой неприязнью смотрел на Ганну.
– А вы ведете себя слишком дерзко, – сказал Сукальский, – понимаете, что хорошеньким женщинам все прощается…
– Может быть, ради хорошеньких женщин вы и надели этот мундир. Интересно, какой мундир вы предпочтете надеть завтра?
Олесь слушал все это с волнением и поражался, откуда его тихая и молчаливая Ганна научилась так говорить.
– Вы страшно злы, мадам! – начиная чувствовать себя неловко, процедил сквозь зубы Сукальский.
– Наоборот, снисходительна. – Было нетрудно заметить, что Ганне не хотелось говорить со своими бесцеремонными гостями.
– Вас смущает моя форма? Но ведь в наше время военный мундир всюду открывает двери…
– Но он к чему-то обязывает?
– Да. Я военный корреспондент газеты религиозного направления. Святая католическая церковь призывает всех на борьбу с коммунистами, которые закрывают костелы. Какое все это имеет значение? – возразил Сукальский с прежней напыщенностью.
– У нас за полтора года коммунисты не закрыли ни одного костела.
Обер-лейтенант Цугер, подняв голову, выкрикнул:
– Прекратите это глупое препирательство!
Обозленный Сукальский попрощался и вышел. Квартировал он у Юзефа Михальского. Помощником во всех его делах был Владислав.
Цугер после ухода Сукальского настроился на веселый лад. Он видел, как ярко пылает в эту минуту красивое лицо Ганны, и ему страстно хотелось покорить эту гордую женщину. Он стал шутить, улыбаться какой-то наигранной, неестественной улыбкой, похожей на гримасу.
Ганна задержалась в столовой. Ей нужно было поговорить с обер-лейтенантом об одном щекотливом деле. Сегодня днем к ней пришла с яйцами в подоле Франчишка Игнатьевна и попросила вызвать через Цугера врача. Надо было вручить ему подарок. Ганна знала о трагической истории девочки и относилась к ней с большим сочувствием. Сейчас предстояло поговорить об этом с Цугером.
– Не окажете ли вы, – сдержанно обратилась Ганна, – господин Цугер, мне одну маленькую услугу?
– Я вас слушаю.
– У моей соседки есть больная девочка… То есть она не больна, а ранена в ногу. Это совсем ребенок. Случилось такое несчастье… Вы не могли бы разрешить врачу посмотреть девочку, господин Цугер?
Цугер долго не отвечал. Потом он поднял свои свинцовые глаза, бросил на Ганну какой-то пустой, ничего не выражающий взгляд и негромко проговорил:
– Стоит ли беспокоиться сейчас о какой-то девчонке, когда каждый день гибнут тысячи доблестных наших солдат? Ха-а! Лучше будем пить вино, пока мы еще молоды…
Ганна выбежала из комнаты и горько разрыдалась…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
На другой день Франчишка Игнатьевна стала собирать Олю на прием к фельдшеру, старичку поляку, который скрывался от оккупантов. Оля долго отказывалась, протестовала и плакала.
– Ты что, хочешь, чтобы тебе отрезали ногу? – пригрозила Франчишка Игнатьевна,
– Тетя Франчишка, а если мы не пойдем к доктору? У меня уже не болит нога, я хромаю только маленечко… Вот сами посмотрите, совсем и не хромаю…
Крепко сжимая губенки, пересиливая боль, она даже пыталась улыбнуться. Но Франчишка Игнатьевна была неумолима:
– У тебя так быстро перестала болеть нога? Ты уже можешь не хромать? Я вижу, как ты можешь не хромать! Ах, доченька, кого ты хочешь обмануть? Тетю Франчишку? Не трусись, деточка! Ничего худого не будет тебе от доктора. Он непременно тебя вылечит.
Фельдшер, маленький седой старичок, принял Олю в полутемной с низким потолком комнате. Он не сразу разрешил Франчишке и Ганне войти в комнату, а заставил их сначала спрятаться в саду. Потом высунул из приоткрытой двери голову и тихо позвал Ганну. Попытавшуюся пройти следом Франчишку Игнатьевну оставил в передней.
Ганна стала наблюдать за перевязкой. Фельдшер быстро размотал загрязненный бинт и бросил его в таз. Промыв рану спиртом, не обращая внимания на стоны девочки, старичок покачал головой. Взглянув на Ганну, сокрушенно сказал:
– Плохо! Идет воспалительный процесс. Будьте любезны, пани Ганна, подайте вон тот флакончик. Придется резать…
– Что резать? – в ужасе спросила Ганна. – Неужели девочка может остаться без ноги?
– О, нет! Вы меня не так поняли. Придется вскрыть рану и сделать небольшую прочистку. Все будет отлично, – сказал он, беря ланцет.
– Но, господин фельдшер, она ведь ребенок… Посмотрите, как девочка дрожит, боится. Нельзя ли…
– Я уверяю, что не будет больно.
– Не забывайте, что перед вами ребенок, – настаивала Ганна. – Если нужно сделать прочистку, как вы выражаетесь, то неужели нельзя это сделать без вмешательства ваших ножей?
– Разумеется, можно. Но я хотел ускорить процесс выздоровления. Тогда сделаем проще. Положим лекарство, перевяжем – вот и все.
Закончив перевязку, фельдшер внимательно посмотрел на Олю.
– Какое прекрасное лицо у этой девочки! – воскликнул он. – Кто ее родители?
Оля понимала, что речь идет о ней, и видела пристальный взгляд старика. По ее бледному лобику катились крупные капли пота.
– Это дочка наших знакомых, – отвечала Ганна. – Она дочь советского офицера с пограничной заставы…
– Все мне понятно, не говорите больше ни слова, – сказал фельдшер, видя, что Ганна может сейчас же разрыдаться.
Старик помолчал, потом, взглянув на Олю добрым и грустным взглядом, ласково спросил:
– Как тебя зовут, девочка?
– Оля… – чуть слышно прошептала она.
– Твой отец пограничник? Комиссар?
Оля низко опустила голову и ничего не ответила.
– Не бойся! Я поляк и тебя не обижу. Вот возьми печенье… – фельдшер взял со стола пачку печенья и сунул ее растерявшейся Оле. – Ступай, малышка, и поправляйся, милая…
Когда они шли по тихой садовой дорожке, Оля спросила:
– Тетя Ганна, а как зовут этого хорошего дедушку?
– Я, милая девочка, даже и не узнала его имени. А вернуться к нему, наверно, уже нельзя…
Прошло несколько дней. Оля начала поправляться. Александру Григорьевну Франчишка отвела в Перстунь. Осталась Оля одна в чужой семье. С утра она брала в руки палочку, выходила во двор и, прихрамывая, гнала пасти гусей к берегу Августовского канала. С первых же дней ее трудовой жизни с ней начал враждовать старый злой гусак. Как только Оля подходила к стаду, глава гусиного семейства, вытянув шею, по-змеиному шипел, растопырив крылья, бежал навстречу. В первый день Оля так испугалась, что выронила свою палочку. Серый гусак исщипал ее до синяков. В другой раз он едва не сбил ее с ног. Оля вынуждена была отбиваться. Так, с раненой ногой и с синяками на теле, девочка стала привыкать к новой жизни, помогая Франчишке Игнатьевне в хозяйстве. Подогнав гусей к каналу, она садилась на пригорок неподалеку от берега и до боли в глазах неотрывно смотрела на заставу. Застава была совсем близко, в каких-нибудь двух километрах от поселка. О, если бы кто знал, как тянуло ее туда! Только бы одним глазком посмотреть в окошко своей квартиры! Там стояла ее кроватка, а где-нибудь в уголке, наверное, одиноко лежали заброшенная, осиротевшая кукла Маша и бархатный медвежонок с желтыми пуговицами-глазами.
С каждым днем Оля угоняла гусей все дальше и дальше от поселка и все ближе к заставе. Вот уже видны и мостик через канал, конюшня и маленькая баня, стоявшая неподалеку от дома, в котором они жили.

Высоко в небе над опустевшей заставой кружился коршун. То он парит под самыми облаками, то опускается вниз, пролетает над крышей казармы и вьется над вяло текущей в канале водой. Что-то высматривает крылатый хищник. Он с высоты, может быть, даже видит гнездышко с маленькими коршунятами. Оля завидует этой вольной птице и чувствует, что ей трудно, неимоверно трудно пройти даже несколько сот шагов, чтобы заглянуть в родной дом, где все ей так дорого и близко. Собрав все силы, всю волю, она оставляет гусей по эту сторону канала и направляется к заставе. Вот уже она ступает босыми ногами по нагретому солнцем деревянному настилу моста. Забыв про боль в коленке, быстро спускается в лощинку, затем поднимается на изрытую снарядами высотку. Вот баня, от нее начинается вторая траншея, по которой они вышли с Александрой Григорьевной с заставы. Но этого места теперь не узнать: все изуродовано, исковеркано взрывами. На бруствере глубокие вмятины танковых гусениц. И вдруг Оля видит запыленную, помятую зеленую пограничную фуражку. Затаив дыхание, она остановилась, чувствуя, как сильно заколотилось в груди сердце. Оля хотела поднять фуражку, но в это время в траншее увидела еще одну такую же запыленную фуражку, прикрывавшую чью-то голову. Под солнцем рубином поблескивала пятиконечная звездочка. Прижавшись спиной к стенке траншеи, там сидел полузасыпанный землей пограничник. Оля почувствовала, что ее душит что-то тяжелое, гнетущее. Задыхаясь, она закрыла глаза, пошла дальше ощупью, в темноте, и, не помня себя, очутилась в своей квартире.
Двери распахнуты настежь, холодом веет из опустошенных комнат. В разбитые окна врывается ветер, завывает в рамах. Шуршат, пошевеливаются на крашеном полу бумажные клочья и, как живые, вихорьком мечутся из угла в угол. Только у стены от луча полуденного солнца ярко и тепло блестит пуговичка от отцовской гимнастерки, которую Славка не дал тогда пришить, а закинул куда-то за гардероб. Оля бросается к этой драгоценной пуговице, хватает ее, зажимает в кулачке и пугливо оглядывается по сторонам: не подсмотрел ли кто, не отнимет ли это последнее, что осталось от их родного угла!
Крепко прижимая к бьющемуся сердцу свою находку, Оля медленно пятится назад. Споткнувшись о порог, она круто поворачивается, выходит в сени и, как в тумане, бродит по изрытому снарядами двору. Кругом ямы, комья подсыхающей земли. Передняя стена конюшни из красного кирпича почти до самого конька выщерблена пулями и осколками мин. В казарме выбиты стекла. Склад старшины Салахова, уехавшего накануне войны в Гродно, стоит пустой, разбитый. Озираясь на страшную картину разрушения, Оля тихонько идет обратно, ее немилосердно тянет взглянуть еще раз на этого, словно отдыхающего, с опущенной головой человека в зеленой пограничной фуражке…
Оля Шарипова, милая девочка, чует ли твое сердце, кто это сидит? Подойди поближе, стряхни землю и пыль с неподвижных плеч и там увидишь потертую командирскую портупею, побывавшую на Дальнем Востоке, в горах Памира, у берегов Балтийского моря. Сними зеленую фуражку и, может, узнаешь знакомую, только недавно начисто выбритую голову, и тогда увидишь в последний раз дорогое тебе лицо. Это его пуговица с пятиконечной звездочкой зажата в твоем кулачке!
Впрочем, не надо. Тебе и так тяжело, а впереди ждет тебя еще много испытаний. Придет время, вернутся советские воины, снимут свои фуражки перед памятником, где станет вечно, неугасимо гореть большая пятиконечная звезда. Новые поколения пограничников, уходя на охрану священных рубежей нашей Родины, будут стоять перед гранитным обелиском в минутном молчании, отдавая честь мужеству и доблести.
Медленными шажками Оля подошла к краю траншеи, осторожно поднялась на цыпочки. Вдруг что-то зашуршало, и ей показалось, что зашевелилась и чуть покачнулась зеленая фуражка. Оля вздрогнула, замерла на месте, но тут же поняла, что это скатился потревоженный ее ногой комочек земли, потянул за собой другие и засыпал сверху фуражку, не коснувшись лишь ярко горевшей красной звездочки.
Оля вернулась к стаду гусей, села на бережку, вымыла дорогую находку, отчистила песком и долго смотрела на нее мокрыми от слез глазами. Как живой, стоял отец с гимнастеркой в руке и собирался пришивать эту пуговицу, а братишка примерял ее на своей синей рубашонке…
Вечером Оля пригнала гусей в поселок и сразу же легла в постель. Нестерпимо болела голова, тоскливо сжималось маленькое измученное сердце.
Пересчитав гусят, Франчишка Игнатьевна, браня за что-то Осипа Петровича, шумно вошла в избу:
– Так где ж она, моя дорогая пастушка?
– Здесь я, тетя Франчишка, – тихо отозвалась из своего уголка Оля.
– Ты уже завалилась, голубонька? Як же ты стерегла гусей и где ж они у тебя паслись-кормились? Вот что мне хочется знать.
– На канале пасла… у того лужка… Ну, там, где эти зеленые кустики, – предчувствуя беду, ответила Оля.
– И что ты там делала у этих кустиков, на том зеленом лужке? На якие ты там диковинки любовалась и не видела ли, куда подевался тот бойкий гусенок с черной шейкой?
– Он все время там был, только часто убегал в стороночку.
– Вот утром-то он был, а сейчас нет его…
– Куда же он мог подеваться? – тихонько спросила девочка, вспомнив, что тетя Франчишка учила ее поглядывать на небо да чаще считать гусей. А ведь Оля сегодня ни разу не пересчитала их, да и вечером не сделала этого.
– Мне тоже хотелось бы знать, куда мог деваться у нашей пастушки гусенок с черной шейкой? Коршун, наверно, сегодня добре пообедал, ворчала Франчишка Игнатьевна. – Ежели ты будешь так стеречи, то через неделю у меня останется один старый гусак. А тут еще Осип мой – хай дьявол на его лысине блины печет! – пас в лесу корову, а она столько дала молочка – одного воробья не напоишь! А все требуют с Франчишки молока. Старосте подавай молоко, паршивой солдатне молоко, Осипу и поросю тоже, цыплятам вари кашу на молоке, коту толстобокому подавай молока… Да брысь ты, окаянная! – Франчишка Игнатьевна пнула подвернувшуюся под ноги кошку, чтобы хоть на ней сорвать злость. – Всем надо молочка, а Пеструшка одна… И разнесчастный мой Осип не пас корову, а больше воронят считал. Бычок-то, не будь дурак, корову и выдоил. Чтоб вы пропали все, помощники!
От Оли Франчишка Игнатьевна хотела узнать одно: куда и при каких обстоятельствах исчез злополучный гусенок.
– Может, ты спала под кусточками? – пытала она измученную девочку.
– Нет, я не спала, тетя Франчишка…
– Может быть, ты подружек нашла и заигралась с ними?
– Нету у меня подружек…
– Или тебе трудно и не хочется пасти гусят, тогда так ты и скажи.
– Да, мне не хочется пасти. Гусак все время щипается, – проговорила сквозь слезы Оля.
– Эге! Чего ж тебе хочется?
– Мне хочется… К маме я хочу, тетя Франчишка. Я вот пуговичку нашла на заставе.
– Ты была на заставе?… Вот, значит, почему погубился гусенок. Так бы и говорила… – Франчишка Игнатьевна замолчала.
Она сразу все поняла, ей тяжело стало смотреть на девочку.
– Ну, что там на заставе?
– Человек мертвый сидит… в фуражке… В нашем доме, кроме пуговички, я ничего не нашла… – и Оля рассказала, что она увидела на заставе.
Обливаясь слезами, она судорожно сжимала в руке пуговицу с пятиконечной звездочкой.
– Почему ты мне ничего не сказала, голубка моя? – присев на кровать, сокрушалась Франчишка Игнатьевна. – Мы бы с тобой вместе пошли. Раньше надо было, раньше! Я виновата. Хоть бы какое-нибудь платье для тебя взяли. Все ваше имущество, которое немцы не забрали, потаскуха и пьяница Лушка в Новичи к себе вывезла, да и ваша швейная машина у ней. Люди все знают! А у тебя ничего не осталось. Одно платьишко да башмаки старые. А ведь тебя одевать да обувать надо. Вот же она, проклятая война! И чего людям не живется мирно?…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На второй месяц пребывания у Франчишки Игнатьевны Оля пригнала однажды корову, впустила ее в хлев, дала свежей травы и, на минутку задержавшись во дворе, задумалась. Нога ее почти совсем поправилась. Франчишка Игнатьевна постепенно приучала ее к труду, иногда бранилась и ворчала, но с каждым днем привязывалась к девочке все сильней и сильней. Однако Оля по-прежнему тосковала и по ночам плакала.
На заставе разместилось немецкое управление по разработке леса. Оля почти каждый день, забравшись в кусты, подолгу глядела на крышу своего дома. На заставе хозяйничали чужие люди. Они приезжали и уезжали на машинах, рубили и возили лес.
Сегодня Оля снова не утерпела и пошла туда. Траншея была закопана и сровнена с землей, а на высотке был поставлен маленький, в две палочки, крестик. Оля нарвала цветочков и, сделав венок, положила у подножья креста. В это время из их дома вышел с палкой в руках Михальский. Увидев Олю, он крикнул:
– Тебе что здесь нужно? А ну, геть отсюда!
Но Оля как вкопанная стояла на месте, торопливо перебирая оставшиеся в руках цветы. Она не чувствовала страха и смело смотрела на размахивающего палкой Михальского.
– Я кому сказал, тебе или вот этим кирпичам? – тыча палкой, спросил Михальский.
– А я вот не уйду, – упрямо проговорила Оля, исподлобья посматривая на злое сморщенное лицо Михальского.
– Так и не уйдешь? – спросил Михальский, не чувствуя и не понимая возмущения и гнева ребенка.
– Так и не уйду!… Это мой дом, – решительно заявила Оля.
– Ах, вот оно что! Этот змееныш еще может кусаться! Пошла вон, тебе говорят!
На крик Михальского из конюшни вышли рабочие, в числе их плотник Калибек. Он хорошо знал Олю.
– Ну, что ты, Юзеф, привязался к ребенку? – сказал Калибек. – Она тут жила и пришла проведать старое свое местечко. Ты, дочка, не пугайся его и не вяжись с ним, иди лучше до тетки Франчишки.
Услышав спокойные, ласковые слова плотника, Оля, косясь на Михальского сердитыми глазами, медленно побрела к каналу.
– Этого красного отродья я уже больше не потерплю в Гусарском! крикнул вслед Михальский. – Я ей найду место… А тебе, Калибек, не к лицу заступаться за красных.
– А ты еще побранись, еще! – крикнул Калибек, уходя в конюшню.
Не знала Оля, какая грозит ей беда от этой встречи со старостой.
Вспоминая дневное происшествие, Оля открыла дверь в хату. В комнату ворвался бледноватый свет сумерек и упал на сидевшего у стола человека в измятой военной форме. Человек резко повернулся и поставил на стол недопитую кружку молока.
Франчишка Игнатьевна сидела в другом конце стола и, взглянув на Олю, загадочно улыбнулась.
Военный, вытирая рушником губы и густо заросшие щеки, пристально смотрел на девочку черными, блестевшими при тусклом свете глазами и тоже улыбался.
– Здравствуй, Оленька! Узнала? – проговорил он хрипловатым, совсем незнакомым голосом и, положив на широкое плечо выгоревшей гимнастерки белый рушник, подался вперед всем корпусом.
– Нет, не узнаю, – смущенно призналась Оля.
– Раз не признаешь, значит, все в порядке, – продолжая улыбаться, сказал военный.
– Да это же Костя! Дядя Костя, посмотри-ка получше, – показывая рукой, проговорила Франчишка Игнатьевна.
– Дядя Костя! – обрадованно крикнула Оля и почувствовала, как он подхватил ее на свои сильные руки, прижал к груди и стал гладить тяжелой и теплой ладонью по голове.
Он уже все знал от Франчишки Игнатьевны и в свою очередь рассказал, как дрался в боях под Гродно, был ранен, едва не попал в плен. Его укрыли и вылечили местные жители. Сейчас он пробирается к линии фронта. Сюда зашел, чтобы узнать обстановку и запастись продуктами для всей группы, которую он вел. К тестю Кудеяров сразу зайти не решился, а через огороды прошел к Франчишке Игнатьевне. Теперь он поджидал Ганну. Осип Петрович отправился ее предупредить.
Вскоре вошла Ганна. Увидев Костю, она схватилась за грудь и остановилась около порога.
Кудеяров мягко поставил на пол Олю и с протянутыми руками шагнул Ганне навстречу.
– Здравствуй, Ганна! Здравствуй, сестра!
Ганна бросилась к нему и, целуя его колючие щеки, отрывисто шептала:
– Милый Костя! Славный наш Костя! Хорошо, что ты вернулся здоровый и сильный! Я верила, что ты жив! Где же теперь Галина?
– Галина теперь далеко…
И Костя рассказал, как он отправил ее вместе с другими женами командиров в специальном поезде в эвакуацию, а сам вернулся в часть и в районе Гродно был ранен.
– Ты хорошо сделал, что отправил ее. А у нас тут… – сказала Ганна, сильно взмахнув рукой. – Я на это смотреть не могу! Помнишь, Костя, мы рассказывали тебе про того пана Сукальского, – продолжала Ганна. – Он уже здесь. Уполномоченный по делам католической церкви. А сам выясняет настроение народа и регистрирует молодежь. Для чего, ты думаешь, это делается? Германской промышленности требуется много рабочей силы. Так вот они и гонят туда новых рабов из славян.
– А ты разъясняй людям, что может ожидать их в фашистском царстве! сказал Костя. – Говори всюду, где только можно, что они попадут на каторгу к фашистам. И твердо говори, что Красная Армия не разбита и никогда не будет разбита! С востока целыми эшелонами везут раненых фашистов. Значит, Красная Армия бьет их, и крепко бьет!
Пришла Стася и, желая скрыть напряженное волнение, поздоровалась с зятем сухо и отчужденно.
– Ну, рассказывай, как воевал, куда нашу дочку подевал? – Она оглядела Костю с ног до головы и, показывая пальцем на пистолет, добавила: – Еще не отвоевался, значит? Дочь нашу загубил и нас тоже хочешь? Зачем с оружием ходишь? Нам и так житья нет! Зять – красный офицер, большевик! А что, разве мы выбирали себе такого зятя? Дочь нас об этом не спрашивала.
– Оставь, мама! – крикнула Ганна. – Ты уже давно свою войну проиграла – и молчи. Он не в твоем доме сидит…
– Вижу, как он считает нас своими родственниками: мимо прошел и в чужом доме оказался. Пусть хоть скажет: куда девал мою дочь?
Костя коротко и спокойно все рассказал, под конец спросил:
– Ты что же, мать, нарушила свое слово? Хочешь выяснить, кто сильней, так что ли?
– Какое я нарушила слово?
– А помнишь, когда мы были у вас с Галиной, ты сказала, что все забыто, а теперь опять за старое? Пользуешься тем, что зять твой попал в беду. Да, правильно, я большевик! Оружие ношу при себе и померяюсь еще силами с врагом. Мы еще долго будем носить при себе оружие, до тех пор, пока не останется на земле ни одного фашиста! Ты вот лучше расскажи, как новая власть? Расскажи!
– На черта мне эта власть! Мне бы только спокойно прожить на старости лет, а вы вот войну затеяли…
– Не мы ее затеяли, – сказал Костя.
– Откуда мне знать, кто ее затевал…
Стася под влиянием Ганны давно уже поняла, что от фашистов хорошего ждать нечего, но из-за гордости не хотела признаться, что война перевернула все ее понятия о жизни.
Завоеватели оказались совсем не такими, какими она их себе представляла раньше. Жаль было и Костю, похудевшего, с измученным, постаревшим лицом. Взять бы да приласкать по-матерински, сказать задушевное человеческое слово, а вот что-то мешало, не позволяло тронуться с места.
– Ладно, не будем сейчас судить, какая власть краше. Пойдем-ка лучше отсюда. Людям тоже надо покой дать. Иди в овин, там тебя отец ждет. Он тоже выпрягся из ярма и ходит, как ленивый вол… Опустил голову и молчит, молчит… А нам что, легче от его молчания?
Вечером при тускло горевшем фонаре в овине сидели Олесь и Осип Петрович и слушали Костю.
– Советская Россия, – говорил Кудеяров, – имеет огромные резервы, война только началась. По радио выступал председатель Государственного Комитета Обороны Сталин и сказал, что военный успех германской армии, обусловленный внезапностью нападения, является кратковременным. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. И фашисты в этом с каждым днем убеждаются, – продолжал Костя. – Они видели, как советские бойцы и командиры защищали Брестскую крепость. Даже раненые, в лужах крови, стреляли до последнего патрона. А здесь какой героический бой выдержали пограничники заставы лейтенанта Усова! Я проходил мимо и видел, сколько немцы выбросили туда снарядов.
– Это верно, – подтвердил Осип Петрович и глубоко вздохнул. – Мы с Иваном Калибеком да с Шиманчиком захоронили их, знаем…
– Где они похоронены? – поблескивая при слабом свете темными глазами и жадно затягиваясь махоркой, спросил Костя.
– Там, прямо в траншеях. Нам запретили их трогать. Пока так захоронили и временный крест поставили.
– Сколько их? – приближая лицо к фонарю, спросил Кудеяров.
Он отрывисто и часто дышал, стараясь разглядеть посуровевшее лицо Осипа Петровича.
– Да, почитай, все остались… Другие на границе по одному, по два человека лежали… на разных участках. Их тоже на месте захоронили…
– И лейтенант Усов там? – после длительного напряженного молчания задал Костя этот нелегкий для него вопрос.
– Да. Он вместе со своими… – Осип Петрович наклонился к Кудеярову, перейдя на шепот, добавил: – У него была зажата в руках винтовка, этакая с особым прибором. Он вдоль траншеи лежит и как будто отдыхает, на небо смотрит, а винтовка в руках. Так мы его и захоронили вместе с ней. Хай будет с винтовкой. Мы не тронули ее и никому не сказали… Ну, с прибором такая, со стеклышками…
– Снайперская! – Костя расстегнул душивший его воротник гимнастерки и дрожащими пальцами стал рвать бумагу для новой цигарки.
Олесь Седлецкий пожевывал усы и шумно сопел носом. Весь вечер он молчал, только в начале беседы расспросил о Галине.
– А ты почему молчишь?… Чего ты молчишь? – не выдержал Осип Петрович.
– Тебя слушал… Не трогай меня, Осип, и без тебя лихо!
– А кому сейчас не лихо?… Всем горько! У тебя в саду яблони рубили, а я свой топор в руки схватил. Во двор вышел, трошки посмотрел да в хлев, около коровы постоял, опять в хату, а из хаты во двор, а топор у меня в руках, а чего он у меня очутился, сам не помню…
Осип Петрович замолчал, поднявшись, вышел из овина и постоял у выхода.
Было уже поздно. В деревне пропели вторые петухи. Взошла и повисла над Августовскими лесами неполная луна, похожая на разрубленную пополам серебряную медаль крупного размера и далеких времен. В полосе бледного света тучами вились и гундосили комары.
Вернувшись в овин, Осип Петрович сел на солому и после минутного молчания заговорил:
– Слушай меня, Константин! В лесу скрываются раненые пограничники. Сначала там был один, а потом я второго туда отвел. Фамилия ему Чубаров, повар с заставы. Ты, наверное, его знаешь. Они с винтовками. Ходи до них. У меня недавно грех случился, ой и добре же мне досталось от моей старухи. Погнал я пасти коров, пройду, думаю, подальше, где корму побольше. А то Франчишка все точит меня – и что плохо пасу корову и мало она молока дает. Пригоняю я свою животину до лесочку, смотрю, из Оленьего овражка выходит Иван Магницкий. Он в лесу ховается. Его Юзеф собирается немцам на суд отдать, да Иван не такой дурак, чтобы к ним идти. Когда разговорились, он мне признался, что лечит и подкармливает одного солдата. А мы с Франчишкой тоже одного присматривали. Я ему так и сказал. «Может быть, – говорю, вашему что-нибудь нужно? Мы своего молочком поим». – «Молочка, – говорит, – не мешает, чтобы побыстрей поправился». – «Ну что ж, – говорю, – молочка так молочка. Цибарка есть?» – «Найдется, – говорит, – цибарка. Только вот кто доить будет?» – спрашивает он меня. Я говорю: «Старый солдат да чтобы корову не выдоил!» Ну, взял эту цибарку, а чертова Пеструшка не дается, лягаться почала. Кое-как все-таки выдоил. Молоко отдал. Пригоняю скотину домой, баба моя хвать за цибарку и доить села, а молочка нет. Тут она меня давай пытать, где я пас корову и как. Я нарочно указал такое место, где никакой травы не растет. Она все тут знает. «Все равно, – говорит, – хоть сколько-нибудь да я должна надоить. Ты, – говорит, – наверное, черноголового бычка проглядел». – «Случился, – говорю, – такой грех…» Ох же, и почала меня баба вздрючивать! Всех чертей и бесенят на меня поваляла… Досталось нам на пироги вместе с Олей… А я уж молчу, молчу. Магницкий заказал не говорить, только вам говорю. Теперь корову каждый день доим – и достается мне от Франчишки такое лихо, не дай боже! Ты, Костя, ходи до них. Они рады будут. Сержант уже поправляется…
Еще до рассвета Осип Петрович проводил Кудеярова в лес, туда же снесли и мешок с продуктами.







