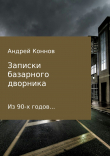Текст книги "Дождь-городок"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Я вышел из кабинета. В коридоре стояла Вика и разговаривала с учениками.
– Николай Сергеевич, на минутку!
Я остановился, она подошла ко мне.
– Приди сегодня обязательно. Это очень нужно. Ладно?
Я кивнул. Мне стало немножко неловко, потому что я не появлялся у нее уже несколько дней. «Наверно, беспокоится из-за моих неурядиц», – подумал я. Говоря по правде, я не хотел навязывать ей свои неприятности. Да и поймет ли Вика меня до конца? Скорее, скажет: «Ты же всегда можешь плюнуть на эту богадельню!» Конечно, я мог плюнуть, но «богадельня»-то останется и будет продолжать перемалывать таких, как Светлана, или выталкивать таких, как я. «А тебе-то что?» – скорее всего возразит Вика. Она ведь убеждена, что хорошее в этом мире нужно искать, как золото, в одиночку и не думать о неудачниках. Но я не думать не мог хотя бы потому, что сам ощущал себя таким несправедливо высеченным неудачником.
Смешно сказать, что я никак не мог смириться с тем, что есть люди, которые относятся ко мне враждебно. Наверно, мне просто везло до сих пор, но я всегда нравился окружающим. Мальчишкой, во дворе никогда не ревел, не ябедничал, лез в драки за своих, и меня за это любили. В школе никому не отказывал в помощи, одним объяснял непонятное, другим просто давал списать и считался хорошим парнем. В университете был всегдашним кандидатом на всевозможных выборах и простодушно верил, что нельзя не любить такого неглупого, невредного и порядочного парня, каким я себя считал.
И вдруг эта открытая враждебность двух-трех человек, вроде Тараса Федоровича или Прасковьи, при молчаливой поддержке большинства. А сомневаться не приходилось: большинство учителей не на моей стороне. Искренне, откровенно не на моей. Причин этого я понять не мог – ведь я вел себя так «правильно»! – я был слишком неискушен в делах житейских, чтобы увидеть, что своим поведением не воодушевляю этих людей, а скорее попрекаю тем, что они свыклись с происходящим в школе, напоминаю о временах, когда они и сами возмущались директором. Но времена те прошли, и учителя, в большинстве, тесно привязали себя к школе и городку. Я вносил беспокойство в их жизнь. Не все они имели дипломы об окончании вуза, были профессионально уязвимы, а уходить им было некуда. Многие пообстроились, завели хозяйство, думали об учительской пенсии. Я был для них пришельцем, нарушившим привычные правила игры.
Возвращаться в учительскую было тяжело, однако я собрался с духом. Не хотелось, чтобы меня видели побитым.
У окна за столом Светлана проверяла тетради. Она глянула на меня тревожно, не доверяя бодрому выражению моего лица. Эта тревога в ее глазах вернула мне силы. И, позабыв о недавнем решении держаться подальше от Ступаков, я подошел и присел за стол рядом. Не поднимая головы, Светлана написала на промокашке:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
*
Вечером, валяясь на койке в ожидании своего обычного часа, я покаянно решил, что отношусь к Вике по-хамски. Кроме букетика в день рождения, я не сделал ей ни одного подарка. И мне захотелось сделать ей что-нибудь приятное немедленно, сейчас.
А немедленно сделать ничего было нельзя. Время слишком позднее. Пришлось довольствоваться бутылкой шампанского из станционного буфета-ресторана. Я прикупил к ней шоколад, не первый месяц пылившийся на витрине, и все-таки почувствовал некоторое облегчение мук совести.
С этим облегчением на душе и тяжестью в отвисшем кармане я и толкнул дверь… Вика не вышла встречать меня, я подумал, что она задремала, и обрадовался этому, представив, как я сначала выложу на стол свои покупки, а потом уже разбужу ее поцелуем.
Но Вика не спала. Она ждала меня, сидя в кресле в свитере и в лыжных брюках, а на столе стояла бутылка вина и два бокала.
– Вот это да! А я-то собирался сделать тебе сюрприз…
И я несколько разочарованно поставил на стол шампанское. Вика усмехнулась грустновато:
– Нет уж, сегодня сюрпризы за мной.
– Какой же юбилей нам предстоит отметить?
– Сейчас узнаешь, – сказала она серьезно.
Присев на ручку кресла, я заглянул ей в глаза.
– Юбилей невеселый?
– Я уезжаю, Коля.
Да, она не любила дальних подходов и выражала свои мысли ясно и коротко. Мне стало больно-больно. Я никогда не думал, что это может произойти так скоро.
– Ты же умница, Коля, правда?
Что я мог ответить?
– Знаешь, мне всегда было немножко обидно, что ты меня мало любишь. Такой неискоренимый женский эгоизм. Нам хочется жертв, обожания, даже страданий. Мы ведь отдаем мужчинам очень много. Но сейчас я хочу, чтобы ты любил меня совсем немножко и не переживал.
Я отодвинулся от ночника, который освещал мое лицо.
– Мы как-то договаривались, – продолжала она, – что ты полюбишь меня потом. Помнишь? Когда проживешь еще долго-долго и поймешь, что я хорошая…
Она утешала меня, как малыша, у которого отнимают игрушку.
– Почему ты уезжаешь?
– Я выхожу замуж, Коленька.
– За кого?
Я спросил, потому что в самом деле не мог сообразить, за кого же она может выйти замуж. Я ведь не делал ей предложения!
– За Алексея.
А я-то совсем позабыл о нем, несмотря на случайные встречи в городе и вежливые приветствия на ходу. Бот как! Здоровались и шли своей дорогой, а на самом деле играли в довольно сложную игру, где выигрыш первого круга вовсе не обеспечивал победы.
– Он получил новое назначение. Во Львов. Нужно было решать немедленно.
– Говорят, Львов красивый город.
– Да, говорят. Тебе тяжело, Коля?
Наверно, ей хотелось, чтобы мне было не тяжело и все-таки тяжело, хотя бы немножко. Ведь иначе зачем было все то, что было с нами?
– Нет, то есть да, конечно. Но я понимаю. Какой из меня муж… А он, кажется, хороший человек.
Назвать его по имени я не мог.
– Да, он хороший.
– Ты любишь его?
– Хочу полюбить. Хочу полюбить, Коля. И вообще хочу быть хорошей женой, иметь детей, штопать носки… Наверно, время подошло. Я ж уже не такая молодая.
– Когда вы едете?
– Завтра.
– Завтра?!
– Да, завтра. С Троицким я договорилась еще пять дней назад. Он не ерепенился. Даже наоборот.
– Ученики тебя любят.
– Любят, я знаю. Я хотела остаться до конца года, но Алексей предъявил ультиматум. И правильно сделал, конечно. Еще неизвестно, приехала бы я к нему или нет.
– Значит, завтра?
Выговорить это было легче, чем поверить.
– Да, завтра. Я не хотела тебе говорить до последней минуты, а то было бы еще тяжелее.
– Наверно. Ну, давай все-таки выпьем.
– Только не шампанское.
Я разлил вино.
– За твое счастье!
– Спасибо. Я очень хочу счастья, а еще больше – покоя. Но сначала выпьем за молодость, которая сегодня кончилась. Она у меня была не ахти какая, но ведь другой совсем не было.
Я выпил вино залпом. Неужели Вики уже нет, неужели завтра ее не будет ни в этой комнате, ни в этом городе, ни в моей жизни? И мне вдруг захотелось вернуть ее, сделать невозможное… Но она догадалась и покачала головой:
– Нет, Коля, нет.
Все кончилось. У мальчика, что выводил рядом с моей ее линию, сломался карандаш.
Вика разлила в бокал то, что оставалось в бутылке.
– Давай выпьем, чтобы нам когда-нибудь встретиться. Случайно и неожиданно.
– Да, в незнакомом городе. Я очень хорошо вижу, как это произойдет. Будут бежать троллейбусы, машины, спешить люди – и среди них ты, представительная, интересная дама, а какой-нибудь малыш будет тянуть тебя за руку и канючить: «Мама, ну пойдем… Ма-а-а…» А ты скажешь внушительно: «Как тебе не стыдно, сынок! Разве ты не видишь, что я разговариваю с дядей? Дядя подумает, что ты невоспитанный мальчик!»
Вика слушала с улыбкой.
– Изумительная картина. Я тоже представляю тебя. С брюшком и в шляпе. Ты будешь вежливо улыбаться и придумывать фразу, которую уместно сказать на прощанье.
– Это уже не смешно.
– Пожалуй, но так бывает. Кстати, ты когда уедешь отсюда? Весной?
– Не знаю. Я не думаю об этом.
– Мечтаешь перевоспитать нашего папу?
– Нет, только не перевоспитывать.
– Повоевать хочешь? Не советую. Брось это мальчишество. Не трать, кума, силы, как хохлы кажуть.
– Опускайся на дно?
– Зачем на дно? Возвращайся домой, в университет, берись за науку. Наука – это положение. А здесь…
– Между прочим, на днях мне почти то же самое говорила Светлана.
– А… соперница! Это она правильно сказала. Тебе в самом деле нужно уезжать. Если не уедешь, можешь наделать много глупостей.
– Ты же сама говорила, что мне ничего не грозит. Ну, выгонят…
– Я не про те глупости. Я про Светку. Можно здорово попортить жизнь трем людям.
– Думаешь, я тебя так быстро забуду?
– Сначала да. Моя очередь впереди. Ты слушайся меня. Я знаю, что говорю. Удирай в университет. Подберешь себе девочку-студенточку, осчастливишь ее, женишься.
– Не нужно об этом.
Я поднялся, и она не остановила меня. Наверно, ей было бы тоже тяжело, если б наше прощание затянулось.
– Холодно, – сказала Вика, – и сыро. Не простудись. – Она поправила шарф у меня на шее. – Какой он у тебя старенький. – И вдруг чему-то обрадовалась: – Подожди минуточку! – Вика открыла дверцу шкафа. – Вот, возьми. Он хороший, мягкий-мягкий! Это мне бабушка связала.
Шарф был действительно мягкий и теплый. От него пахло духами. Ее духами.
Дверь закрылась за мной, и в первый раз, закрыв эту дверь, я не оглянулся по сторонам, высматривая случайных прохожих, – теперь это не имело значения…
И все-таки я увидел ее еще раз.
На вокзале.
Нет, я не собирался туда, я просто вскочил, когда до отхода поезда оставалось пятнадцать минут, и побежал, застегивая на ходу пальто.
Дождь перестал, и на городок опустился густой туман. Он заполнил все от земли до неба и светился вокруг лампочек желтыми шарами, навешенными вдоль улицы на невидимую нитку. Я бежал от шара к шару, и мне было трудно дышать от усталости и тяжелого, липкого воздуха.
Вокзал был переполнен людьми с узлами, чемоданами и корзинами и просто без всего, в толстых сырых пальто, стеганках и даже полушубках. Пахло старой дорожной одеждой, дешевым табаком, залитыми карболкой вокзальными уборными и еще чем-то скверным, нечистым в этом тесном зале, где люди растаптывали по полу натасканную подошвами грязь.
Я бросился через толпу к выходу на перрон, но туда не пускали без билетов, а возле кассы судорожно пульсировала живая очередь. Снаружи три раза ударил колокол. Я снова выскочил на площадь. Ее отделяла от перрона длинная литая решетчатая ограда. За ней метрах в пяти-шести на первом пути стоял львовский поезд. Я взялся руками за прутья решетки и приник к ограде. Тут же раздался гудок, паровоз резко дернул вагоны, и они застучали буферами, будто шарахнулись от этого неожиданного толчка, а потом, как овцы, послушно потянулись с места. Провожающие шли рядом с вагонами и кричали и махали руками.
Над их головами я и увидел майора. Он тоже махал кому-то с площадки, а Вика стояла у него за спиной, спрятав подбородок в воротник черной котиковой шубки. Вагон прокатился мимо, и тут перрон окутал белый пар, долетевший от паровоза. А когда клочки пара расползлись по сторонам, мимо меня уже торопливо простукивали последние вагоны. Я выпустил из рук решетку.
Нужно было идти домой, но я снова прошел через зал, где стало посвободнее, и зашел в буфет.
– Двести коньяку, пожалуйста.
– Конфетку дать? – спросила буфетчица, не глядя на меня.
– Дайте.
Я задержал дыхание и крупными глотками выпил густую коричневую жидкость. Потом, все еще не дыша, раздавил зубами вязкую конфету. Стало теплее и спокойнее.
Мне захотелось пройти мимо дома, где жила Вика. Я свернул в совсем темный переулок и пошел протоптанной возле плетней дорожкой. Я уже не думал, что произошло что-то непоправимое. Пусть мы не можем быть вместе, но что из этого? Ничто еще не кончено. Мы еще встретимся где-нибудь неожиданно, и это будет замечательная, чудесная встреча, совсем не такая, как мы вчера представляли. Нет!
Случится это где-нибудь на юге, будут цвести магнолии, шуметь море, голубеть далекие горы. Мы будем сидеть в ресторане и слушать изумительно красивую музыку.
И она скажет: «Знаешь, миленький, а ведь по-настоящему я любила только тебя, тебя одного…»
Я не замечал, как по моим щекам катятся капли снова пробившегося сквозь туман дождя.
Вот и калитка, из которой я вышел вчера вечером в последний раз. За ней – мощеная дорожка. Все как и было. Только на окне, закрытом ставнями, – перекладиной креста железный засов. Шальная мысль пришла в мою пьяную голову: мне захотелось войти во двор и попробовать ручку двери. Ведь она всегда была незапертой для меня. Я даже взялся за щеколду калитки.
Где-то поблизости залаяла собака. Не на меня, так, сама по себе, может быть, в ответ на свои грустные собачьи мысли. Я бросил щеколду и быстро пошел прочь, попадая ногами в грязь сбоку тропинки. Теперь уже какая-то сила несла меня в сторону от этого дома, как будто я спешил, мчался туда, на юг, где магнолии и где Вика встретит меня. Я не мог думать, что она сейчас сидит за столиком в купе и смотрит в темное окно, за которым ничего не видно, а Алексей аккуратно раскатывает на полках матрасы.
*
Хотя в маленьких провинциальных городках любят посплетничать и посудачить, отъезд Вики прошел как-то незаметно. Наверно, потому, что многие в школе были ему рады и считали неприличным открыто высказывать свои чувства.
Только Прасковья с присущей ей прямолинейностью произнесла по этому поводу небольшую, но энергичную речь в учительской. Я попал на конец ее, когда Прасковья говорила:
– …Таких вертихвосток нужно лишать учительского звания…
Конечно, эта болтовня не могла уже повредить Вике, но я вступился:
– В чем же вы видите ее вину?
– Школу бросила среди года!
– Но ее муж получил назначение, а он военный.
– Военный… Тем более понимать нужно, что кто стоит.
– Жаль, что он вас не слышит.
– А то испугалась бы? Правду говорю! Да и все мужики на один манер, всем одно и то же нужно.
– Вы несправедливы к мужчинам. Наверно, они в свое время уделяли вам мало внимания.
Я бил так же, как и она, – грубо и больно.
Прасковья вскипела:
– Я за их вниманием не бегала. А вы, молодой человек, не будьте всеобщим адвокатом. Не заступайтесь за каждую…
– За каждую не буду. Вас бы, например, я не стал защищать… – И, подождав, пока она вытаращит глаза от моей наглости, добавил спокойно: – Вы и сами всегда защититься можете.
Придраться было не к чему.
И еще один разговор о Вике произошел у меня, с учениками. Начался он неожиданно. Я закончил урок и собирал пособия, когда кто-то из ребят спросил:
– Николай Сергеевич, а вы скоро уедете?
– Я? Почему вы решили, что я уеду?
– Да вот Виктория Дмитриевна уехала. Хорошие учителя все уезжают.
– А она была хорошая? Двоек ставила мало?
Ребята немножко обиделись:
– Ну что вы! Разве мы не понимаем… С ней поговорить можно было. И не орала никогда, как Параша.
– Прасковья Лукьяновна, – поправил я механически. Я думал о том, что о Вике говорят уже в прошедшем времени.
– Жалко, что она уехала…
– А что тут хорошего, в нашей деревне? Правильно сделала…
Разговор с ребятами как-то подбодрил меня и помог легче перенести новую оплеуху. Троицкий «принял меры». Я получил выговор за то, что явился на урок неподготовленным, и расписался в приказе, будто это был не выговор, а секретный документ.
Расписавшись, я спросил у секретарши, которая старательно промокала мою подпись:
– Какие еще существуют взыскания?
– Как какие? Строгий выговор…
– А еще?
– Получите строгий – тогда скажу, – ответила секретарша неодобрительно.
– Ну, ждать недолго…
– Напрасно вы так легкомысленно относитесь к взысканиям. Это может для вас плохо кончиться.
– Расстреляют?
Она только махнула рукой.
Да и не она одна. В школе все больше начинали смотреть на меня, как на потерянного. Я чувствовал, что окружающие представляют мое будущее гораздо отчетливее, чем я сам, и злился, а вокруг меня постепенно образовывался своего рода вакуум.
Чем-то эти дни после отъезда Вики напоминали мои первые недели в Дождь-городке. Так же, как и тогда, я почти все свободное время проводил дома, но теперь не за книжками (читать не хотелось), а больше просто так, в размышлениях. И еще я часто и подолгу беседовал со своей хозяйкой.
Я уже говорил, что оценил ее сразу, и теперь окончательно убедился, какой это умный и сердечный человек. Я не рассказывал Евдокии Ивановне всего, что происходило в школе, но всегда чувствовал, что она видит и понимает мое настроение, что она на моей стороне.
Ей пришлось многое пережить, как почти всем людям, родившимся к началу нашего многострадального века. Видела она и голод, и войну, и болезни. Потеряла мужа, убили на войне сына. И потому, наверно, хотя и держала в горнице икону, в бога верила слабо, считала всемогущество его преувеличенным и говорила так:
– До всех нас, Микола Сергеевич, видать, руки у него не доходють. Иначе откуда столько несчастья берется? – И, вздохнув, добавляла: – Сами мы о себе больше думать должны. Друг другу подлости не делать, не грешить.
Слушая вечерами ее ненавязчивые рассказы о прошлых годах, о войне, о горе, что пришлось хлебнуть в избытке, спокойные, неторопливые рассказы, без жалоб на судьбу и без лицемерной покорности, сопереживая чужим бедам, я ощущал себя одним из очень и очень многих людей, и собственные беды начинали казаться мне не такими гнетущими, и на душе становилось легче.
Я старался как мог помогать Евдокии Ивановне в домашних заботах: колол дрова, топил печку. Мне было приятно выразить таким образом свою признательность, отблагодарить за все, что она делала для меня. Помощь мою она принимала с достоинством, сама ни о чем не просила, но и в благодарностях не рассыпалась. Просто я знал, что всегда найду в шкафу выстиранную и выглаженную рубашку, а в воскресенье к обеду будет что-нибудь из того, что я любил дома.
Последнее время Евдокию Ивановну одолевали новые тревоги. Несколько лет назад дочка ее окончила техникум в Одессе и вышла там замуж. Замужество дочери стало для Евдокии Ивановны очередным испытанием. Брак она одобрила, а оказался он неудачным. Про зятя Евдокия Ивановна рассказывала так:
– С виду он мужчина хоть куда: представительный, высокий, ко мне в хату зашел, так в дверях аж согнулся. Уважительный очень и Верочку любил. А оказался – несчастна людына, алкоголик. И сам горю такому не рад, а сделать ничего не может. Даже наука не помогает. Жалко мне его было, а дочку того жальче. Нема ей с ним жизни, и все. Терпела-терпела, а как напился он да избил ее, я сказала: «Уходи, Вера! Не будет тебе с ним жизни». Так и пришлось расходиться. Больше году вин после приходил, все звал снова вместе жить, да разве можно это, если нет у него силы горилку эту проклятую одолеть?
Теперь Вера была замужем снова, на этот раз удачно, и ждала ребенка. Событие это порождало множество проблем и должно было самым существенным образом отразиться на будущем Евдокии Ивановны.
– Видать, придется мне хату продавать да в город перебираться. Зятю квартиру завод обещает, а за дитем присмотр нужен. Они ж оба працюют… Тяжко мне это будет, Микола Сергеевич. Привыкла я тут сама у себя хозяйнувать. Считайте, десять рокив, як без чоловика управляюсь. А теперь к зятю в няньки поступать.
– А они сюда не хотят переехать? – спрашивал я, хотя и знал хорошо, что не переедут.
– Нет, Микола Сергеевич. Такое уж время подошло, что все в город да в город. Они ж молодые, работу там мають, що им тут робить? – И, чтоб не дать волю своим сомнениям, добавляла шутливо: – И я, бабка, за ними… Хай там, у городе, подывляться на бабку в чоботях. Вот, скажуть, пугало с огорода!
Так полушутливо-полугрустно говорили мы о том сложном, что происходит в жизни, что бросает людей с места на место, отрывает от родительского крова. Под конец я обещал купить у Евдокии Ивановны дом и остаться навсегда в Дождь-городке. Она смеялась добродушно, и мы выпивали на сон грядущий по стопочке домашнего вишневого вина.
– В час добрый! – говорила Евдокия Ивановна…
А час-то был трудный. И не только потому, что Троицкий с Тарасом Федоровичем не давали мне покоя каждодневными придирками. Больше тревожило другое. Вика ушла из моей жизни так же внезапно, как и пришла в нее. И таким неожиданным и ослепительно щедрым было ее недолгое появление, что я больше удивлялся не исчезновению Вики, а тому, что она была. Конечно же, я не забыл ее, но теперь мне просто не верилось в то, что между нами было, не верилось в само существование Вики. Зато существовала Светлана, и мне все чаще казалось, что только о ней думал и думаю я с того самого дня, когда увидел ее в первый раз, когда Андрей, поставив на траву мой чемодан, открыл калитку и худенькая девушка с ровными соломенными волосами встретила нас на пороге беленькой мазанки.
Когда же это началось? Может быть, после той шутливой потасовки с мужем из-за Вики, когда она смущенно встретилась со мной глазами, краснея и поправляя прическу? Нет, скорее на педсовете, когда она сидела одна, совсем одна, сжав губы, и ее били, а мне казалось, что бьют меня. И, конечно же, это уже было, когда она прижалась лицом к моему плечу, и я слышал, как бьется ее сердце.
Говорят, что нельзя не радоваться, когда любишь, но я не радовался, а мучился, положение складывалось безвыходное. В самом деле, об отношениях, которые связывали нас с Викой, здесь не могло быть и речи. Невозможными были и любые другие отношения. Иногда мне приходила в голову сумасшедшая мысль увезти Светлану из Дождь-городка, однако у меня все-таки хватало ума тешиться ею не слишком долго. И дело, разумеется, заключалось не в том, что у Светланы был ребенок, что она была старше меня. Я еще не миновал того счастливого времени, когда возраст любимой не смущает. Дело было, конечно, в Андрее.
Да, я видел горе в глазах Светланы, когда он, пьяный, стоял, забыв, что нужно снять пальто; я представлял себе, что должна была она испытывать, когда Андрей молчал на педсовете, но я хорошо понимал: все это вовсе не значит, что семьи у них уже нет. И не из тех людей я был, которые способны использовать чужое несчастье. Нанести удар в спину Андрею представлялось мне таким же немыслимым, как и предложить Светлане роль любовницы. Да и не был я настолько самоуверен, чтобы не сомневаться в ее ответных чувствах. Я ведь полюбил ее, а настоящая любовь не может быть самоуверенной.
Оставалось единственное – уехать. Я думал об отъезде, а сам считал, сколько часов осталось до следующего дня, когда я снова смогу увидеть в школе Светлану. Ведь к Ступакам я теперь не ходил. Я боялся прийти и чем-нибудь выдать себя. А пойти хотелось невыносимо.
Но и они не приглашали меня. Каждый день мы виделись в учительской, перекидывались несколькими незначительными словами, даже шутили, однако ни разу ни Андрей, ни Светлана не сказали, как часто говорили раньше: «Что-то вы давно не заглядываете…» Видимо, оба считали, что так лучше, а я, понимая их правоту, был не в силах найти единственное решение и, измучившись в поисках, ждал очередного дня, зная одно: завтра у нее третий урок, а у меня второй, и я буду украдкой смотреть на часы, дожидаясь секунда за секундой звонка… А послезавтра наоборот: у нее второй, а у меня только четвертый, но я приду в школу раньше и буду делать вид, что пришел вовсе не для того, чтобы только увидеть ее на перемене, среди чужих людей, поглощенную обычными учительскими хлопотами и, возможно, совсем не думающую обо мне…
Думали обо мне директор и завуч. Я, видимо, странно вел себя с их точки зрения. Они не знали ничего о том, что волнует меня, чем я живу, и замечали только необъяснимое равнодушие к своим неутомимым маневрам, в котором наверняка видели проявление опасного упрямства.
После выговора я стал истинной притчей во языцех, фамилию мою неустанно склоняли на всех собраниях, педсоветах и совещаниях.
Между прочим, это отличный прием, и его нельзя не оценить. Он позволяет достигать цели с минимальными затратами усилий. Совсем не нужно было выискивать у меня новые грехи, достаточно было почаще повторять и осуждать старые, и все потихоньку убеждались, что учитель я ни к черту: ни с учениками не могу обходиться, ни с родителями, к обязанностям своим отношусь недобросовестно, старших не слушаюсь, ну что еще надо?..
Впрочем, предпринимались и более активные действия. У меня забрали три часа и посадили на строгую ставку. Наверно, с точки зрения Тараса Федоровича это был превосходный удар, а я его принял легко.
Взамен оплачиваемых часов я получил пару общественных нагрузок и тоже особенно не растерялся. Я был рад возможности заполнить свободное время. А аргументация завуча меня даже позабавила. Когда у меня забирали часы, я услышал:
– Вам нужно больше времени, чтобы работать над собой…
А когда подбрасывали нагрузки:
– Вы заняты меньше других.
Так они с Троицким настойчиво загоняли меня в угол, нетерпеливо дожидаясь, когда же наконец сдадут мои нервы.
*
Все покатилось под гору внезапно.
Я говорил, что Тарас Федорович был своего рода гением по составлению расписаний. Теперь я убедился в обратной силе его гениальности, Он умудрился вырвать у меня три часа таким образом, что на каждый потерянный час пришлось по «окну». Особенно противным было «окно» после первого урока во вторник, в день, когда Светлана не имела часов вообще. Но в тот вторник, придя утром, я увидел ее в учительской.
– Почему вы здесь? – спросил я радостно.
– Вера Константиновна просила посидеть в библиотеке…
И она объяснила, почему не могла прийти сегодня Вера Константиновна, наш библиотекарь, и почему она согласилась подменить ее.
Я не слушал подробностей. Это была невиданная удача! Целый час я смогу провести с ней, может быть даже вдвоем, в библиотеке! Ведь это так естественно, что учитель использует свободный час, чтобы поискать что-то в книжках. Даже не верилось в такое везение!
Выскочил я из класса, едва зазвенел звонок. Сунул журнал на полку и, не дожидаясь конца перемены, спустился на первый этаж.
В библиотеке было полно учеников, и все хотели читать про шпионов. Светлана отговаривала их.
– Хочу посмотреть кое-что к уроку, – соврал я весело, и она пропустила меня за перегородку к пыльным стеллажам. Там я взял первый попавшийся в руки томик и стал листать его, поглядывая на часы.
Наконец ребята разбежались по классам, В библиотеке стало пусто и тихо, и я почувствовал, что робею.
Светлана заполняла какую-то карточку.
– Что вы берете?
– Ничего.
– Ничего?
Я не знал, что сказать.
– Там нет того, что я искал.
Хорошо, что она не спросила, что же я искал.
– У вас «окно»?
– Да. Тарас удружил.
– Ну почитайте что-нибудь о шпионах.
– Разве вы не все раздали?
– Нет, есть книжки, которые все уже перечитали по десять раз.
Она протянула мне книжонку в затрепанном переплете,:
– Вот. «Случай в маленьком городке».
– Это не про наш город?
– Не знаю. А разве у нас что-нибудь случается?
– Бывает и у нас…
Я открыл книжку где-то на середине.
«…Весь вечер майор Кузнецов размышлял над загадочной историей, происшедшей в Двуреченске…»
– Хорошая книжка. Но мне не хочется сейчас читать.
– Тогда помогите мне разобраться с карточками.
– С удовольствием.
– Отбирайте все на «М» и «Н».
Я подвинул к себе ящик. Работа была нетрудная. Трудно было сидеть рядом и говорить о чем-то незначительном.
– Ну, как идут дела в новом классе?
Недавно у Светланы забрали девятый, Прасковьин, и дали еще один пятый. Это был своего рода компромисс: Троицкий не хотел перегибать палку, однако Светлана получила кучу новых хлопот и последнее предупреждение.
– И труднее и легче… В младших всегда труднее, но зато их можно учить. И потом меня, кажется, оставили в покое.
– А меня покусывают понемножку.
– Я знаю. Это все из-за меня.
– Ну что вы! После того несчастного педсовета я столько ругался с ними…
– Но началось все тогда. И поэтому…
Она вдруг махнула рукой и не закончила.
– Вовсе не поэтому, – сказал я. – И забудьте эту чепуху. Мои дела не так уж плохи.
Сейчас, когда я сидел рядом с ней и впереди было еще целых тридцать минут, я не врал. Дела шли отлично.
– Николай Сергеевич…
– Да, Светлана Васильевна.
– Я хотела спросить вас…
Кажется, ей тоже было нелегко. Я видел, как тщательно выводила она буквы на карточках. Нет, не тщательно, а слишком старательно, излишне твердо, так что перо драло толстую волокнистую бумагу и разбрызгивало по ней маленькие фиолетовые капельки. А Светлана не видела этих капелек, хотя и смотрела на карточку.
– О чем же вы хотели спросить меня?
– Тогда, у нас, все получилось очень неудобно. Мне неудобно перед вами… и за Андрея тоже…
– А мне за себя.
– За себя? Почему?
– Мне кажется, я как-то помешал вам. Нет, не то… Не вовремя оказался. В общем, если бы я не пришел тогда, было бы лучше…
– Наоборот, хуже! Я бы опять все простила ему…
– Разве он так виноват?
– Он перед собой виноват. Он не понимает. И пусть не понимает! Но у меня же тоже силы могут кончиться!..
– Что же вы хотели спросить у меня?
Я задал этот вопрос, чтобы остановить ее. Не мне было судить Андрея.
– Что спросить? Да, я хотела спросить… Это очень заметно, как у нас с Андреем все не ладится? Я подумала, что, когда вы приехали, у нас этого не было, и вы видели все иначе, а теперь…
– Как я могу судить об этом? Что я знаю о семейной жизни? Раньше я бы наговорил вам кучу глупостей, а сейчас не хочу, разучился быть самоуверенным. Да и не могу я тут быть объективным.
– Почему?
Спрашивая, она подняла голову и посмотрела на меня, но вопрос я еле расслышал. Мы оба слишком хорошо поняли, что я хотел сказать, и оба испугались. Отвечать ей было страшно, но можно было и не отвечать. Можно было молча смотреть в глаза друг другу почти целую минуту и все понимать. Может быть, это была и счастливая минута, но она была и слишком тяжелой. И когда она кончилась, Светлана уронила голову на руки, и мне показалось, что она сейчас расплачется. Я должен был что-то сказать.
– Потому что вы оба мне не посторонние люди, – наконец произнес я и подумал отчетливо, что в следующий раз уже не смогу сказать «оба». А это значило, что нужно уезжать, В первый раз подумал я о своем отъезде как о неизбежном. Потому что нельзя было надеяться на большее, чем этот взгляд. Большее не принесло бы ни счастья, ни радости.
Говорить еще о чем-то стало невозможно. Мы молча заполняли карточки. И когда в коридоре послышались шаги, я почти обрадовался. Но я не знал, что идет Ступак. Я совсем не думал, что он может войти, потому что уроки у него в этот день были во второй смене. Но пришел все-таки он, и я вздрогнул, увидев его в дверях, вздрогнул, как воришка, хотя минуту назад и воображал себя благороднейшим человеком.
Собственно, в том, что мы сидели вместе в библиотеке, не было ничего предосудительного. Но так мог думать каждый, кроме меня, потому что я-то знал, зачем я пришел сюда, и я видел взгляд Светланы. Я почувствовал себя пойманным на месте преступления и понял, что черта, до которой я мог чувствовать себя спокойно и с чистой совестью, уже позади. Потому что мы всегда узнаем об этой грани, когда перейдем ее.