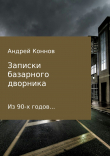Текст книги "Дождь-городок"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Однако погода все-таки действовала. В учительской женщины просили закрывать форточки, в коридоре было меньше шума, а уроки шли при электрическом свете, отчего казалось, что на дворе не утро, а поздний вечер.
В 9-м «а», где у меня был первый урок, некоторые ученики явно дремали. Мне хотелось немножко встряхнуть класс, но как назло в голову не шло ничего интересного или остроумного. Разрядилась обстановка неожиданно и совсем не так, как мне хотелось.
Я повернулся на минуту спиной к классу, чтобы написать что-то на доске, когда раздался удар и вскрик.
Резко обернувшись, я посмотрел туда, куда смотрели все. На третьей парте сидели Еремеев и Комарницкий, хлопчик маленький и щуплый. Еремеев, напротив, выделялся тренированной фигурой и выхоленным нагловатым лицом. Отец его был военным. Сын тоже мог хоть сегодня надеть мундир: спортивного покроя чехословацкий пиджак сидел на нем как влитый.
Сейчас Еремеев нарочито равнодушно смотрел в окно, а Комарницкий закрывал ладонью красную щеку и часто моргал.
Класс ожил и замер. Но теперь тишина не имела ничего общего со спячкой. Все ждали, что я предприму.
Предстояло выдержать маленький экзамен. Я вдохнул поглубже воздух, чтобы осадить волнение.
– Что вы сделали, Еремеев?
Он поднял на меня свои серые, красиво посаженные глаза, подумал, потом привстал из-за парты и пожал плечами. Наверно, мой вопрос показался ему глупым.
Тогда я решил его конкретизировать:
– За что вы ударили Комарницкого?
– А он знает…
– Я тоже хочу знать!
– Ударил, и все…
И, видимо, считая вопрос исчерпанным, Еремеев так же медленно опустился на скамью.
Это меня взорвало, но холодные обтирания по утрам сделали свое дело, и я спросил почти спокойно:
– Кто вам разрешил сесть?
Он опять подумал и снова приподнялся, глядя на меня, как на назойливую муху, которую невозможно отогнать от носа.
– Я спрашиваю, кто вам разрешил распускать руки на уроке?
Еремеев молчал.
Конечно, можно было отчитать его и этим ограничиться, но, во-первых, я был задет его ленивым пренебрежительным молчанием, а во-вторых, и это, пожалуй, главное, я почувствовал, что произошло нечто не случайное и от меня ждут не формальных нотаций. По очень собранному вниманию класса я догадывался, что это не просто обычный мальчишеский инцидент – щелчок, хлопок, а через час все забыто.
– Вам нечего сказать, Еремеев?
– А о чем говорить-то?
– Тогда выйдите из класса. Поговорим после урока.
И тут-то, несмотря на весь свой гнев и волнение, я совершенно ясно увидел, что он удивлен. Еремеев даже наморщил лоб, как бы соображая, не ослышался ли он.
Движение прошло и по классу, а откровенно изумленный Комарницкий отпустил побитую щеку и уставился на меня карими глазками. Такого эффекта я не ожидал. Правда, выгонять с урока мне приходилось впервые, но не такая уж это диковина!
– Выходите, Еремеев! Комарницкий, освободите проход.
Малыш покосился на своего атлетически сложенного соседа, но из-за парты вышел не без удовольствия.
Еремеев все же еще недоумевал.
– Класс ждет! – сказал я твердо, хотя и с внутренним страхом, что он не послушается.
Но он уже смотрел на меня не как на муху, а скорее как на пчелу, которая не только зудит, но и жалит.
Я заметил это и нанес последний удар:
– Не тяни время!
Тогда он стал выбираться из-за тесной парты. Комарницкий на всякий случай отступил подальше. В классе стояла мертвая тишина. Потом хлопнула дверь. Я глянул на ребят. Они смотрели на меня бесспорно одобрительно.
– На чем мы остановились? – спросил я…
На перемене Еремеева поблизости не оказалось, и я не стал его разыскивать. Однако в конце дня в учительской уже знали, что произошло на уроке. Я понял это, услыхав, как Прасковья бурчит, прислонившись спиной к кафельной печке:
– Выгонять – большого ума не требуется…
Мне стало неудобно, и я не знал, что сделать – обидеться или пропустить эту реплику мимо ушей.
Выручила Виктория.
– Вы в самом деле выгнали Еремеева?
С Викторией наши отношения складывались идеально. Мы просто не замечали друг друга. Я ее, как видно, не особенно интересовал.
– Да, выгнал. Кстати, он вел себя возмутительно!
– Ха-ха-ха! Бедный мальчик. Да он просто проводил воспитательную работу!
– Перестаньте кривляться, – одернула ее Прасковья.
И тут только до меня дошло. Ведь Еремеев председатель учкома! В волнении я забыл об этом. Но это же совсем черт те что!
– Такого «воспитателя» не из класса, а из комсомола нужно гнать! – возмутился я от души.
– Положим, Николай Сергеевич, вы немножко преувеличиваете!
Это сказал директор. Он вошел в учительскую после меня. Вошел как-то тихо, неприметно.
– Еремеев хороший ученик и удалять его из класса не стоило. Этим поступком вы подорвали его авторитет.
– Который он поддерживает мордобоем?
Троицкий (я, кажется, забыл сказать, что директора звали Борис Матвеевич Троицкий) неожиданно для меня улыбнулся и положил мне руку на плечо.
– Я вас понимаю, Николай Сергеевич, очень хорошо понимаю, – сказал он мягко, по-отечески. – Мне ведь тоже было двадцать два года. Правда, давно это было… – Он вздохнул. – Но и я, как и вы, в этом возрасте многого не знал. Зайдите ко мне после уроков, и мы вместе во всем разберемся.
Я почувствовал себя нашкодившим мальчиком…
Засиделись мы после уроков надолго, и, я думаю, оба искренне старались справиться со своими задачами: он – объяснить мне мои заблуждения, я – понять свою ошибку.
– Дорогой мой и уважаемый Николай Сергеевич, – говорил Троицкий совсем не так, как в первый день в этом же самом кабинете, а гораздо сердечнее, душевнее, чего я не ожидал от этого казавшегося мне сухим человека. – Школа – это очень сложный организм, и, чтобы он функционировал так, как нужно, необходимо им правильно управлять. А эта система управления, без которой воспитание в детях нужных нам качеств просто невозможно, состоит из многих рычагов, передач и шестеренок, от директора и до старосты в классе.
От чего же зависит успех действия нашей системы? Конечно же, от ее авторитета в глазах учащихся. Любое звено механизма управления должно быть для них своего рода табу. И Еремеев в данном случае – не просто ученик Еремеев, а председатель ученического комитета, точно так же, как вы и я…
Слушать Троицкого было непривычно. Он говорил безо всяких издержек устной речи, как будто видел перед собой хорошо отредактированный текст и зачитывал его правильным русским языком, в котором украинский акцент звучал почти неуловимо, и я почему-то подумал, что он специально и много лет тренировал себя, чтобы изжить этот акцент, в котором для русского уха всегда есть что-то простонародное.
– …Предвижу ваши возражения: Еремеев действительно виноват, и он должен понести наказание. Я с этим целиком и полностью согласен. Но какое это наказание? Безусловно, такое, при котором не может пострадать его авторитет! Вы же унизили его перед классом.
– Но ведь с него и спрос должен быть больше.
– Правильно. Спрос. А кто должен спрашивать? Дети или мы, его старшие наставники? Думаю, что мы, те, кто выдвигал его в вожаки молодежи, те, кто отвечает за него.
Мне было трудно найти в его логике уязвимые места, да он и не оставлял мне времени на это.
– Помните, Николай Сергеевич, всегда помните основное правило педагогики – индивидуальный подход к каждому ученику. О этом золотом правиле вы сегодня и забыли. Ну, не беда! Ошибки неизбежны у каждого молодого преподавателя. Так что не огорчайтесь. Мы вам всегда придем на помощь…
Вышел я из школы довольно-таки расстроенным. Нельзя сказать, чтобы я твердо усвоил все, что сказал мне директор, но все-таки разговор с ним поколебал мою убежденность в своей правоте. Я никогда не принадлежал к числу самоуверенных людей, а у Троицкого было за плечами лет тридцать стажа. Да и говорил он хоть и академично, но заботливо, искренне, а главное – убежденно излагал прочно сложившиеся, отстоявшиеся взгляды опытного педагога.
*
На улице по-прежнему шел дождь, все такой же мелкий, холодный и бесконечный. Опять было полутемно, теперь уже потому, что вечерело, и только луж на дороге прибавилось да стало тяжелее отрывать подошвы от липкой черной земли.
Дома тоже было неуютно. Уходя, я, как обычно, оставил форточку открытой, и комната наполнилась сырым неприятным воздухом. Следовало бы растопить печку, но хозяйка на два дня уехала в Одессу к дочке, а сам я не был уверен, что справлюсь с таким незнакомым для горожанина делом.
«Ладно, обойдусь», – решил я и натянул на себя свитер.
Потом наскоро перекусил и сел за стол, чтобы занести в тетрадь первое выходящее за привычные рамки событие. Однако у меня ничего не получилось. Сначала я написал так:
«Выгнал из класса Еремеева и, как оказалось, поступил неправильно…»
Тут я поставил точку и собрался было объяснить, почему именно поступил неправильно, но сформулировать это никак не удавалось. Да и написанное не совсем нравилось. Я посидел немного и зачеркнул вторую часть фразы, а вместо зачеркнутого написал:
«Все считают, что я поступил неправильно».
Однако и эта фраза была не той, что нужно. Почему все? Ну, Прасковья – это понятно. Виктория вообще не в счет. Ей лишь бы похохотать. А вот Ступак, Светлана? Светланы в тот день в школе не было. А Андрей Павлович был и даже в учительской сидел во время нашего разговора. Но ничего не сказал. Сидел в стороне, писал что-то в журнале и ничего не сказал.
Я встал из-за стола и начал ходить по комнате. «Нужно поговорить с ними. Они должны всё это понять правильно». Поговорить захотелось сразу, немедленно. Я снял с вешалки пальто.
У Ступаков я бывал охотно, но не часто, потому что боялся показаться назойливым, хотя они всегда и, по-моему, от души приглашали заходить на огонек. Держались они со мной просто, а мать Андрея Павловича никогда не упускала случая угостить меня чем-нибудь вкусным.
– Вы ж тут один, без родных, – говорила она, подкладывая кусок пирога или моченое яблоко…
Визиты эти были единственным послаблением в моей аскетической жизни, и не мудрено, что в тот вечер меня дотянуло к Ступакам.
Я запер за собой дверь и погрузился в сырую темноту, неярко прочерченную пунктиром подвешенных над улицей электрических лампочек. Идти предстояло кварталов пять.
Сейчас, осенью, старая хатка, в которой все еще жили Ступаки, не казалась такой привлекательной, как летом, зато внутри было уютно и тепло, почти жарко, и я с удовольствием протянул над плитой озябшие руки.
Андрей Павлович возился с радиоприемником, Светлана шила. Я обрадовался, что они не готовятся к урокам, но все-таки спросил на всякий случай:
– Не помешаю вам? Если заняты, то гоните меня безо всяких стеснений!
Фразу эту я повторял каждый раз, входя к Ступакам, и она стала для меня своего рода индульгенцией, заранее отпускающей будущие грехи.
Отвечали мне тоже всегда одинаково:
– Обязательно выгоним!
Совершив этот традиционный обряд, я с облегчением стянул с плеч мокрое пальто и признался:
– Всегда боюсь, что пришел не вовремя.
– Можно подумать, что вы часто к нам ходите, – сказала Светлана. – Между прочим, что вы делаете в своей келье с утра до ночи? Хоть бы у хозяйки дочка была! А то просто загадка!
– Тайна вашего одиночества постоянно волнует мою жену, – улыбнулся Ступак, вставляя винт в трансформатор.
– Ну какая тут тайна! Готовлюсь к урокам, читаю…
– А почему вы не ухаживаете за девушками? От гордости? Нет достойной в глуши, да? – атаковала меня Светлана.
– Что вы! Да я не знаю ни одной…
– Хочешь, Света, я тебя выдам? – Андрей Павлович положил отвертку и подмигнул мне, как заговорщик.
– Ни в коем случае! Сумасшедший!
– Все равно выдам.
Светлана бросилась к мужу и попыталась ладонью закрыть ему рот, но он обхватил ее большой рукой и объявил торжественно:
– Она мечтает вас женить!
– На ком же, если не секрет?
– Бессовестный! – вырывалась Светлана. – Я тебе этого никогда не прощу.
– Что поделаешь! Не могу ж я не предостеречь человека. На Виктории Дмитриевне.
И Андрей Павлович выпустил Светлану. Она стояла, покрасневшая от смущения и потасовки, и поправляла волосы. Я встретился с ней глазами, и на сердце у меня стало как-то неожиданно тепло и почему-то чуть неловко.
– Правда? – спросил я, отводя взгляд и совсем не думая о Виктории.
– Не верьте ему. Он все выдумал!
– Почему выдумал? Ты же говорила: вот Николай Сергеевич и Вика оба городские, такие симпатичные, а друг друга совсем не замечают.
– Не думал я, что вы считаете эту девицу симпатичной.
– И напрасно! Если хотите знать, ее ученики любят, а для меня это самый верный показатель. Вон старейшую нашу дети Парашей зовут, а у Виктории никаких кличек нет, хоть она и рыжая и фамилия у нее поросячья!
– Света! Не переходи на личности! – попросил Ступак. – Твоя «любовь» к Прасковье Лукьяновне и так не секрет.
– Да я-то не про нее вовсе! И не верю я, что Вика испорченная. Сплетни все это наших завистливых баб. Не поддается девчонка деревенской рутине, следит за собой, так нате вам – уже о ней по углам шушукаются. А она не обращает внимания, и правильно делает. А вы-то, Николай Сергеевич, за бабами потянулись! Вот уж не ожидала!
Я поднял обе руки.
– Хоть вы меня и не убедили, сдаюсь!
Когда Светлана горячилась, она окала особенно заметно и чаще обычного прибавляла к словам «то». Я заметил, что мне нравится эта напористая речь, энергичная, без южной крикливости. И вообще, мне многое нравилось в этой маленькой женщине.
Андрей Павлович был настроен более сдержанно.
– Вот вам, Николай Сергеевич, образчик бессмысленной траты энергии. Поверьте, что Виктория Дмитриевна меньше всего нуждается в защите. Ее и так охраняет целый танковый батальон.
– Ты имеешь в виду того майора? Героя?
– И майора тоже…
– Ну, Светлана Васильевна, куда уж мне с героями соперничать!
– А с кем же вам соперничать? Со стариками? Эх вы! Еще мужчина называетесь! Вам только книжки читать!
Ступак не выдержал, рассмеялся:
– Отчитала гостя! И все-таки, Николай Сергеевич, не поддавайтесь. Это же чистая пропаганда. Каждый женатый мечтает женить хоть одного холостяка. Так уж человек устроен. Сам попался – тащи ближнего. Дуракам всегда приятно, что их много.
– Ну, знаешь! – Светлана развернула фронт атаки. – Может быть, ты тоже попался?
Но Андрей Павлович не принял боя.
– Я нет. Мы же с тобой исключение – единственная счастливая пара на земле…
Он сказал это где-то на грани серьезного и иронии, как человек, который хорошо знает, что любая шутка несет в себе долю истины и каждая истина относительна.
– А по такому случаю, и наливочки по рюмке выпить не помешало бы. Что соловья баснями кормить?..
Я, как всегда, засмущался:
– Если вы из-за меня, то напрасно…
– Почему напрасно? Вы же сегодня отличились. Представь себе, Света, он выгнал из класса Еремеева.
– Этого хама, похожего на Долохова?
– Какого Долохова? – не понял я.
– Толстовского. С наглыми прекрасными глазами.
– Света, – Ступак даже вздохнул. – Нельзя так говорить о председателе учкома. Николай Сергеевич уже получил на этот счет исчерпывающие разъяснения.
– Вот как? От кого же?
– Андрей Павлович имеет в виду мою беседу с директором.
– Я имею в виду беседу директора с вами. Так точнее.
– Да, так точнее. Но ничего страшного не было.
– Еще бы! – воскликнула Светлана, расставляя рюмки на столе. – Хотите, я скажу вам, что он говорил? – И, подражая голосу Троицкого, она произнесла: – «Вы человек еще молодой, и многого не понимаете. Прислушайтесь к опыту старших…» – Она перешла на свой обычный тон и закончила резко: – А опыт старших учит, что хама нельзя наказать, если хам облечен доверием. Вот что он вам говорил!
Впервые она сказала о директоре так ясно и категорично. До этого Ступаки обходили школьные темы. Почему? Опасались малознакомого человека или считали неудобным навязывать мне свое мнение? Об этом я подумал сейчас. И мне очень захотелось услышать Андрея Павловича. Да, собственно, за этим я и шел сюда. Я даже схитрил немного:
– Он говорил не совсем так.
– И убедил вас?
– Нет, но во многом он, по-моему, прав. – И так как Андрей Павлович молча разливал по рюмкам наливку, я спросил у него прямо: – А вы что думаете?
Он посмотрел на меня через рюмку:
– Я думаю, что наливка в этом году лучше, чем в прошлом. И это меня радует. А что касается директора, то он не самый плохой человек на свете. Бывают и хуже. К тому же Еремеев-лапа – наш шеф. А школу-то каждый год ремонтировать нужно! Вот так, милый Николай Сергеевич. А жена моя, как хохлы говорят, «дуже прынцыпиальна». За что я ее и люблю, между прочим.
И он улыбнулся Светлане.
Но она не ответила на улыбку. Вообще она была сейчас другая, непохожая на ту, что недавно «сватала» меня за Викторию. Оживление прошло, и она уже не казалась девочкой: морщинки ясно проступали у озабоченных глаз. Я почувствовал, что разговор взволновал ее, и за волнением этим крылось что-то свое. Однако продолжать разговор она тоже не захотела.
– «Не все спокойно в датском королевстве»… Ну да поживете – сами увидите! Давайте лучше пьянствовать!
Наливка действительно была хороша. За второй рюмкой Ступак взял инициативу.
– Мы делаем большую ошибку, когда пытаемся подойти к вопросам руководства с позиций этики и морали. Рано или поздно управление станет наукой и перейдет в руки математиков и физиков. – Он заметил мою усмешку и добавил: – Может быть, еще при нашей жизни, Николай Сергеевич.
Андрей Павлович убежденно верил в точные науки, часто и охотно говорил об их будущем, и я любил его слушать. Но идея математизации управления показалась мне той крайностью, которой не избежал еще ни один фанатик. Я так и сказал:
– В руководящих роботов не верю.
Ступак перешел с шутливого тона на серьезный:
– Зачем роботы? Главное – разобраться в самой сути. Что такое правильное решение? Это отбор из множества вариантов одного, наиболее целесообразного. Когда отбор настолько сложен, что его трудно проанализировать на каждом этапе, мы называем его творчеством. Говорим о вдохновении. «Я помню чудное мгновенье…» Что это такое? Наверно, лучшее сочетание слов, выражающих ощущения Пушкина, когда он увидел Керн. Пушкин выбрал его из тысячи других вариантов, а вы, скажем, не смогли этого сделать. О чем же это говорит? Только о том, что мозг его был наиболее приспособлен к отбору словесных образов. Но делал-то это мозг, штука материальная, состоящая из клеток, сложнейшая и удивительная, но все-таки машина!
Теперь запротестовала Светлана:
– Андрей, то, что ты говоришь, – кощунство! Пушкина не трогай!
– Ты цитируешь свой учебник. Это там полицейский говорит Маяковскому: не трогайте Пушкина и другое начальство!
Я поддержал Светлану.
– Не знаю, как насчет начальства, может быть, через тысячу лет Троицкого и заменит машина, но Пушкина мы вам не отдадим!
– Хорошо, – согласился он. – Я не кровожадный. Но Троицкому тысячу лет жизни вы зря дали. Вы когда-нибудь слышали слово «кибернетика»?
– Да, конечно. Нам говорили в лекциях по философии.
– Что говорили?
– Что это… это… в общем, буржуазная мистика. Да, да… Вспомнил: «Попытки заменить человеческий мозг машиной, неверие в человека в современном капиталистическом обществе, появление шарлатанской науки кибернетики свидетельствуют о прогрессивном вырождении буржуазного Запада, попавшего после второй мировой войны в полную зависимость от империалистических кругов Соединенных Штатов Америки…» Кажется, так.
– Вы были отличником? – спросил Ступак.
– Да. А что?
– Ничего. Просто так. Мне пришлось в свое время видеть американскую зенитку, которой управляло кибернетическое устройство. Поверьте, когда она палила, как сумасшедшая, мне и в голову не приходило, что это мистика.
– Ну, знаете, одно дело пушка, а другое – директор школы!
– Николай Сергеевич, дорогой, тысячи лет потрачено на то, чтобы внушить людям мысль о незаменимости тех, кто ими управляет. Но когда-нибудь все поймут, что это в сущности обычная черновая работа, и передадут ее машинам, как мы передали автомобилям функции лошадей.
– По-моему, вы типичный технократ, реакционный утопист и идеалист.
– Других ругательных слов вы не знаете?
– Нет. Хватит с вас и этого!
Я засиделся у Ступаков в тот вечер. Мы долго еще спорили о мозге, начальстве и кибернетике, потом как-то незаметно перешли на студенческие воспоминания, причем мне удалось рассказать что-то традиционно смешное об экзаменах, преподавателях и знаменитом спортсмене, которого переводили с курса на курс, хотя он ничего не знал. Андрей Павлович слушал меня с обычной своей полуулыбкой, а Светлана вновь оживилась и смеялась от души.
Только когда я уже одевался, она опять погрустнела и сказала тепло и просто:
– Заходите чаще. С вами на душе легче. – И, как бы испугавшись грустной нотки, добавила шутливо: – Раз уж вы за девушками не ухаживаете, хоть нас, старых, побалуйте.
Домой я шел медленно, часто попадая ботинками в лужи. Прошедший день был не похож на остальные, и хотелось его как-то продумать, понять, что принес он мне – хорошее или плохое. Задумавшись, я не заметил нужный поворот и, пропустив его, зашагал в сторону от своего дома. Может быть, я и отмахал бы так пару-другую лишних кварталов, если бы этот выскочивший из ровного ряда день не приберег мне напоследок еще один, на первый взгляд малозначительный, случай.
Поскользнувшись, я толкнул кого-то, кто оказался на моем пути.
– Извините, пожалуйста!
У низкой калитки стоял мужчина, а по другую сторону – женщина, и им не нужны были мои извинения.
В зубах мужчины вспыхнула папироса, и я увидел лицо из тех, что называют волевыми, козырек офицерской фуражки и мокрый воротник шинели. Но ответить офицер не успел, а может быть, и не собирался. Вместо его ответа я услышал знакомый смех.
– Почему вы целый день свирепствуете? Выгоняете учеников, толкаетесь? Почему, а?
Конечно, это была Виктория. Поздняя встреча ее ничуть не смутила. Зато я растерялся.
– Извините, – повторил я невнятно и почти побежал вперед.
Виктория продолжала смеяться.
Добравшись до дома, я быстро разделся и натянул на себя тонкое холодное одеяло. Под ним было одиноко и неуютно. Вспомнились лицо Светланы, когда она, покраснев, поправляла волосы, и ее слова «с вами на душе легче». Потом Виктория под мокрым плащом с капюшоном… «Почему вы целый день свирепствуете?.. Почему, а?» Я поймал себя на том, что вспоминаю все хорошее, что говорила о ней Светлана. И еще – что завидую тому незнакомому офицеру.
Может быть, сейчас он целует ее. А она закрыла глаза, и губы у нее мягкие и горячие. От таких мыслей засыпаешь не скоро. Я ворочался с боку на бок, сон не шел…
Вообще, в отношениях с девушками я имел опыта не больше, чем в отношениях с начальниками. Школу я кончал еще в эпоху раздельного обучения и, хотя многие из моих одноклассников дружили, как у нас говорилось, с девчонками, больше тяготел к мужской компании и на «бабников» поглядывал свысока.
Мало что дали мне и студенческие годы. Поощрялась у нас лишь одна форма любви, возникающая из дружбы на втором курсе и завершающаяся законным браком на пятом. Разумеется, любовь, не доведенная до загса, могла выражаться только в невинных поцелуях, да еще можно было сидеть рядом на лекциях. Все остальное строго осуждалось. Девицы-общественницы с энтузиазмом воспитывали подруг, дерзнувших слегка подкрасить губы или (о ужас!) расстаться с символом добродетели – школьными косичками с бантиками. Их вызывали, прорабатывали в стенгазетах и, вообще, «выводили на чистую воду». Доставалось и ребятам, посягнувшим на общепринятую ширину брюк.
Я брюки носил, как все, и, «как все», подружился на втором курсе с девушкой, очень хорошей, которая никогда не красила губы и носила длинные, густые косы. Мы вместе ходили на вечера и сидели в аудитории, она писала конспекты, а я блаженствовал от любви и безделья. На третьем курсе я поцеловал ее вечером в парке, и она тоже неумело ткнулась губами мне в щеку. От радости я забрался в клумбу и нарвал ей запретных цветов. С этого момента все шло как по маслу, и группа единодушно признала нас образцово-показательной парой.
Так продолжалось с полгода, пока однажды в кино я не положил ей руку на колено. Не помню уже, что нам показывали, но хорошо помню, с каким омерзением она отпрянула. Наверно, именно таким ей представлялись опаснейшие развратники. После сеанса она сказала мне, задыхаясь от гнева: «Если ты еще раз позволишь себе это, у нас все кончено». Я даже не пытался оправдываться.
На летние каникулы мы разъехались, а осенью стали встречаться как-то реже. Это встревожило общественность. Комсорг по-дружески пытался расспросить меня обо всем, но я отклонил его участие. Да и рассказывать-то было нечего. Все закончилось само собой.
Случилась у меня и еще одна любовь, на этот раз с переживаниями. Я влюбился в замужнюю преподавательницу, и влюбился настолько, что даже написал ей письмо, в котором была такая дурацкая фраза: «Уверен, что никто и никогда не будет любить вас так, как я».
На мое счастье, она оказалась женщиной умной. Очень тактично разъяснила, что я глуп как пробка, и вернула мне мое смешное письмо, которое я тут же сжег. Было очень неприятно…
Вот с таким скудным опытом я и приехал в свой Дождь-городок. Так что мне было от чего ворочаться под тонким одеялом.
*
Я всегда скептически читаю описания знаменитых тропических ливней. В моем городке воды наверняка было больше. Правда, она не обрушивалась потоками, каскадами и водопадами, зато брала системой, говоря научным языком – непрерывностью усилий на единицу площади. В конце концов земля перестала впитывать эту бесполезную влагу, и Дождь-городок превратился в степную Венецию.
К несчастью, передвигались мы по ней не в гондолах, а замысловатыми заячьими прыжками с островка на островок. В этих соревнованиях по обязательной программе побеждали владельцы резиновых сапог, я же – увы! – не входил в их число. Мои деликатные городские калоши играли в неравной борьбе со стихией чисто символическую роль. Я ходил в мокрых носках, заляпанный до колен жирным черноземом, и поминутно чихал или сморкался. Занятия утренней гимнастикой пришлось перенести под крышу. Все это не повышало моего настроения, но упасть ниже нуля оно не успело, а скоро я и совсем перестал обращать внимание на погоду.
Началось это с того, что я получил приглашение на именины. И от кого! От Виктории! Для меня это было полнейшей неожиданностью.
– Послушайте, – сказала она, поймав меня в коридоре за борт пиджака. – Что вы делаете сегодня вечером?
Ответить на такой вопрос было слишком легко, и я пожал плечами.
– Приходите поздравить меня с днем рождения! Ладно? Только не позже семи.
По дороге домой я обдумывал это приглашение и потому забрызгал штаны больше обычного. Но в целом я был доволен. Не то чтобы мое мнение о Виктории изменилось коренным образом, но оно как-то смягчилось, а главное – подвижническая жизнь с каждым днем ощущалась мной как нечто не самое лучшее в двадцать с небольшим лет.
Радость мою, правда, омрачала проблема подарка. Что я мог купить в нашем райторге? Выручила Евдокия Ивановна, которой я откровенно рассказал о своем безвыходном положении. Впрочем, откровенность эта была не вполне бесхитростной. Моя хозяйка имела слабость – комнатные цветы. Она ухаживала за ними как за малыми детьми, и они цвели в любое время года. Просить ее сорвать хоть один цветок я бы ни за что не решился, но Евдокия Ивановна и так все поняла.
– Возьмите, Николай Сергеевич. Городские девушки это любят…
Я от души поцеловал ее в висок и осторожно завернул букетик в газету. Теперь можно было вытащить из чемодана новый галстук и смочить водой вихор на макушке. Без четверти семь я выглядел не хуже, чем киноартист, играющий провинциального молодого учителя…
Виктория тоже снимала комнату, но с отдельным ходом со двора и маленькой прихожей, в которой степной запах засушенных трав смешивался с ароматом дорогих духов.
– О! Почти без опоздания! Это делает вам честь! Прошу, – сказала Виктория и толкнула дверь в комнату.
Кажется, Уэллс придумал калитку, через которую можно было проникнуть в другой мир. Я был вторым, кто воспользовался этим способом, потому что комната Виктории не имела ничего общего ни с моим скромным жильем, ни с хаткой Ступаков, ни вообще с жилищами дождь-городских обитателей. Это был микроскопический островок иной жизни в океане саманно-камышовой цивилизации. И совершали это чудо, конечно, вещи, которыми была обставлена комната, настоящие «городские» и не по учительскому карману вещи, вытеснившие и укрывшие и глиняные беленые стены, и маленькие экономные окошки, и крашеный дощатый пол.
Я вошел в маленький мир, искусственно созданный вопреки залитому осенней грязью провинциальному городку, и хозяйка его, в лиловом очень простом платье, с тоненькой ниткой жемчуга, была женщиной из мира, страшно далекого от мира тех женщин, что я видел ежедневно, – в вязаных платках и плюшевых кофтах, которые надевали в Дождь-городке по праздникам, чтобы идти на базар.
Все в ее комнате – от мягкого, неяркого света до фарфорового китайца на туалетном столике, бесконечно покачивающего своей круглой загадочной головой, – было удивительно удобно, уютно и ненавязчиво. И мне вдруг захотелось сесть в глубокое кресло, вытянуть ноги и закрыть глаза. Я почувствовал, что устал.
Предаться слабости было, впрочем, нельзя. Неожиданности еще не кончились. Не меньше вещей удивили меня гости, если только можно назвать гостями одного человека. Правда, в первый момент я воспринял его как часть целого, то есть подумал, что он просто первый. Это был тот самый офицер, которого я неосторожно толкнул на улице несколько дней назад. На его кителе поблескивала звездочка. Я вспомнил разговор у Ступаков. Майор возился с электропроигрывателем.
– Кажется, я слишком рано, – сказал я извиняющимся тоном и положил на стол свой букетик.
– Наоборот, вы последний, – засмеялась Виктория. – Не люблю шумных сборищ. Двое-трое друзей, по-моему, вполне достаточно. Ведь праздновать особенно нечего, когда убегают годы…
Ни с одним из этих слов согласиться было невозможно. Меньше всего я мог в тот вечер считаться ее другом, и еще меньше она походила на женщину, годы которой убегают.
А Виктория уже доставала из газеты мои цветы.
– Вот это настоящая прелесть! Цветы в такой дождь! Николай Сергеевич, вы очень выросли в моих глазах. Люди познаются в подарках женщинам. А я-то ждала от вас флакона с одеколоном из раймага. Простите великодушно… И познакомьтесь, пожалуйста, с Алексеем Борисовичем.
Майор протянул мне руку. Смотреть на него было приятно: так ладно сидел на нем китель, так гладко он был выбрит и так неправдоподобно чисто поблескивали его сапоги. Я видел танковые эмблемки на погонах, но никак не мог представить этого человека в комбинезоне и с замасленными руками.