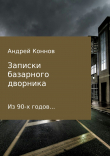Текст книги "Дождь-городок"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Напрасно так полагаете. Чтоб молодежь учить, нужно иметь богато жизненного опыту, товарищ педагог. Разбираться нужно уметь, что за ученик, как он воспитан.
Мать перебила его:
– Да вы хоть соседей спросите, каждый скажет, что за сын у нас! А его какой-то солдат по лицу кулаком! Нет уж, мы этого так не оставим! Мы к его командиру пойдем.
Продолжать дискуссию было бесполезно.
– Я не собираюсь оправдывать солдата, но и вы Аркадия зря так защищаете.
– А уж это нам лучше знать, молодой человек. И не с тем разговором вы до нас пришли. Солдат бил, да чтоб еще и родной батько всыпал!
– Никто не предлагает вам бить Аркадия. Думаю, что ему это не угрожает.
– Можете быть уверены.
– Не сомневаюсь.
Я встал.
Но им было мало победы, им нужна была капитуляция.
– Значит, вы, товарищ учитель, насчет солдата поняли?
– Да, солдата понять можно.
Я не мог не сказать этого, потому что это было самое малое из того, что я хотел сказать. Бандура-старший скривился:
– Это вас в институте так учили или вы собственным понятием уразумели?
– Собственным понятием…
– Ну, а у нас, товарищ дорогой, другие понятия. Так что мы лучше об этом деле с директором побалакаем.
– Могу вас заверить, он скажет вам то же самое, что и я.
– А может, что и другое.
На прощание Бандура-сынок вполне почтительно подал мне шапку. Ведь он все-таки оставался в моем классе.
Обратно я шагал, не попадая на шпалы и не замечая под ногами щебенки. Сто раз я слышал о воюющих с «несправедливыми» учителями родителях, и они всегда представлялись мне юмористическими, опереточными персонажами. Вот тебе и оперетта!
На станции попыхивали белым паром локомотивы. У перрона стоял пассажирский поезд, и люди, накинув на плечи пальто и платки, бегали в открытые двери ресторанного буфета.
Вокзальный динамик ревел голосом, вовсе не похожим на голос Шульженко:
О любви не говори,
О ней все сказано…
Потом голос переходил в хрип, а из хрипа уже появлялась последняя строчка:
…а молчать не в силах – пой!
Наверно, мне следовало спеть… Но пришлось не петь, а докладывать директору. Тарас почувствовал, что история не закончилась, и сбыл меня с рук.
– Расскажите обо всем Борису Матвеевичу.
Вот я и рассказывал.
Это был первый наш разговор после педсовета, но я не вспоминал о педсовете. «Каким бы ни был Троицкий, – думал я, – он прежде всего учитель, проработавший в школе не один десяток лет, а значит, человек, который должен понять и поддержать меня хотя бы из корпоративной солидарности. Ведь речь шла о чести школы».
Директор выслушал меня внимательно, время от времени пожевывая тонкими губами и постукивая пальцами по ручкам своего завитушчатого кресла времен коронных гетманов. Когда я кончил, он сочувственно развел руками. Слегка, не театрально, а сдержанно, так, как и нужно было.
– Педагогический труд, Николай Сергеевич, это не широкая столбовая дорога. Шипов нам достается больше, чем роз. С людьми имеем дело, а люди – самый сложный из механизмов. Поэтому главное в нашей работе – больше самокритики, меньше самоуверенности.
– Вы считаете, что это правило относится и к данному случаю?
– Относится самым прямым образом. Немножко дров вы накололи, Николай Сергеевич… Немножко…
– Я наколол?
– Вы, конечно, вы. Я-то вас понимаю и верю всему, что вы рассказали. Но ведь может быть и другая точка зрения. Вы сами говорите, губа-то вспухла. Солдат ваш несомненно погорячился.
– Правильно сделал!
– Почему правильно? Кажется, в случае с Еремеевым вы не одобряли кулачной расправы? Драться вообще скверно, к тому же, как все произошло, вы не знаете, даже с самим солдатом не говорили.
– Зато я знаю Бандуру.
– Что же вы о нем знаете плохого? Учится он вполне прилично, играет в самодеятельности на аккордеоне, столкновений у вас с ним не было…
– Я ему в глаза смотрел.
Троицкий улыбнулся снисходительно:
– Эх, молодость, молодость… «В глаза смотрел»! – Он вышел из-за стола и положил мне руку на плечо: – А Светлане Васильевне вы тоже в глаза смотрели? – И тут же глянул на часы: – У вас, кажется, сейчас урок? Вот и пойдемте вместе. У меня как раз свободный час.
Раньше он всегда предупреждал заранее, когда собирался на урок, но, в конце концов, это право директора. Да и чего было бояться? Материал я знал, а дисциплина при начальстве только лучше бывает. По пути в учительскую я думал не об этой неожиданной проверке. Я вспомнил слова Троицкого о Светлане. Что он, собственно, хотел сказать? Просто к слову пришлось или со смыслом? Да нет, какой там может быть смысл! И вспомнил: «Светка тебе нравится». Неужели в моем отношении к Светлане есть что-то заметное, необычное? Ну, Вика – женщина, Вика – другое дело. А Троицкий? Неужели намекал? Нет, это уж слишком! Не может быть…
Я потянул из шкафчика журнал, но ошибся.
– Это мой, Николай Сергеевич…
Говорила Светлана.
– Простите.
Я отдал ей журнал. Звонок уже отзвенел, и мы были последними в учительской.
– Почему вы не зайдете? Я так ждала вас после педсовета… И Андрей тоже…
– Спасибо. Приду обязательно, сегодня приду…
Коридор тоже был пуст. Только Троицкий стоял у дверей моего класса.
Урок, по-моему, прошел неплохо, во всяком случае не хуже, чем те, на которых бывали раньше директор и Тарас. Но Троицкий сидел, как сфинкс, и по выражению лица невозможно было судить о его впечатлении. Впрочем, меня не так уже занимало, что он думает об уроке. «Намекал или не намекал? – вот что крутилось у меня в голове. – Нет, конечно, нет. Просто старческая болтовня. Иначе это было бы слишком грязно».
– Что ж, Николай Сергеевич, может быть, сразу поговорим, так сказать, по горячим следам?
Я вспомнил его первое посещение. Я дрожал тогда, как осиновый лист, а Троицкий спокойно распрощался со мной после урока и промариновал до следующего дня. Зато на другой день похвалил, сказал: «С большим удовольствием посетил ваш урок. Вижу, что смена нам, старикам, идет достойная». С тех пор прошла целая четверть. Кое-что я успел и приобрести за это время. Что же он скажет мне теперь?
– Я не впервые присутствую на ваших уроках, Николай Сергеевич, и, думаю, пришло время говорить с вами без скидок, со всей требовательностью, не как с новичком, а как с полноправным членом нашего педагогического коллектива.
Вступление было многозначительным.
– Вы помните, конечно, я не раз подчеркивал: из вас может выйти настоящий высококвалифицированный преподаватель. Этого мнения я придерживаюсь и сейчас. Может выйти. Но пока… Впрочем, лучше конкретно поговорить по уроку. Я здесь сделал ряд заметок.
Он развернул тетрадку, в которой делал записи.
– Первое замечание: на урок вы опоздали…
Всех замечаний оказалось тринадцать. Все-таки не зря люди побаиваются этого числа. Не повышая голоса, разобрал Троицкий каждый мой шаг и каждое слово на уроке с той минуты, как я переступил порог класса, и до звонка, и почти каждый шаг оказался неверным. Опрос был проведен слишком бегло, объяснение затянулось, главное утонуло во второстепенном, я не заметил, что Комарницкий решал задачу по физике, а Новицкая заглядывала в учебник, и так далее и так далее, вплоть до того, что я слишком часто прислонялся к подоконнику («У вас, кстати, вообще пристрастие к этому подоконнику!»), что весьма непедагогично.
Напоследок директор сказал:
– И еще мне не понравилось, Николай Сергеевич, что вы мало волновались. Да-да, мало, а учительская работа немыслима без волнения. Правда, от него сердце изнашивается, – Троицкий приложил руку к пиджаку, – но уж это издержки нашей профессии. Без них не обойтись. И вам придется еще много-много поволноваться. Так что не обижайтесь на меня, старика. У меня у самого двое таких, как вы. Сын в Москве, в аспирантуре учится, дочка в Одессе. Разбрелись по белому свету. Мы с женой вдвоем остались. А ваша матушка тоже одна?
– Одна.
– Это плохо. Между нами говоря, много у нас еще бюрократизма в распределении молодых специалистов. Если уж посылают, так за тысячу верст. Трудно ей без вас, наверно, трудно…
*
Когда дома я перебрал в голове все, о чем мы говорили, то зашел в полный тупик. Сделать вывод, что после педсовета Троицкий объявил мне войну, несправедливо разобрал мой урок, намекнул на что-то нечистое в моем отношении к Светлане и даже косвенно предложил мне уехать, казалось слишком неправдоподобным. Получалось вроде газетного фельетону о преследовании за критику. И я честно старался понять Троицкого, удерживая себя от обид и предвзятости. Что, собственно, он говорил мне? Что зазнаваться рано? Это была стопроцентная правда. Даже то, что сидеть на подоконнике непедагогично, я не мог опровергнуть. А мама сама писала в каждом письме, что ей трудно без меня… Но когда мне начинало казаться, что я несправедлив к старику, я вспоминал Светлану, и все сомнения возникали снова.
За ужином хозяйка сказала, подкладывая в мою тарелку жареную картошку:
– Кушать вам нужно побольше, Николай Сергеевич.
Я так и не сумел убедить ее называть меня просто по имени.
– Почему больше?
– Похудели вы что-то…
Я подумал, что она хочет пошутить насчет моих ночных отлучек, но Евдокия Ивановна была настроена серьезно.
– Трудная у вас работа. Всё заботы да заботы…
Она говорила «важка праця» и «турботы», и мне было приятно слушать мягкие украинские слова, и я был рад, что понимаю их.
– Эти ж диты ну просто скаженны…
– И дети и родители, – вспомнил я Бандуру.
– А то нет! Чи среди старых дурней нема?
– Евдокия Ивановна, вы Бандуру знаете?
– Это что проводниками керует?
– Да, бригадир.
– А як же не знать!
– Вот я вчера у него был и поругался там.
Я коротко рассказал о своем визите.
– И за того ворюгу вы горюете, Микола Сергиевич?
– Почему ворюгу?
– Та его ж уси люди знають, шо вин жулик и спекулянт. Где дешевле купить, где дороже продасть. Плюньте вы на него.
Мне стало легче.
– Жалко, Евдокия Ивановна, что не вы у нас директор.
– Директором мне нельзя. Там треба человек ученый.
Меня разобрало искушение.
– А Троицкий здешний, Евдокия Ивановна?
– Я ще его дида помню.
– И дед был ученый?
– Дид у него поп был. По старому времени – большой человек.
– Значит, наш директор из священников?
– Попович…
– А про него что люди говорят?
– Политычна людына, кажуть.
Я рассмеялся.
– Как же это по-русски будет?
– А на российском говорят: палец в рот не клади.
– Спасибо, Евдокия Ивановна, – сказал я, отодвигая пустую тарелку…
Путь к Ступакам был из моих постоянных, освоенных маршрутов. На половине пути я встретил автобус. Он появился в дальнем конце улицы, и я сразу узнал его по трем разноцветным огонькам – красному, зеленому и фиолетовому. Это был рейсовый автобус, длинный, с зеркальными окнами, за которыми дремали в мягких креслах незнакомые, не подозревающие о моем существовании люди. Я проводил взглядом этого «летучего голландца», пришельца из иного мира, и на мгновение позавидовал его пассажирам.
Светлану я застал одну.
– Андрей кружок ведет. Наверно, вот-вот будет. Давно уже ушел.
– А сын?
– Вовка с бабушкой у тетки.
Она развела руками, будто извиняясь за то, что мне будет скучно с ней. Но я думал иначе, хотя и не знал, как повести себя. Мы никогда еще не оставались наедине. Я сел, как всегда сидел у них, поставив стул спинкой вперед и обхватив спинку руками, и произнес нарочито бодрым тоном:
– Ну как, изживаете ошибки?
Прозвучало неуместно. Вместо ответа Светлана спросила:
– Знаете, Николай Сергеевич, чем я сейчас занималась? Ни за что не догадаетесь!
Я пожал плечами:
– Откуда ж я могу догадаться!
– Губы красила.
На столе действительно стояло зеркало и трубочка с помадой.
– Разве это такое событие?
– Еще бы! Для меня… Я ведь никогда не красила. В университете считалось неприличным. Ну, а учительнице и бог не велел.
– Почему не велел? Некоторые красят.
Я подумал о Вике, всегда подкрашивающей губы.
– У нас одна Виктория Дмитриевна. Да она-то вольная птица: завтра выйдет за своего майора и – до свиданья, школа. А уж мне-то в учительшах век вековать.
Последние слова она сказала как будто шутливо, но шутки не получилось.
– Трудная эта жизнь, Николай Сергеевич. Вот и хочется иногда губы подкрасить.
Светлана взяла трубочку и, искоса поглядывая в зеркало, провела помадой по губам.
– Идет мне, а?
– Идет.
Я не врал. Усталость сразу сошла с лица Светланы.
Она тряхнула своими короткими соломенными волосами.
– Вот чем жены-то занимаются, когда мужа дома нет, – красоту наводят!
И Светлана потянулась к бумажной салфетке, чтобы стереть помаду.
– Не нужно! – попросил я. – В самом деле – так лучше.
Мне хотелось видеть ее красивой.
Но она вытерла губы.
– А если и лучше, что из этого? Для кого красоваться? Ну да ладно, о чем толковать-то без толку… Лучше скажите, вам Троицкий выступление на педсовете не вспомнил еще?
– Думаете, вспомнит?
– Обязательно… Не нравится мне здесь, Николай Сергеевич.
– А где лучше?
– Не знаю… По-моему, северяне лучше: прямодушнее, искреннее. А здесь юлят, трусят. Это Андрей меня сюда затащил. Говорил, тепло, фруктов много… Гниль тут, а не тепло: дождь да слякоть. Не то что у нас: мороз, лес настоящий, грибы, ягоды! В сто раз лучше. Уеду я отсюда, Николай Сергеевич.
– Да у вас дом почти готов.
– И дом брошу.
Я неумело попытался разубедить ее.
– Вам трудно сейчас, Светлана Васильевна, а когда трудно, всегда хочется бросить все и начать сначала, на новом месте. Но не стоит так духом падать. Ничего Троицкий с вами сделать не сможет. Улягутся постепенно страсти, и мы все вместе выпьем наливки у вас на новоселье.
Я понимал, что слова произношу слабые, но мне очень хотелось хоть немножко подбодрить, поддержать Светлану. Она видела это и спорить не стала.
– Может быть, все и будет, как вы говорите: и страсти улягутся, и строптивость моя поутихнет, и дом будет, и наливка. Но разве для того мы живем, чтобы построить дом и пить в нем наливку? – И, не дожидаясь моего ответа, добавила горько: – Знаете, как тяжело, когда все на тебя!.. Один вы и вступились.
– Да и то неудачно.
– Наоборот. Если бы не вы, я могла б и вправду подумать, что преступница. Нет, за это выступление спасибо вам большое. Жаль будет новоселье без вас справлять.
– Почему без меня?
– Уедете вы весной.
Я подумал о Вике, о тех нескольких парах ребячьих глаз, что оживали на уроке, когда я рассказывал что-нибудь такое, чего нет в учебнике, о хозяйке, о самих Ступаках и покачал головой:
– Не думаю.
Кроме ребят, кроме Вики и всего того хорошего, что не хотелось оставлять, было и другое – настойчивое, хотя и не осознанное до логического завершения внутреннее ощущение, что уезжать еще нельзя, что еще пережито не все из того, что подготовил для меня Дождь-городок, что многое еще предстоит узнать и понять, прежде чем я уеду. И наконец, было обыкновенное упрямство. В последние дни я получил несколько щелчков по носу, и мне не хотелось бежать, уступать нажиму.
– Думаю, что не уеду.
– Неужели еще на год останетесь?
– А почему бы и нет?
– Но зачем? Вы же можете поступить в аспирантуру, заняться научной работой! Там ваши знания, ваш труд будут цениться, будут приносить пользу, а здесь вы попусту растрачиваете себя. Бориса-то вам не одолеть. Выживет он вас. Вы же гордый – долго не протерпите.
– По-вашему, на него и управы нет?
– Пока нету, сами видели. В районе Троицкий первый авторитет. Куда еще пойдете?
– Можно поискать и другие места.
– Не нужно. Ах, Николай Сергеевич, была б я на вашем месте… Свободным, независимым человеком! Да что б я делала в такой дыре? Что вы тут хорошего увидали, кроме вишневой наливки да умных разговоров с моим мужем? Разговоры-то эти надоедят вам скоро, а наливка, наоборот, слишком понравится. Так и жизнь пройдет, не заметите.
Говорила Светлана так, что за каждым ее словом я чувствовал не столько желание разъяснить мои заблуждения, сколько свое, наболевшее и прорывавшееся из-под спуда. И впервые я услышал, вернее, даже не услышал, а уловил в тоне Светланы что-то недоброе по отношению к Андрею. Так сказала она об «умных разговорах».
Но я не хотел, чтобы она говорила то, о чем завтра пожалеет. Я попытался пошутить:
– Вы меня почти убедили. Наливку придется бросить.
– Вас убедишь! Мужчины же такие умные! Все, что я говорила, вы пропустили мимо ушей, но…
Что хотела еще сказать Светлана, я не узнал. Послышался шум в прихожей, и мы оба посмотрели на дверь. Открылась она медленно, будто человек, открывающий ее, входил в чужую, незнакомую комнату. Но это был Ступак.
Он вошел в сдвинутой на затылок шапке – и мне сразу бросилась в глаза его непривычная бледность.
Андрей увидел меня и усмехнулся:
– А я-то боялся, что жена скучает…
– Я не знал, что у вас сегодня кружок.
– Кружок? Да, был кружок, был…
Он снял шапку и пригладил волосы.
Я все еще не понимал. Ни бледности Ступака, ни красных пятен, которыми покрылись щеки Светланы. Я никогда не видел ее такой жалкой и растерянной.
– А это, Коля, хорошо, что ты зашел, голубчик…
Впервые он говорил мне «ты» и называл по имени.
– …Самортизируешь нашу встречу. Знаешь, женщины почему-то удивительно непримиримы к нашим слабостям.
– Раздевайся, Андрей, – перебила Светлана.
– Раздеваться? Ах, да. Совершенно верно, мне надо еще снять пальто…
И тут только я разглядел его глаза и понял, поразившись. Всегда умные, понимающие глаза Ступака были сейчас неподвижными и отсутствующими глазами смертельно пьяного человека. Да, именно смертельно пьяного, а не выпившего. Ступак был абсолютно пьян, пьян так, как бывают пьяны большие и неглупые люди, которых алкоголь не валит с ног и не превращает в идиотов.
Однако еще больше поразило меня то, что в лице Светланы я не заметил удивления. Тут были и гнев, и стыд, и отчаяние, но это было отчаяние человека, схваченного за горло знакомой и неотвратимой бедой.
Я встал в растерянности, не зная, что мне сделать.
Светлана сказала сама:
– Извините, Николай Сергеевич, Андрей Павлович неважно себя чувствует…
– Да, я понимаю, мне пора, – пробормотал я, испытав облегчение от этого разрешения немедленно уйти.
– Почему пора? – возразил Ступак. – Время еще детское, посидим, потолкуем.
– На сегодня хватит, – перебила Светлана твердо.
– Да, мне пора, – повторил я в страхе, что он начнет удерживать меня с пьяной настойчивостью.
Но Андрей не стал этого делать. Он сказал только:
– Значит, на расправу выдаешь? Ну ладно, иди. Я привык уже…
И грузно опустился за стол, бросив на клеенку тяжелые руки.
Следовало сказать «до свидания», но он уже не смотрел на меня, и я молча натянул свое пальтишко.
– Сейчас я открою вам.
Светлана вышла вместе со мной в коридор, и на минуту мы оказались рядом в темной тесноте. Дверь в комнату я притворил, и оттуда не слышалось ни звука, как будто в комнате никого и не было. Слышно было только, как Светлана ощупью ищет замок, да еще ее прерывистое отчаянное дыхание. Наконец что-то щелкнуло, и мы вышли на крыльцо. Во тьме моросил мелкий дождь. Я протянул ей руку:
– Держитесь, ладно?
Светлана не ответила. Она только взяла мою руку, слабо сжала ее и вдруг уткнулась лицом в мое пальто. Я успел подхватить ее вздрагивающие от рыданий плечи.
– Что вы, Светлана Васильевна! Светлана… Ну зачем так?
В ответ она застонала, как очень больно раненный человек.
– Не нужно, не нужно так, – просил я, чувствуя, что мне хочется прижаться губами к ее заплаканным глазам, и совершенно не думая об Андрее.
Но тут она рывком, как бы испугавшись, отшатнулась от меня и бросилась в коридор. Я остался один.
В ту ночь я долго не спал. Лежал и смотрел, как пробегает по стене свет фар редких ночных машин. В комнате было тепло и тихо. Только рыжий хозяйкин кот, которому я иногда позволял ночевать в ногах под одеялом, мурлыкал, довольный уютом, и я старался не ворочаться, чтобы не беспокоить его.
Почему-то мне вспомнился один случай из детства. Когда в сорок втором немцы начали бомбить наш город, мы с матерью уехали к родне в маленький хутор у Волги. Летом через хутор потянулись беженцы. Однажды к нам во двор зашли двое – один пожилой, другой, наверно, молодой, но очень худой, в очках, с измученным длинным лицом, – и попросили продать им что-нибудь из еды.
Моя дальняя тетка от обесцененных денег наотрез отказалась, но попросила беженцев собрать в копны скошенное на лугу сено.
Я сидел на пеньке и смотрел, как они работают. Запомнились неловкие движения худых неумелых рук и особенно ноги того, что был помоложе. Наверно, он совсем недавно добил свои ботинки и шел теперь босиком. Этими босыми, не успевшими загрубеть ногами он наступал на жесткую стерню, напрасно пытаясь быть осторожным, ноги его были изодраны в кровь. И я, глядя на эти белые, в синеватых жилках и красных присохших струйках, ноги человека, уходящего от смерти, впервые почувствовал чужую боль и страдание, которое я не в силах облегчить.
Такую же бессильную жалость испытывал я и в ту ночь. Крепость, которой я представлял себе семью Ступаков, развалилась у меня на глазах. Я видел во тьме глаза Светланы, какими запомнил их на пороге, когда она глянула на меня, перед тем как уткнуться лицом в плечо. Это были глаза человека, которому невмоготу терпеть, которому нужна помощь. Но чем я мог помочь ей?
Невольно я сравнивал ее с Викой. Нет, Светлана по-прежнему была неотделима в моих глазах от Андрея, как и себя я не мог отделить от Вики. Думал я о том, что Вика, такая щедрая на ласки, собственно, совсем не нуждается во мне. Ведь ей ни разу не захотелось прижаться ко мне и заплакать. Среди горьких минут, пережитых Викой, не было таких, когда бы она не могла справиться с собой, И я решил, что не скажу Вике о том, что произошло у Ступаков. Но Светлана тоже никому ничего не скажет. Значит, случилось такое, что останется только между нами. И я не знал, радоваться этому или тревожиться.
А кот в ногах спокойно мурлыкал. Мудрый кот понимал, что жизнь еще только пощелкивает меня по носу, и все это пока скорее неприятно, чем по-настоящему больно.
*
Утром в учительской я увидел Светлану и Андрея, как обычно разговаривающих с учителями, и ночные события показались мне менее драматичными. Я поздоровался и отошел в сторону, подумав только, что будет лучше, если на время перестану бывать у Ступаков.
С этой мыслью я стоял у окна, когда в учительскую вкатил свой животик Тарас Федорович. Секунду он покачал им в дверях, потом ловко подхватил ремнем и помчался ко мне.
– Поздравляю!
– С чем это? – спросил я, тоскливо улавливая в его голосе знакомое раздражение, без которого завуч не обращался ко мне в последние дни.
– Бандура на вас жалобу написал!
– Забавно.
– Не вижу ничего забавного. Очень стыдно.
– Ему?
– Нет, вам должно быть стыдно!
– Почему? Вы же сами возмущались…
– Да, я возмущался, но я педагог и рукоприкладство под защиту не беру. А вы осмелились защищать мордобой от имени школы!
– С Бандурой я говорил только от своего имени…
– Скажите, пожалуйста! От своего имени! А кто вы такой? Частное лицо или представитель коллектива?
– Представитель коллектива…
– Вот и отвечайте теперь перед Борисом Матвеевичем.
– Разве Борис Матвеевич коллектив?
– Неуместная шутка, очень неуместная!
Я вошел в кабинет.
Собственно, это была даже не жалоба, а крик души оскорбленного в лучших чувствах честного человека, гневный вопрос:
«С каких пор в советской школе стали защищать мордобой? Я об этом никаких указаний не читал…»
Тут я улыбнулся. Значит, вся беда в том, что били без указаний!
«…не читал, а потому требую разобраться с молодым учителем, который от имени советской школы берет под защиту хулигана».
– Вот видите, к каким последствиям приводят наши ошибки? – спросил Троицкий, когда я дочитал до конца.
– Вы хотите сказать «мои ошибки»?
– Нет, я хотел сказать «наши». Вы представляете школу, и школа отвечает за вас.
Это я уже слышал от завуча.
– За что же отвечать? Просто вздорное письмо не особенно умного человека.
– Ну что ж, постарайтесь опровергнуть его. Напишите подробную объяснительную записку.
Я посмотрел на директора, и он спокойно выдержал мой взгляд.
– Хорошо, – сказал я. – Если это необходимо…
Сначала я хотел написать коротко и зло. Что-нибудь вроде: «Мало получил этот пакостник», но, когда сел за стол и положил перед собой лист бумаги, немного поостыл. Все-таки сдержанный и почти доброжелательный тон Троицкого здорово сбивал меня с толку. «Ладно. Напишу подробно», – решил я. Начал и увлекся. Мне захотелось аргументированно доказать, что люди, подобные Бандуре, – это ядовитые грибы. Разлагая своих детей, они бросают в землю семена, которые поднимутся густым сорняком и будут душить чистый посев.
Я исписал не один черновик, пока получилось так, как хотелось. Мне даже показалось, что написано здорово, и, довольный собой, я великодушно признал:
«Возможно, я поступил непедагогично, показав, что одобряю поступок солдата».
Однако закончил твердо:
«Но не это главное. Главное – всеми силами бороться с уродливым воспитанием в семье. Считаю, что школа должна обратиться по месту работы Бандуры и разъяснить там недопустимость его поведения».
Я засиделся за своим словотворчеством допоздна и, когда закончил записку, почувствовал, что безумно хочу спать, а нужно было еще составить конспект к завтрашним урокам.
Конспекты я писал аккуратно. Тарас Федорович даже демонстрировал их в учительской как образцово-показательные.
– Вот посмотрите! Не мешает и более опытным товарищам так готовиться!
Но в тот вечер усталость сморила меня, да и тема была хорошо знакомая. Поддавшись слабости, я решил, что ничего страшного не случится, если я и не распишу завтрашний урок в тетрадку по минутам.
Может быть, все и обошлось бы, приди я к самому звонку. Но, как назло, я пришел раньше времени и попал в «облаву», которую завуч устраивал обычно раза два в месяц. Когда я вошел в учительскую, все стояли вокруг стола, а Тарас Федорович просматривал планы уроков. Я попытался не заметить этого мероприятия, но безуспешно.
– А ваш конспектик?
– У меня нет.
Всякая проверка – своего рода психологическая загадка. Цель ее вроде бы не допустить нарушений, однако каждый контролер всегда страдает, если ему не удается обнаружить нарушителя. Завучу повезло. И я сразу увидел по его оживившемуся лицу, что дело не обойдется обычной нотацией.
– Как же так – нет? Почему нет?
Можно было, конечно, поплакаться в жилетку, но меня покоробило откровенное злорадство.
– Не писал.
– А вы знаете, что это ваша обязанность?
– Знаю.
– Почему же вы ее не выполняете?
– Не успел, времени не хватило.
– А вам известно, что я имею право не допустить вас к уроку?
– Известно.
– Я сомневаюсь в том, что вы готовы к уроку! Вы к нему не готовы!
Я пожал плечами: «Господи! Ну за что он меня так невзлюбил?!»
– Почему вы не отвечаете? Готовы вы к уроку или нет?
– Готов.
– Хорошо, сейчас мы это проверим. Я пойду с вами на урок.
– Пожалуйста! – сказал я по возможности спокойно, но он добился своего – я начал нервничать. Я не любил его визитов. В отличие от Троицкого, Тарас не умел вести себя на уроках. Если директор сидел незаметно на последней парте с карандашом и тетрадкой, то завуч «активно участвовал», то есть делал замечания ученикам, задавал вопросы и вообще держался, как нервная женщина за пять минут до отхода поезда. Все это выбивало из колеи.
Но сегодня Тарас превзошел самого себя. Начал он с того, что заставил ребят два раза вставать: ему показалось, что они приветствовали нас недостаточно энергично. Потом отобрал пару авторучек. Дальше пошло совсем плохо. Завуч перебивал меня, грозил кому-то пальцем, стучал карандашом по парте и в конце концов я почувствовал, что теряю контроль над собой и над классом. Я вызывал не тех, кого собирался, а когда пришло время объяснять новый материал, мне уже было все равно, чем кончится этот урок, и объяснял я действительно скверно.
Теперь Тарас собрал все козыри. Оставалось только бросить карты.
– Вот видите! – торжествующе сказал он после звонка.
– Вижу, – ответил я апатично и поплелся в учительскую.
Там машинистка прикалывала на доску приказ. В приказе говорилось, что «преподаватель Крылов Н. С. неправильно, непедагогично вел себя при посещении на дому ученика Бандуры А., чем подорвал авторитет школы и сорвал порученное ему мероприятие». Учитывая непродолжительный стаж работы и отсутствие взысканий, директор счел возможным ограничиться тем, что ставил мне на вид.
Иногда очередной удар не добивает, а прибавляет злости. От моей апатии не осталось и следа. Возмущал не сам приказ, а то, что директор даже не счел нужным поинтересоваться объяснительной запиской, которая лежала у меня в кармане. Кроме того, приказ вывесили на стенку, где его мог читать каждый, в том числе и ученики. Они ведь тоже заходили в учительскую.
Я без стука распахнул дверь в директорский кабинет и услышал, как Тарас Федорович, стоявший у стола, говорил Троицкому:
– Нужно принять самые серьезные меры, Борис Матвеевич.
Может быть, это относилось и не ко мне, но, наверно, все-таки ко мне, потому что директор перебил его:
– Входите, входите, Николай Сергеевич.
Голос, как всегда, звучал вполне доброжелательно, но с меня было достаточно:
– Вы не должны были выносить выговор, не прочитав записку! Вы же сами заставили меня писать ее!
– Во-первых, Николай Сергеевич, вам поставили на вид, а не вынесли выговор. Это вещи разные. А во-вторых, вы, кажется, забыли, что говорите с директором школы!
Доброжелательности больше не было, был холодный, официальный тон.
– Давайте вашу записку.
Я бросил на стол смятую бумажку, но Троицкий не желал замечать моих выходок. Он взял ее, развернул не спеша и поправил на переносице очки.
Мы с завучем стояли по разные стороны стола и старались не смотреть друг на друга.
Директор читал медленно, в одном месте он покачал головой, достал из массивного гипсового стакана красный карандаш и пометил что-то в тексте.
– Ну что ж… Ваша записка ничего не меняет. Вы признаете, что одобрили хулиганский поступок солдата и упорствуете в своей неправоте. К сожалению, я этого и ожидал. Так что взыскание вы получили совершенно справедливо. И боюсь, что оно не последнее, судя по тому, что мне рассказал Тарас Федорович.
– Что же вам рассказал Тарас Федорович?
Завуч толкнул было вперед свой животик, но Троицкий махнул на него рукой.
– Тарас Федорович сказал, что вы пришли в школу без конспекта и не были готовы к уроку, а это худшее, что может сделать учитель.
– Если бы Тарас Федорович не вмешивался в ход урока, может быть, он прошел бы и лучше.
Это было так наивно, что Тарас только всплеснул руками. Троицкий вздохнул:
– Я, Николай Сергеевич, если вы помните, не вмешивался в ход вашего урока, а выводы и у меня были критическими. Вы плохо начинаете свой трудовой путь, Николай Сергеевич! Самомнение, нескромность, невыдержанность – это не те качества, которые нужны педагогу. Мы встретили вас очень хорошо и были рады принять вас в свою дружную семью… Но вы ведете себя, неправильно, в ошибках упорствуете, и наш долг состоит в том, чтобы поправить вас, поправить резко, если это необходимо, а это несомненно необходимо!