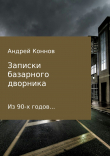Текст книги "Дождь-городок"
Автор книги: Павел Шестаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Annotation
В повести ставится проблема гражданского и нравственного мужания человека. Действие происходит в начале пятидесятых годов в маленьком украинском городке, куда по направлению приезжает молодой учитель, выпускник университета. Впервые столкнувшись с настоящими трудностями, он оказывается в сложной ситуации, получает серьезный жизненный урок. Книга адресуется широкому читателю.
Дождь-городок
Дождь-городок

ОТ АВТОРА
Теперь, как, впрочем, и во все времена, часто спорят о молодежи. Нередко слышишь: «Мы были не такие». Подразумевается, что «мы» были лучше. Мнение не оригинальное, еще в античности утверждали, что молодые «не те». Однако если допустить, что каждое поколение утрачивает пусть даже ничтожную долю лучших качеств своих предшественников, напрашивается абсурдный вывод о постоянном вырождении человечества!
Почему же не умолкают сожаления об «утратах»?
Видимо, поведение молодежи нам, людям, обогащенным житейской мудростью или просто опытом, представляется «неправильным», переполненным эмоциональными излишествами, всякого рода крайностями, кажется то дерзким, то наивным и слишком часто – ошибочным. А между тем раздражающие нас крайности – отнюдь не свидетельство несовершенства молодых. Просто молодым нередко приходится трудно, особенно когда наступает неизбежный час вступления в самостоятельную жизнь. Родительская и педагогическая опека уже изжила себя, собственный опыт еще не накоплен, каких-то ошибок не миновать, а признавать их мешает самолюбие… В итоге если не конфликт, то взаимное недопонимание. На какой-то момент связь с отцами становится односторонней. Сверху вниз идет назидательное «Слушай меня! Я хочу тебе добра». А снизу не слышат или, хуже того, пытаются возражать…
Конечно, время ставит все на свои места: молодежь занимает положенное место в жизни и сама превращается в отцов, а отцы – в дедов, которые обычно снисходительнее к внукам, чем были к сыновьям. Утихают старые и рождаются новые споры но, может быть, они были бы мягче и продуктивнее, умей отцы лучше слушать или лучше вспоминать…
Такие или приблизительно такие мысли высказывал мне недавно пожилой человек, с которым я познакомился более четверти века назад в жаркий августовский день в душной приемной Одесского облоно, куда мы съехались, чтобы получить направления на работу в местные школы. Волнуясь, мы ждали своей участи. Подобная обстановка быстро сближает, и за недолгие дни мы почти сдружились и даже просили послать нас в одну школу, но это оказалось невозможным, и пришлось разъехаться…
Потом, через много лет, я получил от него письмо: он прочитал одну из моих книг и захотел при случае повидаться. Стоит ли говорить, что встретились мы другими людьми? Мой знакомый из худощавого парня в широченных брюках превратился в весьма солидного доктора наук, человека, как я слышал, авторитетного в научной сфере.
Но от сегодняшних его занятий я был, естественно, далек, а вот о днях молодости, о пережитом после того знойного августа, когда наступил для нас не менее горячий сентябрь, говорили много… Оказалось, что будущий профессор вел в те дни нечто вроде дневника, записывал то, что волновало, огорчало или радовало. Записи эти он захватил с собой.
– Может быть, они заинтересуют тебя, как писателя. Я писал так, как думал, что думал, и хотя теперь многое из написанного самому кажется наивным и вызывает местами чувство сожаления, из песни, как говорится, слова не выкинешь, таков уж был…
Старые тетради меня действительно заинтересовали. Я нашел в них многое из того, что пережил сам, и мне захотелось рассказать о давних днях молодости Николая Крылова, как назову я моего знакомого, его заблуждениях и поражениях, жизненных затруднениях, которые довелось перетерпеть, увы, не ему одному.
Предоставляя право молодому учителю говорить от первого лица, я тем не менее хотел бы заметить, что предлагаю читателю повесть, а не дневник, произведение литературное, а не публикацию. Изменив фамилии и внешние приметы некоторых персонажей, вмешавшись кое-где в ход событий, а также придав крыловскому Дождь-городку облик города, где работал я сам, ибо Николай Сергеевич свой городок изобразил крайне скупо, я сохранил крыловские оценки людей и поступков. Сохранил не потому, что всегда согласен с ними, а потому, что хотел показать своего героя, каким он был, а точнее, каким себя видел. Был же он иногда излишне строгим, всегда взволнованным, однако и в волнении стремился оставаться справедливым и к окружающим, и к самому себе. В его позиции нет заносчивости, попыток во что бы то ни стало перенести, переложить вину за свои беды и неудачи исключительно на окружающих. Он прекрасно понимает, что в глазах наблюдателя объективного отнюдь не выглядит образцом для подражания. Слабости и заблуждения его очевидны, а итог нагляден – в тот период жизни Николаю Крылову не довелось осуществить «благие порывы». Поэтому автор и не счел нужным вести по страницам повести назидательным перстом. Думаю, что читатель и сам сделает надлежащие выводы.
*
Пятнадцатого августа пятьдесят второго года старенький пассажирский поезд оставил меня на небольшой станции в степном украинском городке, где мне предстояло начать самостоятельную жизнь. Я посмотрел ему вслед, вытер платком мокрый лоб и, приподняв тяжелый, набитый книжками чемодан, двинулся навстречу неизвестному будущему.
Скажу сразу, что название «Дождь-городок» я придумал позднее. А пока что передо мной лежал Зной-городок, по широким немощеным улицам которого суховей гонял смерчи из пыли и раньше времени пожелтевших скрученных листьев. Ветер обжигал лицо и не давал открыть как следует глаза, но, на мое счастье, школа оказалась близко.
Прежде чем войти, я перечитал раза три надпись на отличной, совсем «городской» вывеске и сверил ее с тем, что было написано в моем направлении. Потом поставил на крыльцо чемодан и с удовольствием разогнул спину.
Снаружи здание казалось приятным, хотя и заметно было, что строилось оно давно и, очевидно, совсем с другой целью, однако свежая светлая краска скрадывала тяжесть массивных каменных стен. Зато внутри было мрачновато. В широкий коридор, пересекавший всю школу, свет проникал только через застекленные до половины двери классных комнат. Стекла эти имели и еще одно назначение, но о нем я узнал позже…
А пока, пройдя почти весь коридор и не встретив ни души, я остановился у двери с табличкой «Директор». Она оставалась последним и, пожалуй, уже символическим рубежом между той, облегченной родными и воспитателями жизнью, которой я жил до сих пор, и неизвестным, но наверняка более сложным бытием, что должно было начаться с завтрашнего дня, и мне вдруг по-детски захотелось, чтобы директора не оказалось в кабинете.
Иногда наши мечты сбываются.
– Сегодня вы уже опоздали, – сказал кто-то сзади.
Я обернулся и увидел человека, как мне показалось, почти пожилого, то есть лет сорока. Был он крупным, начавшим полнеть, с круглой, гладко выбритой головой.
– Что же делать? – спросил я растерянно.
– Ждать и надеяться, как говорил граф Монте-Кристо в таких случаях. Где ваши вещи?
Я махнул рукой в сторону выхода:
– Там…
– Вот и отлично. Сейчас заберем их и пойдем ко мне. Ведь вы Крылов? – И, не дожидаясь ответа, он зашагал по коридору, продолжая: – А моя фамилия Ступак. Звать Андрей Павлович, преподаю физику. Сам здешний хохол.
Говорил он, впрочем, безо всякого украинского акцента. Пояснил, что обо мне звонили из облоно, что директора я увижу завтра, потому что он где-то в районе, а пока мы идем пить чай и отдыхать с дороги.
– В общем, «жена будет рада», – закончил Андрей Павлович, усмехнувшись. – Она, кстати, тоже в нашей школе работает.
Я был смущен и хотел сказать, что лучше поискать место в гостинице или переночевать в школе, на свободном диване, но Ступак уже вывел меня на улицу, легко подхватил с крыльца тяжелый чемодан, и я послушно пошел вслед за ним мимо режущих глаза белизной саманных домиков и гнущихся под ветром тополей прямой длинной улицей на край городка, откуда видны были бурые в перегретом мареве недавно убранные поля. Там Андрей Павлович толкнул свободной рукой низкую решетчатую калитку, и мы вошли в самый, настоящий сельский дворик с не раз описанной украинской хатой под камышовой крышей. Возле хаты с шумовкой в руке стояла девушка в ситцевом платье в горошек и смотрела на нас.
– Светлана! – позвал ее Ступак. – Я с гостем… Моя законная супруга, – сказал он мне.
Я удивился – такими непохожими показались мне Андрей Павлович и его жена. Светлана выглядела гораздо моложе. Если бы я встретил ее в полутемном школьном коридоре, то наверняка принял бы за десятиклассницу. По сравнению с мужем Светлана была совсем маленькой, тоненькой девчонкой, с очень русским светлоглазым лицом и коротко остриженными, тоже светлыми, рассыпающимися волосами. Волосы эти падали ем на глаза, и она все старалась отбросить их неловким движением головы.
Светлана протянула мне сухую загорелую руку, и я осторожно пожал ее.
– Николай.
– Ну какой же вы Николай! Теперь вы Николай?..
– Сергеевич… – пробормотал я.
– То-то! И не смущайтесь! Мне тоже было трудно привыкать к учительскому имени, но это уже профессиональная специфика. А пришли вы как раз вовремя: у меня пельмени почти готовы. Так что умывайтесь и – за стол!
Я понял, что сопротивляться не нужно, и послушно направился к прибитому прямо на дереве рукомойнику.
Не помню уже подробно, о чем говорили мы тогда за столом… О разном, конечно, как и говорят обычно люди, встретившиеся впервые, а о себе – только необходимое для первого знакомства, что-то анкетное. Я узнал, что поженились они еще в университете, а здесь работают третий год и у них есть мальчишка Вовка.
– Вы даже не представляете, какой у меня взрослый сын! – похвалилась Светлана. – Он сейчас с бабушкой в деревне.
Представить, что у нее есть сын, да еще и взрослый, было в самом деле нелегко. И еще меня озадачило слово «деревня» – настолько непохожим на город в моем понимании был сам этот городок. Но я ничем не выдал своего удивления.
Бабушка была мать Андрея Павловича. Ей и принадлежала хата, в которой мы ели пельмени. Так что Ступак не кокетничал, называя себя здешним хохлом. Зато окающая Светлана была, конечно, северянкой. Недаром же она потчевала нас пельменями, а не варениками. Однако в тот день гораздо больше меня интересовало другое.
– Расскажите что-нибудь о школе, – попросил я.
Светлана тряхнула головой, отбрасывая со лба волосы.
– А что вам говорили в облоно?
– Говорили, что школа числится в лучших, что мне повезло и я должен гордиться…
– Все правильно. Можете начинать гордиться.
– Серьезно?
– Поживете – увидите, – сказал Ступак. – Такие вещи лучше познаются собственным опытом.
– Ну, а самим-то вам здесь нравится?
– Дом строим, Николай Сергеевич. Тут неподалеку…
В ответе звучала недоговоренность, но Андрей Павлович был прав: лучше все увидеть собственными глазами. Ждать-то оставалось недолго. Я подумал, что в моих расспросах есть что-то мальчишеское, несолидное, и не стал больше говорить о школе.
Положили меня на раскладушке во дворе. Ветер утих, намаявшись за день, жара тоже уступила. Дышать стало легко и приятно. Спать не хотелось. Все вокруг было слишком непривычным: узловатые, жестколистые ветки вишни над головой, белеющая в темноте хата, близкое, в ярких звездах, небо, беспокойная перекличка собак за плетнем… Не верилось, что все это реально, что так будет и завтра, и через месяц, и еще очень долго, я не знал сколько, а с потрескавшимся асфальтом двор, комната на пятом этаже, улица, гремящая трамваями, в большом городе, где я родился и вырос, находятся далеко-далеко, за полторы тысячи километров…
Я вспомнил свой отъезд из дому, мать на перроне среди толпы людей, слезы на ее глазах, жаркие станции, с кипятком, бьющим из бронзовых, окутанных паром кранов, баб в цветастых платках, предлагавших пассажирам вареных кур, рассыпчатый картофель и жерделы в ведрах, тесное купе и стук домино, перемешивающийся со стуком колес.
И вот – ни стука, ни беспокойных соседей. Вместо залитого асфальтом двора – степной городок, в котором я знаю пока только двух людей. Они понравились мне, как могут нравиться люди в молодости, сразу и без сомнений. Я был не просто благодарен им за гостеприимство, но уже любил их и радовался, что буду работать вместе с ними, и мне хотелось, чтобы они тоже полюбили меня и я смог бы сделать для них что-нибудь хорошее. И еще я думал, что и другие учителя и директор тоже должны быть простыми и сердечными людьми, с которыми легко и радостно работать, которых уважают и любят ученики и которые будут уважать и любить меня, и все вообще будет замечательно…
Утром Ступак повел меня снова в школу.
– Хотите посмотреть город? – предложил он.
– Разумеется…
– Тогда сделаем небольшой крюк.
Мы спустились на соседнюю улицу и по ней вышли к реке. Собственно, здесь сходились даже две реки, деля городок на три части, соединенные старыми деревянными мостами. По мостам все время что-то двигалось: то быки тянули арбу с соломой, то осторожно проползала груженая трехтонка, прижимая пешеходов к шатким перилам.
– Между прочим, в свое время здесь была граница трех государств, – сказал Андрей Павлович. – Мы с вами сейчас на турецкой стороне, там была Польша, а тут Россия… Один петух будил подданных трех монархов. Таковы «дней старинных анекдоты».
Возле моста начинался большой, давней посадки городской сад. Деревянная арка с выгоревшими флажками и фанерными кренделями букв, составлявшими слова «Парк культуры и отдыха», символизировала в нем день сегодняшний, зато тенистые, запущенные аллеи парка вызывали в памяти тургеневские страницы. Здесь было совсем мало людей, и вкопанные в землю скамейки из толстых досок стояли, присыпанные сбитыми ветром листьями.
Из парка мы вышли в самый центр городка. Широкая и короткая улица, вымощенная плохо обработанным булыжником, соединяла две круглые площади. На одну из них выходил уже знакомый мне вокзал, на другую – монументальное, дореволюционной постройки сооружение, обнесенное массивной колоннадой. Между колоннами рябили красно-синей мозаикой многочисленные вывески районных учреждений. Спиной к сооружению стоял в длинной, до пят, бетонной шинели Сталин, строго поглядывая вдоль улицы. Улица, почти сплошь состоявшая из торговых точек, называлась «имени Ивана Франко». Несмотря на рабочее время и жару, на улице толпился заинтересованный торговлей народ.
– Ну как наш Китеж-град, понравился? – спросил сдержанно Ступак.
– Конечно, не Рио-де-Жанейро, – ответил я, – но жить, по-моему, можно… А парк просто чудесный!
– Тогда заглянем на главный объект и – в школу.
Мы снова очутились в тихом украинском селе. Метров через двести от центра между двумя мазанками поднялись над каменным фундаментом почти под крышу кирпичные стены.
– Вот. Великая стройка. Если раньше не сбежите, будем через год праздновать новоселье.
Я довольно равнодушно осмотрел объект.
– Наверно, это страшно хлопотно – заниматься строительством?
Ответ Андрея Павловича я не понял. Он сказал не сразу:
– Страшно будет, когда оно кончится.
Через несколько минут мы были в школе. Ступак подвел меня к полуоткрытой двери директорского кабинета и слегка подтолкнул в спину:
– Ну, вратарь, готовься к бою!
На этот раз директор оказался на месте. Когда я вошел в кабинет, он что-то писал за столом. Я увидел седую, аккуратно причесанную голову, склонившуюся над бумагами, а над головой – черную, обильно изукрашенную резьбой спинку кресла. Директор, разумеется, слышал скрип двери и шаги, но не перестал писать и, не поднимая головы, продолжал методично выводить на тетрадном листе строчку за строчкой.
Молча стоять было неловко, и я спросил с заметным опозданием:
– Разрешите войти?
– Вы ведь уже вошли, – ответил директор резонно и указал мне рукой с пером на стул.
Я присел, дожидаясь. Мой первый начальник поставил на своем письме красивый косой росчерк и только тогда положил ручку и поднял глаза.
– Я вас слушаю.
– У меня к вам назначение на работу…
– Очень приятно. Где же оно?
Я протянул бумагу. Директор взял ее и, не спеша развернув, внимательно прочитал.
– Значит, вы Николай Сергеевич Крылов?
– Да.
– А что у вас еще есть с собой, Николай Сергеевич?
Я не понял:
– Как – что?
– Паспорт, диплом?
– Ну, конечно.
Он просмотрел документы так же неторопливо, как и направление, и спросил:
– Диплом у вас с отличием? Это хорошо. Только разрешите задать вам один вопрос.
– Пожалуйста.
– Скажите, Николай Сергеевич, вы приехали к нам… добровольно?
– Конечно.
– А у вас не было возможности остаться работать в городе?
– Была. Мне предлагали место ассистента на кафедре.
– И вы все-таки решили ехать сюда, в провинцию?
– Да.
– Почему?
– Мы решили так на комсомольском собрании – всем поехать на периферию. Мы думали, что будем здесь полезны.
Он внимательно посмотрел на меня из-за очков в тонкой серебряной оправе.
– Вы правильно решили, Николай Сергеевич. Нам нужны способные молодые педагоги. Но хочу сразу предупредить вас: и вам придется хорошенько поучиться у старых, опытных преподавателей. У нас есть такие люди. Наша школа – одна из лучших в области.
– Я знаю.
Директор, кажется, был доволен моими ответами. Он снял очки и протер стекла очень чистым носовым платком.
– Ну что ж… Желаю вам успеха на первом самостоятельном поприще. Вы еще не искали квартиру?
– Нет.
– Тогда с этого и начинайте. О делах поговорим попозже. Сначала устраивайтесь. Я скажу уборщице, чтобы она помогла вам подыскать комнату. Она хорошо знает местных жителей.
Без очков он выглядел не таким строгим. И вообще, его деловой тон мне нравился.
«Благородный старик, строг, но справедлив!» – подумал я, по студенческой привычке облекая мысль в расхожую цитату.
*
Дни, оставшиеся до первого сентября, пробежали в будничных хлопотах и не запомнились событиями. За это время я нашел себе комнату и познакомился почти со всеми учителями. Комната была хорошая, с окном в заросший сиренью палисадник. Хозяйка мне тоже понравилась. Звали хозяйку Евдокия Ивановна, ей недавно перевалило за пятьдесят. Жила и хозяйничала она одна, потеряв, как многие, мужа на войне. Держалась Евдокия Ивановна с нередким в деревенских женщинах тактом и достоинством, которые отличают человека умного и доброго, обладающего теми чудесными качествами, что обычно называют душевной красотой. Но о хозяйке я еще скажу, а теперь об учителях…
Их было больше десяти, и запомнить каждого сразу я, конечно, не мог. Упомяну пока тех, кто имел непосредственное отношение к моей истории.
Человек номер два в каждой школе, разумеется, завуч. Правда, это может быть и большое «два», а бывает и малюсенькое, незначительное. Но эта подлинная величина познается не сразу, и первое мое впечатление от Тараса Федоровича было в основном внешним, зрительным. Он показался мне похожим на дверную ручку. Бывают люди с такой нескладной фигурой: сам худой, плоскогрудый, а живот торчит круглым мячиком. Мячик этот у Тараса Федоровича прикреплялся к туловищу широким офицерским ремнем, который он носил поверх диагоналевой зеленой гимнастерки. И как будто на случай, если пояс подведет, завуч ходил все время с низко опущенными руками и растопыренными пальцами, готовый каждую минуту подхватить на лету мячик-живот.
Впрочем, слово «ходил» неточно. Тарас Федорович передвигался мелкими перебежками, я видел его только в движении, суетливо спешащего из класса в учительскую, а оттуда еще куда-то, с вечно озабоченным и страдальчески сморщенным лицом.
Любимыми словами Тараса Федоровича были «хорошо вам!». Ими он начинал и заканчивал любой разговор, раз и навсегда убедив себя, что нет на земле должности более обременительной, чем заведование учебной частью в средней школе. Светлые минуты приходили к нему лишь дважды в год, когда он садился составлять очередное расписание.
Расписание было для него и источником вдохновения, и предметом постоянной и законной гордости, ибо наш завуч несомненно являлся виртуозом своего дела. Как настоящий волшебник, извлекал он из хаоса часов свободные дни и ликвидировал нелюбимые всеми «окна». Я убедился в этом, получив второй выходной при двадцатичетырехчасовой нагрузке.
Показывая мне исписанный и исчерканный лист нового расписания, Тарас Федорович был похож на Кио, только что распилившего на ломтики свою молоденькую ассистентку. Я же напоминал мальчугана, который со страхом дергает маму за рукав и спрашивает, что же теперь будет с тетей. Потому что, откровенно говоря, я не ожидал такой нагрузки сразу и не был уверен, что справлюсь с ней.
Но Тарас Федорович думал иначе.
– Работайте, молодой человек, работайте! Сейте разумное, доброе, вечное. Хорошо вам! – добавил он, будто сам уже сеять не мог.
И, не дав мне возразить, завуч умчался, сунув расписание под мышку и привычно подстраховав ладонями живот…
Не менее колоритной фигурой была Прасковья Лукьяновна, самоуверенная старуха с сиплым, прокуренным голосом. Даже в жару она носила толстую вязаную кофту, цветом и покроем похожую на потемневшую от времени музейную кольчугу. Преподавала Прасковья (за глаза все называли ее только по имени) химию и биологию. Наверно, эта близость к природе выработала в ней манеру выражать свои мысли прямо и грубовато, нарочито пересыпая русскую речь украинским словцом.
– Здравствуйте, юноша, – сказала она, бесцеремонно оглядев меня с ног до головы. – Небось, героя из себя корчите, что приехали в нашу дыру?
Я немножко оробел.
– А мы вот побачим, що вы за герой. Посмотрим, как вы работать будете! Понятно?
И стряхнула желтым пальцем пепел с толстой папиросы.
И, наконец, Виктория, говоря на преподаваемом ею языке, «инфант террибль» нашей образцовой школы…
Появилась она в учительской тридцатого августа. Шумно распахнулась дверь, и я увидел нечто совершенно непохожее на учительницу в моем представлении. Таких девиц мы неустанно прорабатывали на комсомольских собраниях. Нестерпимо яркая, от бронзовых, несомненно природного цвета, волос до красных модных босоножек на длинных ногах, она была красива южной броской красотой и ничуть не скрывала ее.
Виктория остановилась на пороге и сказала всем громко:
– Здравствуйте! Вот и я. Заждались?
И сразу, не слушая, что ей будут отвечать, подошла к Тарасу Федоровичу:
– Вы, конечно, надеялись, что я не приеду?
– Почему «надеялись»? Разве я к вам плохо относился?
– Что вы, дорогой наместник директора в учительской! Вы лучший из завучей и наверняка приготовили для меня лучшее из своих расписаний!
– Хорошо вам! Ездите, катаетесь, а я сиди, готовь расписание!
– Вы не сидели, Тарас Федорович. Вы парили, как поэт, на крыльях вдохновения.
И она рассмеялась.
Тарас Федорович только горестно взмахнул руками, а Прасковья отвернулась к окну и усиленно запыхтела папиросой.
– Что это за стиляга? – спросил я у Андрея Павловича, который молча посмеивался.
– Преподавательница французского языка Виктория Дмитриевна Хрякина. Между прочим, дочь крупного работника.
Я удивился:
– Что ж ее папа поближе к себе не устроил?
Ступак пожал плечами:
– Пути господни неисповедимы. Может быть, судьба привела ее в наш город специально для вас.
– Нет уж, избавьте! Виктория Хрякина, на мой взгляд, слишком смелое сочетание.
– А Виктория Крылова? По-моему, ничего. Подумайте на всякий случай.
Мы оба, конечно, шутили. Мне было не до Виктории, я думал только о своем первом уроке. Конечно же, трусил, и трусил не зря: педагогике в нашей университетской программе отводилось место бедного родственника. Считалось, что главное – хорошо усвоить предмет, а педагогические навыки придут с опытом. Практика наша состояла из какой-то пары уроков. Да разве это были уроки? Обыкновенные самодеятельные спектакли, где каждый с грехом пополам ведет свою простенькую роль! Настоящие уроки казались мне тогда бесконечно далекими…
Но вот до первого из них осталась неделя, потом день и наконец час, всего только час.
Когда я в черном, застегнутом на все пуговицы шерстяном костюме подошел к школе, то впервые пожалел, что не остался работать в университете. Двор ходил ходуном. Детвора всех возрастов орала, визжала, прыгала и колотила друг друга сумками. Я шел среди них, испытывая ощущение человека, который ждет пулю между лопаток, и когда поднялся на порог, то остановился, чтобы перевести дух. Жутко было думать, что через несколько минут почти сорок из этих разбойников останутся со мной с глазу на глаз.
В учительской делили указки. Тарас Федорович заготовил их целую охапку – свеженьких, желтеньких, только что из столярной мастерской. Светлана просила подлиннее.
– С моим ростом это не роскошь…
Я взял первую попавшуюся.
– Мне все равно, лишь бы отбиться от учеников!
– Здорово трусите? – спросила Светлана.
Я сознался честно:
– Страшновато.
– Вот и зря, хотя все трусят. На первом уроке никогда ничего страшного не случается. Дети – они хитрющие. Они сегодня к вам присматриваться будут: что можно, что нельзя. И сидеть будут, как мыши. Так что не трусьте! Вы в каком классе?
– В девятом.
– Ну, да там все взрослые! А в девочек влюбиться можно.
Подошел Андрей Павлович и, глянув на часы, сказал:
– «Ч» минус полминуты.
Я постарался улыбнуться. Светлана тронула меня за рукав.
– Ни пуха ни пера…
И тут же зазвенел звонок. Все отсрочки кончились. Я взял потной рукой журнал и пошел в класс.
Меня уже ждали. Не было ни хаоса, ни даже обыкновенного шума. Просто любопытные, а у некоторых даже сочувствующие взгляды.
– Садитесь, – сказал я, вслушиваясь в свой голос, не сорвется ли. Прозвучало, правда, глуховато.
– Ребята, меня зовут… – начал я сто раз отрепетированную фразу, но не успел закончить ее.
– Николай Сергеевич, – сказал кто-то с места.
«Ну вот, началось», – мелькнуло у меня, и я с ужасом услышал смех. Но смеялись не надо мной. Просто девочка, назвавшая мое имя, смутилась и закрыла лицо руками. Мне стало легче.
– Да, меня зовут Николай Сергеевич, а сейчас познакомимся с вами…
Я открыл журнал и начал перекличку. Собственно, занятие это было бесплодное. При том волнении, которое я испытывал, запомнить чьи-то лица было совершенно невозможно. Но я добросовестно взглядывал на каждого и постепенно начал успокаиваться. Позади осталась уже бо́льшая часть алфавита, когда я увидел очередную фамилию – Рыло.
«Идиотская фамилия», – подумал я. Она особенно резала слух, потому что другие фамилии как на подбор красовались благозвучием: Новицкая, Комарницкий, Ляховская, Ярмурский. И вдруг среди ясновельможного панства – Рыло. Но что я мог поделать?
– Ры́ло, – произнес я неуверенно.
Кто-то хмыкнул, а с первой парты поднялась очень хорошенькая девушка и, покраснев, поправила меня:
– Рыло́.
Кажется, я сам покраснел.
– Извините, пожалуйста!
Больше инцидентов на этом уроке не было, и когда я начал объяснять материал, то настолько овладел собой, что даже почувствовал, как взмокла моя спина под жарким пиджаком, надетым исключительно из соображений солидности. Но это были мелочи. Главное же, меня слушали, я вел свой первый урок, я был уже настоящим учителем. И, когда прозвенел звонок, я с нежностью глянул на своих мальчишек и девчонок со шляхетскими фамилиями и такими симпатичными украинскими черноглазыми физиономиями.
*
Начало осени прошло как один типично обобщенный день, схема которого сложилась у меня в голове еще до приезда в Дождь-городок. Основой ее был строгий режим: подъем по будильнику, зарядка на воздухе при любой погоде, тщательная подготовка к урокам, максимальное внимание к своим обязанностям, никакой пустой траты времени и дальше в том же суровом духе. Выглядело это приблизительно так:
14 сентября, четверг.
Проснулся ровно за пять минут до звонка будильника. Сегодня прибавил к комплексу еще одно упражнение. Пришел в школу в бодром, хорошем настроении. У меня было три урока в девятых классах и один в шестом. Материал ребята знали неплохо, итог дня – только две тройки, остальные – четыре и пять.
На переменке Тарас Федорович похвалил меня. Сказал: «Молодой преподаватель, а уже сумел себя поставить». Он был у меня на уроке в 9-м «б». Думаю, что я не вполне заслужил эту похвалу, потому что в шестых дисциплина у меня значительно хуже, но все-таки приятно.
После уроков, в порядке ознакомления, посетил семьи двух учеников – Стрельченко и Комарницкого. Встретили меня очень тепло, даже предлагали обедать, но я, конечно, отказался.
Вечером написал письмо маме.
Так и бежали эти дни…
Я благополучно жил в новом для себя мире, но жил по собственным, самим собой составленным или просто вычитанным правилам, лишь формально соответствующим этому, еще не открытому мной миру, который казался мне плоским и простым, а на самом деле топорщился тысячью острых углов, о существований которых я и не подозревал. Я видел его таким, каким он должен был быть по моим незрелым представлениям, а вовсе не таким, каким он был в действительности.
Понятно, что это не могло продолжаться слишком долго.
Пожалуй, на первый ухаб я наскочил, когда столкнулся с Еремеевым. Этот день я запомнил особенно хорошо, потому что с него начались дожди…
В то утро, перед тем как проснуться, я видел сон. Сон, впрочем, совсем не символический, а самый обычный: как будто я веду урок и вдруг звонок. А я еще не закончил объяснение. Я смотрю на часы, не зная, что же делать, а звонок звенит и звенит. С этим звоном в ушах я и проснулся и, прежде чем придавить кнопку расходившегося будильника, обрадовался, что конфуз с уроком произошел не наяву, а во сне.
Потом я немного удивился, что проспал. Больше того, вставать не хотелось даже теперь, когда будильник разбудил меня. А ведь я гордился тем, что вскакивал с постели за пять минут до звонка. Удивило и то, что в комнате было совсем темно. Я даже поднес к глазам часы, чтобы проверить себя, но никакой ошибки не было.
Тогда я, преодолев сонливость, поднялся. Из форточки тянуло холодом. Я подошел к окну и понял, почему мне не хотелось вставать: за окном шел дождь. Не шумный, теплый, которого так хотелось в недавние знойные дни, а настоящий осенний – тихий, мелкий и бесконечный.
Улица выглядела как неконтрастная фотография: почерневшие за ночь ветки деревьев и стены ближних домов сливались с мутным темно-серым задним планом. Краски исчезли, будто дождь смыл их.
Я сунул ноги в тапочки и пошел на крыльцо делать зарядку. Холодные капли стекали по плечам, и я тщательно считал движения, чтобы не сделать лишних. Норму, однако, выдержал и, протерев тело мохнатым полотенцем, почувствовал, что равновесие восстановлено. В школу я шел с удовольствием вдыхая свежий влажный воздух.