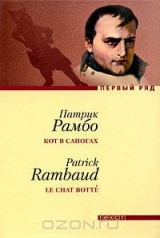
Текст книги "Кот в сапогах"
Автор книги: Патрик Рамбо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА II
Две Франции
Так уж повелось в эту странную эпоху: смерть встречали без боязни, да и убивали без волнения.
Александр Дюма.«Спутники йеху», глава XXXIX
Буонапарте со своим адъютантом Жюно направлялись на улицу Нёв-де-Пти-Шан с визитом к Баррасу, когда столкнулись с целой оравой всадников, преградивших им дорогу. Оба догадались, что это военные, по их лихой манере красоваться в седле, держа руку на сабельной рукоятке, но было не понять, от какого они отбились полка. Только кожаные ремни и перевязи всадников отвечали воинскому регламенту. На них были куртки, обесцвеченные дождями, на головах трофейные вражеские шлемы, сабо вместо сапог или сапоги с картонными подошвами, подвязанные веревкой. Рослый усач без нашивок, хотя, должно быть, он был по меньшей мере капралом, обратясь к подошедшим, жестко сказал:
– Поворачивайте назад, граждане.
– Я генерал Буонапарте!
– Не знаю такого.
– Зато я знаю Барраса!
– Мне на это плевать.
– Он ждет нас.
– Это вряд ли.
– Пропустите их, – сказал Баррас, выходя из дому в мундире и со своим трехцветным плюмажем. Бонапарт, а за ним и Жюно устремились навстречу виконту:
– Ты уезжаешь?
– В Лилль.
– Выведешь оттуда войска?
– Вывезу гигантский обоз муки. Я чую, что запахло гражданской войной, генерал. После всеобщего одурения, после слез, что полились заново, до моего слуха теперь доносится глухое ворчание. А ты, стало быть, ничего не слышишь? И не видишь? И, что ни день, не встречаешь на пути похоронные дроги?
– У меня есть глаза и уши, гражданин Баррас.
– Ну а у меня их сотня. Донесения моих агентов усиливают тревогу. Никогда еще сборища не были столь многолюдны и возбуждены. Распространяются опасные слухи, болтают, будто наши карабинеры и жандармы будут заменены немецкими наемниками, это те же грязные бредни, что, помнится, переходили из уст в уста весной тысяча семьсот восемьдесят девятого. Болтают, будто число депутатов возросло и им выдают половину платы наличными, а мюскадены обжираются сдобными булочками, когда у пекарей и муки-то больше нет. Говорят, что армия возьмет Париж в кольцо, чтобы защитить Конвент…
– А что это за эскорт? – Буонапарте показал на всадников.
– Мне удалось вызвать из Гонесса только стрелковый полк, вот я и выезжаю с эскадроном, который занимался реквизициями зерна в наших селениях.
– На площади у Рынка, – вмешался Жюно, – я сегодня утром видел сотни повозок с овощами.
– Их не хватит! Предместье Сент-Антуан гудит. Не нравится мне это.
Баррас вытащил из кармана редингота брошюру и протянул Буонапарте:
– Пять сотен экземпляров этой книжонки вчера были распространены по городу. Она призывает народ восстать, чтобы получить хлеб.
Виконту подвели коня, он поставил ногу в стремя и лихо вскочил в седло.
– А я? – спросил Буонапарте.
– Ты?..
– Мне-то что делать?
– Ничего.
– Как это?
– У тебя нет места службы.
– Но я могу быть полезен!
– Что ж, обратись в Военное министерство, попробуй убедить их в этом.
И виконт со своими оборванными егерями рысью поскакал прочь, покинув Буонапарте во власти весьма горьких раздумий. Генерал в отпуску постоял, нервно постукивая себя тростью по сапогу, когда же всадники скрылись за поворотом улицы, скомандовал своему адъютанту, как и он сам, оставшемуся не у дел:
– Ступай в Пале-Рояль, Жюно, послушай, о чем там толкуют, потом доложишь мне, каково настроение публики. Я буду у Пермонов.
– Я присоединюсь к тебе через час, генерал.
Отдав приказ, пускай всего лишь Жюно, он испытал некоторое облегчение: навязанная ему скромная роль зрителя была нестерпима. Сперва они зашагали рядом, потом адъютант свернул направо, к Пале-Роялю, Буонапарте же по улице Вивьен двинулся в сторону улицы Дочерей святого Фомы, где на третьем этаже дома с меблированными комнатами под названием «Обитель Спокойствия» обитала мадам Пермон, подруга детства его матери. С одной стороны, ее апартаменты служили местом сходок корсиканских эмигрантов, с другой – игорным домом: мадам Пермон, утверждавшая, что ее род восходит к императорам Трапезунда, организовывала там неистовые картежные баталии, ибо ей причиталась доля со ставок. Сюда стоило заходить в основном для того, чтобы узнать последние новости. Так Буонапарте проведал, что англичане 50-го пехотного полка захватили его фамильный дом в Аяччо: на первом этаже разместили оружейный склад, а опустошенные комнаты лейтенант Форд превратил в казарму для своих людей.
– Кот в сапогах! Кот в сапогах!
Одиннадцатилетняя Лора Пермон с балкона заметила Буонапарте, когда он шел через двор, и тотчас оповестила об этом мать и присутствующих гостей – аббата Арриги и господ Арена и Маэстраччи. Насчет своего сказочного прозвища Буонапарте был в курсе. Он обзавелся им несколько лет назад. Закончив высшую военную школу в Бриенне, он зашел к Пермонам, желая показаться в новеньком мундире. Но поскольку ноги у него были тощие, а сапоги оказались широковаты, Лора и ее старшая сестра Сесиль при виде его покатились со смеху: «Кот в сапогах!» Шутка ему совсем не понравилась, но он стерпел. Что до этих сапог, они приводили мадам Пермон в ярость: будучи сухими, пронзительно скрипели, стоило ему ступить на пол, когда же намокали, при попытке подсушить их у очага начинали вонять, так что бедной мадам Пермон приходилось все время подносить к носу надушенный платочек. Но она нашла выход: в плохую погоду горничной было велено, едва генерал появится на пороге, снимать с него эти пресловутые сапоги с отворотами и чистить в прихожей. Сейчас на улице было сухо, и проклятые сапоги ограничивались скрипом.
– Наполеон, что привело вас сюда? Зов сердца или желудка?
– Сердце, бесценная мадам Пермон, разумеется, сердце, и оно же, вещее, побуждает меня закрыть это окно. Уж не знаю, над чем ваша Мариэтта колдует там на кухне, но чую аромат, за который завистливые соседи, чего доброго, донесут на вас, как на спекулянтку.
– Вот еще! – фыркнул аббат Арриги.
– И меня арестуют за незаконное приобретение пулярки?
– При том, – подхватил аббат, – что я эту курочку сам купил в провинции.
– Надлежит опасаться всего и не доверять никому. Я только что расстался с Баррасом, он обрисовал мне положение в предместьях в самом черном свете. Мадам Пермон, вам следовало бы погрузить свои вещи в берлину и поспешить к мужу в Бордо. Здесь, в Париже, все висит на волоске.
– Ах, и правда! – воскликнула юная Лора. – Я вчера ужасно перепугалась.
– Расскажите же вашему Коту в сапогах, что вас так встревожило, мадемуазель Лулу.
– Мы собрались с Мариэттой в лавку купить ленты и кусок шелка, мама не хотела, чтобы мы шли пешком, поэтому мы взяли фиакр. Но на бульваре пьяные женщины стали кричать: «Долой Конвент! Подайте нам сюда наших патриотов!» Эти мегеры потребовали, чтобы кучер открыл дверь нашего экипажа, но он воспротивился и, пустив в ход кнут, стал отгонять их прочь. Я сказала ему, чтобы он сделал, как они просят, а сама приготовила двадцатифранковый ассигнат, держала его в руке. Но тут огромная фурия распахнула дверцу и как схватит меня в охапку! Я побледнела, задрожала…
– Но мадемуазель Лора не плакала, – похвасталась своею подопечной Мариэтта, подавая на стол золотистую пулярку.
– Это из гордости, – поддразнил Буонапарте. – Мадемуазель Лора не желала расплакаться перед неотесанными бабами.
– Короче, – подытожила мадам Пермон, – эти женщины пропустили фиакр, и все закончилось благополучно.
Она поманила гостей к столу, где аббат, вооружась ножом, с видом заправского стратега примеривался к операции разделки курицы.
– Я говорил серьезно, – напомнил Буонапарте, садясь.
– Нам известно, что вы никогда не шутите, – отозвался Арена, повязывая себе на шею салфетку.
– Мадам Пермон, вы рискуете, покупая провизию за городской заставой. Хотя бы тем, что на вас могут напасть по дороге.
– Все предусмотрено, Наполеон, не беспокойтесь так.
– И все-таки меня это тревожит.
– Но не станем же мы в самом деле есть собак!
– Они слишком тощие, – со смехом вставила Лора.
– Или ту рыбу, что продают на рынке Мартен, – продолжал аббат, отделяя куриную ножку. – Эта рыба с площади Мобер невесть когда подохла, сгнила наполовину, а они ее сбывают.
Мадам Пермон была дамой ловкой, Буонапарте об этом знал. Ей привозили контрабандную белую муку с юга, друзья-корсиканцы снабжали ее рыбой из Ножана, свежими овощами. Уже при Терроре она, будучи в Тулузе, получала сообщения о столичных новостях в записочках, упрятанных то в тесте, то среди утиных окорочков, в коробках с искусственными цветами, за шляпной подкладкой. Она перевела разговор на другое:
– А вы, Наполеон, ладите с вышестоящими?
– Они выше по чину, не более того.
– И как у вас идут дела?
– Да никак. Я могу стать кем угодно – китайцем, турком, готтентотом. Захочу отправиться в Турцию или Китай – что ж, значит, именно там мы с успехом потесним силы англичан.
Снаружи раздалась ружейная пальба. Но коль скоро она тут же затихла, сотрапезники молча принялись за свой завтрак, который, однако, был вскоре прерван: они услышали на лестнице чьи-то торопливые шаги. Кто-то опрометью взбежал на третий этаж и застучал в дверь.
– Открыть? – шепнула перепуганная бонна Мариэтта.
– Да, – обронила мадам Пермон.
– Те, кто опасен, не стучатся, – заметил Буонапарте. – Они открывают двери ударом ноги.
Мариэтта открыла, и перед ними предстал Жюно, покрасневший от бега, в развязавшемся галстуке:
– Бунт!
Дав мадам Пермон совет хорошенько забаррикадироваться в доме, Буонапарте надвинул шляпу на глаза, сунул под мышку трость и вместе с Жюно и аббатом поспешил на улицу. Им не потребовалось долго бродить, чтобы убедиться, что беспорядки начались. Кучка граждан, кипя гневом, обрушила свое возмущение на запертые ставни булочной. Беснующиеся женщины подбадривали криками оборванцев, лупивших по витрине железными прутьями. Подсаживая друг друга, они добрались до окон второго этажа, высадили ставни, вломились внутрь и вытащили на обозрение толпы человека, отчаянно дрыгающего ногами. «Это булочник!» – завопила одна из женщин. В воздух разом взметнулись сжатые кулаки и каскады брани, вой множества глоток требовал его головы:
– Ты припрятывал муку!
– Да нет же, я вам клянусь, что нет…
– А вот мы сейчас посмотрим!
– Лжец!
– Я ничего не мог, не от меня же зависит…
– Спекулянт! Мы из-за тебя голодаем!
Ставни на первом этаже в конце концов треснули под ударами, и в магазин хлынула орава граждан.
– Хоть бы они ничего не нашли, – пробормотал аббат.
– Вы не хотите, чтобы они поели? – спросил Жюно.
– Они же прирежут бедного малого, если найдут мешки с мукой.
– Если они найдут эти мешки, – сказал Буонапарте, – значит, булочник вор и заслужил такой жребий.
Аббат оглянулся на генерала, тот был бледен как полотно.
– Вам плохо, Наполеон?
– Мне? Нет, мне очень хорошо, это Франции плохо.
Буонапарте не выносил толп, которые невозможно обуздать, он презрительно именовал их чернью. В 1792 году он присутствовал при захвате Тюильри, это оставило у него ужасное воспоминание. Спекуляции недвижимостью в ту пору интересовали его куда больше, чем революция: он изыскивал дома, сдающиеся внаем, чтобы снимать их, а затем выгодно сдавать другим нанимателям. В трагический день 10 августа, когда народ взял приступом дворец, ему как зрителю событий посчастливилось занять прекрасное место: он гостил у Фоше, тот приходился родней его товарищу по военному училищу Бурьенну и торговал мебелью на площади Карусель. Происходящее взбесило Буонапарте: если бы ему поручили командовать охраной, этой сволочи никогда бы не прорваться! Он тогда ограничился тем, что спас гвардейца-швейцарца, которого толпа хотела растерзать. Ныне такая же толпа накинулась на булочника. Что он, генерал, мог тут поделать? Военный комитет не доверяет ему, его приятель Баррас за него не вступился, так что теперь он будет смотреть и пальцем не шевельнет. Секции предместий вооружаются – Жюно, по его словам, только что в Пале-Рояле слышал толки об этом. И хорошо, и пускай простонародье, вооружась, выступит против Конвента, пусть они грабят, жгут – Буонапарте останется в стороне. Булочника вытолкнули из окна в толпу голодных, и она обрушилась на него.
– Нам здесь делать нечего, – сказал Буонапарте.
Он взял Жюно за руку, и они быстро двинулись прочь, держась поближе к стенам домов.
– Эй-эй! – взвизгивал не поспевавший за ними аббат Арриги. – Подождите меня!
– Я сыт по горло, насмотрелся. Сцены подобного сорта будут разыгрываться в Париже все чаще и становиться все гаже. Ты был прав, Жюно: это бунт, он назревает.
Аббат догнал их:
– Вы куда?
– К мадам Пермон, – сказал Буонапарте. – Мы не доели вашу пулярку.
Слесарь Дюпертуа ворвался в парк Пале-Рояля во главе сотни рабочих и ремесленников, по большей части бывших якобинцев; на своих шляпах они мелом написали: «Хлеб!» или «Конституция 93-го!», как будто в их власти было воскресить Марата и Робеспьера. Багры, шилья, кухонные ножи, молотки – их рабочий инструмент заменял им оружие. Это вторжение напугало девиц, крутившихся под аркадами, и они разбежались по этажам. Рестораторы запирали свои ворота, лавочники впопыхах покрепче задраивали надежные деревянные ставни. Какой-то торговец домашней птицей малость замешкался – и тотчас почувствовал, как чьи-то руки, схватив за ворот, поднимают его в воздух и швыряют в витрину. Рабочие, орудуя палками, сметали со своего пути торчащие осколки битого стекла, чтобы добраться до кур, которые красовались на витрине, жирные, словно нотабли, меж тем как другие, вытащив из ярмарочного балаганчика пеликана, прикончили его ударами молотка и тотчас же ощипали. Начался полнейший кавардак. Буржуа удирали кто куда под сенью каштанов; девицы наблюдали за представлением, теснясь у всех окон и на каменных балконах домов, окружающих парк.
– Вон там! – закричал Дюпертуа.
Он указывал пальцем на «Кафе де Шартр», где за смехотворной баррикадой из опрокинутых столов и стульев сгрудились мюскадены.
– Видишь в ихнем стаде, правее, того блондинчика? – сказал Дюпертуа рослому трактирщику, вооруженному вертелом.
– Который весь тоненький, как иголка?
– Этот сопляк командовал господчиками, когда они ко мне заявились меня отдубасить.
– Ну, когда нас много, им слабо.
– Долой Конвент!
– Долой шиньоны и гребешки! – заорал Дюпертуа мюскаденам.
Предводительствуемые слесарем и его приятелем трактирщиком, мятежники гурьбой ринулись на приступ «Кафе де Шартр». Они расшвыривали столы и стулья, уложили нескольких молодых людей, не успевших улизнуть. Дюпертуа не спускал глаз с Сент-Обена. И вот он ринулся в атаку. Молодой человек отмахивался, вертя своей узловатой палкой, но слесарь ухватился за нее и, шарахнув об столб, сломал, будто хрупкую веточку. Сент-Обен подхватил стул и прикрылся им, как щитом, но слесарь с такой силой колотил по нему деревянной подошвой своего башмака, что молодой человек поневоле пятился. Дюссо подоспел к приятелю на подмогу с поднятой тростью, ударил Дюпертуа по спине, но тот обернулся:
– А тебе чего? Неймется?
– Ага! – отвечал Дюссо, гордо напыжась.
Великан взял его за грудки, притянул и врезал коленом в живот. Мюскаден скорчился в три погибели, выронил трость, зашатался, мешком рухнул наземь, и его, визжащего, как поросенок, тут же поволокли за волосы к фонтану. Сент-Обен, пользуясь передышкой, помчался наутек в надежде выбежать за пределы Пале-Рояля, но рабочие поймали его за фалды, когда он уже был на лестнице, и грубо потащили назад к «Кафе де Шартр», где в это время били стекла, швыряя в них стульями. На щуплых надушенных и разодетых вояк повсюду шла охота: их толкали на песок, на битые стекла, припирали к стволам деревьев; мятежники с громким смехом забавлялись тем, что трепали их прически, вырывали гребни из волос, ножами отчекрыживали прядки, потом сталкивали юнцов в фонтан. Сент-Обен избежал этого, но лишь затем, чтобы схлопотать от Дюпертуа кулаком в глаз; оглушенный, он пошатнулся и, получив подножку, плюхнулся на землю.
– Прекратить!
Патруль Национальной гвардии со штыками наперевес скакал в атаку по галерее Божоле. Дюпертуа подал знак к отступлению, проворчав над бесчувственным телом Сент-Обена:
– Еще увидимся, надо же прикончить этого недоноска.
– Я тебе свой вертел одолжу, – сказал трактирщик.
Они двинулись прочь легкой рысцой, смешавшись с толпой рабочих, которые улепетывали с добычей – ощипанным пеликаном, курами, связками колбас на шее, коровьей головой, насаженной на палку. Уцелевшие мюскадены, те, что сумели спрятаться, юркнув в кафе или в фойе находящегося по соседству театра Монтансье, снова появились под аркадами и пытались помогать раненым товарищам.
– Ну-ка, все отправляйтесь по домам! – приказал генерал, командующий отряда Национальной гвардии, присланного сюда Комитетом общественного спасения.
Сент-Обен кое-как встал на четвереньки. Левый глаз жгло, как в огне, он, словно в тумане, насилу различил гетры на ногах сержанта, который тянул его за руку, побуждая подняться:
– Эти разбойники вас знатно отделали, сударь…
– У меня кровь течет! – вскричал Сент-Обен, ощупывая свое лицо.
– Ну да, сударь, вы ж упали на груду осколков, а битое стекло, что с ним поделаешь, коли оно режется.
– Подайте платок! Воды!
– У вас есть ваш галстук. И фонтан.
– Ступайте к себе! – твердил посланец Комитета, глядя на покалеченных юнцов. – Возвращайтесь домой!
Мокрые, измочаленные мюскадены выползали на край бассейна, вставали и, прихрамывая, цепляясь за плечи друг друга, брели прочь. Сент-Обен оторвал от своего галстука клок муслина, смочил в воде и, кривясь от боли, приложил этот компресс к левому глазу.
Депутата Делормеля разбудил колокол. За окном еще стояла ночь. Который час? В потемках он на ощупь отыскал у изголовья на столике подсвечник и спичечный коробок, зажег свечу, сам надел домашние туфли и зашаркал к каминным часам. Они показывали пять утра. Должно быть, дело нешуточное. Он повернулся к своей кровати под балдахином, которой гордился, разглядел при свете свечи тело, съежившееся под шелковым покрывалом, тронул спящую за плечо, она заворчала, потянулась, он легонько потряс ее:
– Розали, Розали…
– Что случилось, сударь? – отозвался очень сонный голос.
– Кристина! Что ты здесь делаешь?
– Нынче вторник, сударь, я заменяю мадам, она сегодня спит наверху, у господина Сент-Обена.
– Вторник? Ах да! Какой я дурак…
Среди его служанок Кристина, маленькая брюнетка со вздернутым носиком и грудями кормилицы была самой молодой. Делормель стоял над ней, встревоженный, со свечкой в руке и спрашивал:
– Ты слышала набат?
– Колокола? Ах да, точно, сударь, слышала.
– Набат до рассвета, ты хоть соображаешь?
– Если не колокола гремят, так барабан. Привыкаешь, сударь.
– Подай мне домашний халат.
Кристина села, зевая, потом двинулась в темноту, протягивая руки перед собой, нащупала домашний халат и помогла хозяину облачиться.
– Пойду справлюсь что к чему, а ты ступай в свою комнату. Брысь!
– А нельзя ли мне доспать ночь здесь, сударь? Эта кровать мягче, и я все еще не совсем проснулась после ваших прыжков.
– М-м-м-м…
– И потом, что я здесь, ни для кого не секрет. Если и не мадам, и не я, здесь была бы Люси или Мари, или дама, которую вы бы привели с улицы.
– Ладно. Спи!
Служанка снова улеглась, а Делормель вышел со свечой в коридор. На пороге он натолкнулся на беспорядочную груду гончарных изделий: одна фарфоровая безделушка упала и раскололась о плиты облицовки у подножия большой лестницы.
– Кто там? – раздалось впотьмах. В голосе звучала угроза.
Человек, также одетый в ночную сорочку, направил на свечу дуэльный пистолет.
– Это всего лишь я, Николя.
– Простите, господин депутат.
– Ты прав, что сохраняешь бдительность. Что ж, я повышаю тебе жалованье.
Звон, доносившийся с колоколен, не умолкал.
– Приготовь мне основательный завтрак и во что одеться. День обещает быть трудным.
– Так мне зарядить ваши пистолеты?
– Да, Николя, да. Я сейчас поднимусь к господину Сент-Обену, потом отправлюсь в Тюильри. Распорядись также, чтобы запрягли мой кабриолет.
– Лимонно-желтый?
– Ну нет, другой – черный, поскромнее.
Дав указания дворецкому, он без промедления поднялся по лестнице, прошел по коридору и, задув свечу, вошел в апартаменты Сент-Обена. Гостиная была освещен тремя светильниками. Делормель знал, что застанет там свою жену, и он нашел ее с молодым человеком, но совсем не так, как предполагал.
– Что с ним стряслось?
Розали, на которой не было ничего, кроме украшений, склонясь над Сент-Обеном, промокала его глаз платком, смоченным в настое ромашки. Мюскаден, задрапированный в простыню, словно в тогу, застыл, вцепившись в подлокотники своего кресла.
– Ай! – простонал он, когда Розали коснулась раненого глаза.
– В Пале-Рояле разыгралось целое сражение, – объяснила она мужу. – Только посмотри, что эти свиньи-якобинцы сделали с нашим бедным другом!
– Вид и впрямь неважный, но ты, взявшись ухаживать за ним, могла бы все-таки хоть малость одеться.
– Здесь все свои, мой котик.
– И перестань называть меня «котиком» на людях.
– Так здесь же все свои…
– У-уй! – взвыл Сент-Обен.
Делормель поставил свой подсвечник с погашенной свечой на консоль зеленого мрамора – удачное приобретение, к слову будь сказано, – и вздохнул:
– Однако, Розали, можно подумать, будто мы в будуаре веселого дома…
– Но я пришла именно оттуда, и ты об этом знаешь.
– Ладно, оставим это. Набат в предрассветную пору вас не удивил?
– Нет, – буркнул Сент-Обен. – Якобинцы из предместий готовы обрушиться на Конвент.
– Я жду вас в столовой, присоединяйтесь.
– Вы собираетесь в Тюильри? – осведомилась Розали. – Да? В один прекрасный день вы таки своего добьетесь: вас убьют. А как же я? Что тогда со мной станется? Эгоисты!
– Санкюлоты! Они у порога!
Чрезвычайно всполошенный депутат (перо на его шляпе заметно тряслось) взывал так к своим коллегам, собравшимся на очередное заседание в длинной зале Конвента, где сейчас все кипело. Некоторые вскакивали с мест, устремлялись в дворцовые прихожие, где шумно толпились привратники и мюскадены, готовые оборонять это собрание, воспринимавшее их как род ополчения. Здесь Делормель столкнулся с Сент-Обеном, которого только что привез в своем кабриолете. Сам народный представитель прицепил на трехцветный пояс, что сдавливал его желудок, пару пистолетов, что до юноши, черная повязка на левом глазу придавала ему некоторое сходство с корсаром, на нем был красновато-бурый редингот, по части экстравагантности уступавший вчерашнему, ныне разодранному в клочья, и плоская широкополая шляпа; вместо трости он вооружился кучерским хлыстом. Делормель не стал задерживаться подле него, а вышел из дворца и вместе с другими депутатами направился к решетчатой ограде, недавно привезенной из Рамбуйе и теперь разделяющей надвое площадь Карусели. В центральной кордегардии – павильоне с куполом – несли стражу карабинеры, а рядом бдил нищенски оборванный драгунский полк.
Бунтовщики должны были появиться напротив, перед обшарпанным фасадом Лувра, где водостоки изрыгали мутную жижу; скульптур было зачастую не видно за кирпичными каминными трубами, хижинами, дощатыми домишками, что лепились к стенам. Еще со времен Генриха IV в галереях Лувра толпились художники, промышлявшие продажей своих творений, на террасах там и тут ютились курятники, на веревках, протянутых между окон с выбитыми стеклами, сушилось белье.
Пока никого было не видно.
Но вот Делормель уловил глухой отдаленный шум – топот тысяч сабо, колотящих по мостовой, нарастающий грозный гул голосов, чью ярость он ощутил прежде, чем смог разобрать хотя бы слово. Но вскоре он понял, что скандировали колонны, со всех концов напирающие на Тюильри: «Долой Конвент! Хлеба!» Вдруг депутат увидел, что в окошках Лувра и на улице Орти высыпало множество народу – первые ряды этой ожесточенной массы.
– Женщины…
На площадь Карусели хлынули тысячи женщин, простоволосых или в красных колпаках; в мгновение ока их толпа затопила все пространство, становясь с каждой минутой теснее, так как непрестанно подходили новые. Они грозили кулаками, испускали дикие вопли. Подступили к самой решетке, заводилы уже пытались забраться на нее. Они явились из предместий, мобилизуя по дороге женщин из всех кварталов, через которые шли, – были здесь жены лавочников, бросившие свои опустелые прилавки, пылкие натуры и обозленные неудачницы, хилые заморыши с пустым брюхом, матери с истощенными детьми, замарашки, машущие пиками и вилами. Ограда, вне всякого сомнения, вот-вот рухнет под этим натиском. Указывая на Делормеля и прочих ошарашенных депутатов, застывших посреди двора, одна из мегер крикнула:
– Вот они, мошенники, сволочи, из-за которых мы голодаем!
– Какие жирные! – подхватила другая.
Тут, приметив мюскаденов, которые рискнули появиться на верхних ступенях дворцового крыльца, первая фурия заорала снова:
– Долой молокососов Фрерона!
– Нынче вечером их красивые рубашечки станут нашими! – подбодрила своих товарок неистовая рыжая ведьма.
– А их головы будут славно смотреться на пиках!
Когда группа депутатов, высланных для наблюдения за происходящим, повернула вспять и двинулась к Тюильри, Делормель, шедший последним, на миг приостановился, поравнявшись с невозмутимыми драгунами. Он обратился к их капитану:
– Постарайтесь не допустить, чтобы эта толпа проникла за ограду.
– Там увидим, – обронил офицер.
– Что это ты собираешься увидеть?
– Нельзя палить куда попало, они же нас в порошок сотрут, эти несчастные. И потом, гражданин народный представитель, между нами будь сказано, они хотят есть.
– Увы! Я это понимаю…
– Понимать мало. Мы тоже голодны, мои люди и я, у нас второй день маковой росинки во рту не было.
– Я позабочусь об этом, капитан.
– Есть смысл поторопиться, гражданин.
Вслед за своими товарищами Делормель, весьма озабоченный, взошел на крыльцо. Он не доверял этим драгунам. Они выходцы из пригорода, в прошлом волонтеры то ли Рейнской армии, то ли войск, стоявших у Самбр-и-Мёз, они противостояли контрреволюционной европейской коалиции, их не было в Париже во время Террора, они его не пережили и считают теперь, что все это было необходимо, дабы задушить предателей, стремившихся отдать родину во власть чужеземцев и роялистов. Они любили Марата, они читали «Папашу Дюшена», газету этого мерзавца Эбера. Кому они будут повиноваться – Конвенту или черни? Народный представитель издали еще раз посмотрел на драгун: их сабли оставались в ножнах. Что, если они стакнутся с мятежниками?
Крики не умолкали, к ним присоединился грохот барабанов. Там, за толпой женщин, Делормель увидел ополченцев из народных секций, они, впрягшись в пушки вместо лошадей, тащили их за собой.
Едва перевалило за полдень, как решетчатая ограда рухнула. Тюильри тотчас заполонили женщины, рабочие, секционеры из предместий. И все они, впервые в жизни переступившие порог этого дворца, не тратя времени на любование позолотой, люстрами, коврами, которые безжалостно топтали, на бегу сбивались в плотные кучки и, пользуясь своей многочисленностью, проникали во все закоулки. Они горланили, толкались, угрожали, братались, смешивались с буржуа из парижских секций, с солдатами, которых они обступили кругом, и те потонули в их потоке. Вскоре уже было не отличить осажденных от осаждающих. Национальные гвардейцы из благополучных кварталов и из предместий носили одинаковую форму, более или менее придерживаясь устава: у синих егерей были зеленые эполеты, у пехотинцев красные подкладки. Неразбериха вышла полнейшая. Какой-то генерал, уже лишенный головного убора, скатившись кубарем с главной лестницы, исчез в этой массе. Верзила Дюпертуа, без которого вторжение не обошлось, дыша ему прямо в лицо, брякнул:
– Знатная у тебя сабля.
– Слишком острая, – поддержал дылда в красном колпаке. – Порезаться можешь.
В этом буйном водовороте мужчин и женщин Дюпертуа вытащил у генерала саблю, второй сдернул с него поясной ремень, третий стянул носовой платок, какой-то мальчишка стибрил бумажник, а злополучный воин, оглушенный, полузадохшийся, в такой давке не смог, бедняга, дать должный отпор – развернуться-то негде. Феро, депутат от Пиренеев, проносимый мимо этой толпой, сквозь которую насилу пробился, хотел ему помочь:
– Оставьте генерала Фокса в покое!
– Это что еще за кобель? – вопросил Дюпертуа в пространство.
– Феро! – заверещала табачная торговка, обычно предлагавшая свой товар в главном вестибюле дворца.
– Фрерон? – прорычал Дюпертуа. – Предводитель пудреных сопляков?
В силу такого недоразумения Дюпертуа вырвал у какого-то буржуа заряженный пистолет и выпустил пулю в горло Феро. Толпа, посторонившись, предоставила депутату свободное место, чтобы рухнуть к подножию мраморной лестницы. Сбежав по ступеням в окружении целого батальона своих приятелей-якобинцев, Дюпертуа склонился над трупом и, по-мясницки крякнув, перерубил краденой саблей его шею. Схватил голову за длинные волосы и поднял. Кровь потекла по его рукаву, и он покатился со смеху:
– Робеспьер, ты отомщен!
– Пику! Дайте ему пику!
Какая-то гарпия протянула ему свою, и Дюпертуа насадил на нее голову Феро, чтобы все видели. Раздались рукоплескания и крики ужаса, потом за слесарем потянулась импровизированная процессия, а он, потрясая своим отвратительным трофеем, как знаменем, заставлял толпу расступаться. Так он прошел через весь главный вестибюль. Оказавшись перед зеленой суконной портьерой, прикрывающей вход в залу заседаний, Дюпертуа обернулся:
– Долой Конвент!
– Долой! – подхватили мятежники.
Дюпертуа первым вошел в залу. Самые решительные последовали за ним. Депутаты ужаснулись при виде этой головы, насаженной на пику, – головы их коллеги, отвечавшего за снабжение Парижа продовольствием. Замерев у подножия трибуны, Делормель теребил рукоятки своих бесполезных пистолетов. Депутаты обнажили головы, и когда Дюпертуа продемонстрировал председательствующему Буасси д’Англасу голову убитого народного представителя, тот, сидя на своем возвышении, приветствовал ее кивком. Тут поток народа хлынул в залу, распевая «Марсельезу», которую депутаты, кто с перепугу, кто из сочувствия, хором подхватили. Дюпертуа удалился, как пришел, охраняемый женщинами и мужчинами из предместья Сент-Антуан, причем зычным голосом, несмотря на страшный шум разнесшимся далеко, гаркнул напоследок:
– Надо разогнать это сборище богатеев!
– Здесь нет никого, кроме граждан! – завопил низенький потный депутат, в этот момент оказавшийся на трибуне.
– У-y! Всех вон!
Дюпертуа со своей пикой и головой Феро скрылся из виду. Улюлюканье и крики «Вон!» теперь сменили гимн, но оратор стоял на своем, не унимался:








