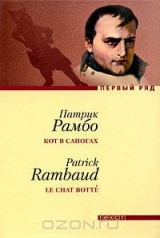
Текст книги "Кот в сапогах"
Автор книги: Патрик Рамбо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Могу себе представить, – тихонько обронила мадам Делормель.
– Ну, пришлось их нарядить в холщовые панталоны и моряцкие жилетки, и вот мы терпим кораблекрушение, нас выбрасывает на один из Мальдивских островов. Утром корабль на наших глазах идет ко дну. Так вот, мы там, на этом острове, провели целый месяц…
– Один с двумя женщинами? – уточнила мадам Делормель между двумя кусочками жареного пескаря.
– Один? Да, в конечном счете почти что так. Там еще было несколько уцелевших из экипажа.
– Ах, виконт, это совсем как в «Поле и Виргинии», – томно протянула одна из сотрапезниц.
– Вы так полагаете? Нам пришлось обороняться от аборигенов, пока нас не выручило судно из Шандернагора… Что там такое?
Подошел лакей, неся на серебряном подносе письмо.
– Какой-то посетитель, по виду вроде военного, сударь, просит принять его.
– Вроде военного?
– Маленького роста, неухоженный, в пыльных сапогах, и они к тому же скрипят.
Прочитав письмо, Баррас обернулся к сотрапезникам:
– Это первый случай, друзья мои, когда мне наносят визит, выслав вперед рекомендацию!
В ответ прозвучало несколько смешков в разном тоне – от чистосердечных до тех, что выдавливают из вежливости.
– Того, кто подписал это послание, я знаю. Это мой славный Пьеррюг, он отвечает за снабжение мясом Тулона. Помнишь его, Фрерон?
– Прекрасно помню.
– Он пишет из Ниццы, рекомендует мне одного генерала, с которым мы там встречались. Пригласите генерала! – бросил он лакею. И прибавил, обращаясь к гостям: – Он вас удивит.
Когда Буонапарте вошел в эту огромную столовую, выглядел он и впрямь престранно. Исхудавший, с торчащими, как палки, волосами, с желтыми шерстяными галунами на форменной куртке. Он походил на бедняка, которым отнюдь не являлся.
– Прибор и стул для генерала! – крикнул Баррас, хлопнув в ладоши.
– Иди сюда, садись с нами, – предложил Фре-рон.
Буонапарте расположился между ним и мадам Делормель, которую, похоже, не привела в восторг близость офицера, так нелепо одетого, – она подвинула свой стул поближе к Баррасу, между тем как вновь прибывший с омерзительным итальянским акцентом обратился к последнему:
– Ты меня помнишь, гражданин Баррас?
– Я не забыл осаду Тулона и тебя на аванпостах, ты следовал за мною повсюду…
– Мы тогда были проконсулами, – пояснил Фрерон для других сотрапезников.
– Ты был капитаном артиллерии, – сказал Баррас, – и еще хотел получить вспоможение для своей семьи…
– Она меня больше не обременяет, будь покоен. Изгнанные корсиканские патриоты получают достойное вспомоществование.
– Так вы корсиканец? – промямлил Делормель, которого от вина начинало клонить в сон.
– Ты на чем свет бранил начальство, – снова подал голос Баррас. – Да и наша миссия именно в том состояла, чтобы их тормошить: они были не способны усмирить взбунтовавшиеся прибрежные города…
– Я был прав, гражданин Баррас. Генерал Карте – всего-навсего пачкун, малюющий картины, он ничего не смыслил в военном деле, а его жена Катрин вмешивалась в вопросы стратегии. А генерал Допе? Не более чем адвокат, слишком быстро получивший назначение. Все, что я им предлагал, было отвергнуто…
– Итак, этот капитан представил мне свой план…
– Надо было захватить два редута, что господствуют над рейдом. Оттуда мы угрожали флоту противника, чтобы принудить его к бегству.
– Я поддержал этот проект, – сказал Баррас, – и через два дня мы вернули себе Тулон.
– Браво! – воскликнула одна из дам, и все зааплодировали. Баррас повернулся к Буонапарте:
– О чем ты хочешь просить меня на сей раз?
– В армии меня третируют.
– Надобно признать, – заметил Фрерон, – что у тебя репутация завзятого якобинца.
– Я был им в меньшей степени, чем ты! Стереть Марсель с лица земли хотел ты, а не я.
– Ветер переменился, и я вместе с ним, – сказал Фрерон.
– И потом, ты ведь сочинил весьма революционную брошюру, – напомнил Баррас. – И мне тогда вручил несколько экземпляров, причем уверял – как сейчас тебя вижу: «Марат и Робеспьер – вот мои святые!»
– Если бы ты повторил эту фразу сегодня, – вставил Фрерон, – на тебя бы набросились с дубиной.
– Что ж, сегодня я скажу: «Баррас и Фрерон – вот мои святые!»
Этот находчивый ответ всех очень рассмешил. Маленького корсиканца, выряженного таким чучелом, приняли в круг Барраса. Он это понял и этим воспользовался.
– Я хочу получить пост, достойный моих возможностей.
Тут метрдотели выставили на стол новые блюда:
– Филе из осетра на вертеле!
– Угорь под соусом тартар!
– Донца артишоков под острым соусом!
Канареечно-желтый кабриолет въехал в монументальные ворота особняка на улице Дё-Порт-Сен-Совёр. Чета Делормель возвращалась в свои апартаменты. Супруга щебетала, он же, отяжелев от неумеренного употребления вина, отвечал вялым, расслабленным голосом.
– Не понимаю, – говорила дама, – что находит виконт в этом маленьком нищем генерале. У него нет манер, разговаривает он мало, не ест, скучный, все придирается, да еще этот его акцент! Я могла разобрать разве что одно слово из трех.
– У Барраса свои резоны, – сказал Делормель.
– Может быть, но было весело только до тех пор, пока он не явился. Меня от него в дрожь бросает. У него злобный вид, разве нет?
– Если говорить о чертах, он и правда смахивает на Марата…
Кучер остановил лошадей во дворе напротив парадного крыльца. Делормель купил это здание, хотя и с малость облезлым фасадом, но выглядящее очень аристократично, раздобыв средства на такое приобретение благодаря крупной афере с мясом, предназначавшимся для армии. Революция благоприятствовала самым изворотливым ловкачам. Делормель всего за пару лет сколотил порядочное состояние. В прошлом сельский кровельщик, мастер по соломенным крышам, он в 1791 году воспользовался дешевой распродажей епископальных земель в Туке, получив в собственность девятнадцать гектаров, причем по соглашению, позволявшему не оплачивать всю их стоимость сразу. Занявшись снабжением армии, он в качестве фуража сбывал болотный тростник по цене овса. Потом ему удалось продать партию муки за двойную цену благодаря тому, что в Военном министерстве обнаружился какой-то его родич из Лизьё, даром что весьма дальний и сомнительный. Чтобы заключить сделку, позволяющую урвать хороший куш, ему было достаточно держаться с хвастливой уверенностью и иметь связи в почтенных местах. Когда же Делормель, подольстившись к местным якобинцам, был избран депутатом от Кальвадоса, он обосновался в Париже, в меблирашке, прикидываясь скромником, зато под боком у своих официальных клиентов.
Смерть Робеспьера его освободила: пропала надобность скрывать свое богатство. В Париже продавалось все – торговали совестью и телом, предметами и сведениями, храмами, люстрами, стенными часами, шкафами, товары демонстрировались прямо на мостовой и даже на обочинах сточных канав. Вот почему лакей, прибежавший открыть дверь достойной чете, был облачен в герцогскую ливрею – она пришлась Делормелю по вкусу, попав ему на глаза в день, когда он покупал партию спиртного из подвалов герцога Мазарини.
– Господа ожидают вас уже более часа.
– Проклятье! Совсем забыл – это же наш милейший Тальен! Он явился не один, не так ли?
– Тут еще живописец со всем необходимым для работы.
– Ну да, ну да…
– Поспешите, друг мой, – сказала мадам Делормель.
– Мне – спешить? Если они меня дожидались до сей поры, значит, я им нужнее, чем они мне. Я имею большой вес, Розали.
Весил он и впрямь изрядно, не только в фигуральном смысле, но и буквально. Ставя на ступеньку свою толстую ногу в лакированном башмаке, он вздохнул:
– Боюсь, Розали, что я малость переел.
– И перепил.
– Похоже на то…
Лакей помог ему подняться на собственное крыльцо и войти в просторный вестибюль первого этажа, смахивающий на магазин. На комодах штабелями громоздились головы сахара, рядом высилась стена из бочек, лежали стопки картонных коробок, из которых торчали какие-то кружева. Тальен и художник Бойи, взлохмаченный, но затянутый в узкий серый редингот, терпеливо ждали приема. Первый сидел на двухколесной тележке с черносливом, второй разглядывал турецкую трубку жасминового дерева, которую взял из коробки с ей подобными.
– Я опоздал или это вы явились прежде времени? – не без развязности обратился к ним Делормель. – Что вы хотите! За столом у Барраса невозможно перекусить за десять минут!
– К вашим услугам, – художник отвесил поклон.
А Тальен промолвил:
– Хочу предложить вам славное дельце, Жан-Матье.
– Отлично. Пройдемте в гостиную, нам будет удобнее потолковать там.
Впрочем, гостиная первого этажа, как выяснилось, была загромождена не меньше вестибюля. Под потолком, расписанным амурами и голубками, между четырех шкафов, поставленных спина к спине, были втиснуты с полсотни зеркал. Золоченые консоли и порфировые вазы, наваленные в беспорядке, скрывали камин. Делормель плюхнулся в кресло, обитое гобеленом, и, в то время как лакей надевал на него домашние туфли, стал объяснять художнику, чего именно он от него хочет:
– Видите на стене эти портреты?
– Разумеется, сударь. Похоже, фамильные.
– Так и есть.
– Вон тот рыцарь с орлиным взором – один из ваших предков?
– Увы, нет. Эти портреты я прикупил у торговцев с набережной, однако хочу, чтобы вы присоединили к ним мое собственное изображение, причем в такой же примерно позе.
– Так получится правдоподобнее, – с усмешкой обронил Тальен.
– Мне того и надо.
– Легче легкого, – заверил живописец. – У вас интересная физиономия.
– Сколько времени это займет?
– Два часа позирования.
– И будет сходство?
– О, вы скажете: «Это не портрет, это зеркало!»
– В добрый час! Сколько?
– Шестьдесят ливров.
– Пустячок!
– В звонкой монете.
– Само собой, ассигнаты уже стали дешевле бумаги, на которой их печатают.
– И когда я смогу приступить?
– Незамедлительно.
Художник приготовил холст и краски, показал своей модели, каким образом надлежит сесть, чтобы оказаться лицом к свету, льющемуся из огромных окон, распахнутых в сад. Таким образом, Делормель, спрашивая Тальена, какого рода дело привело его сюда, уже старался не шевельнуться.
– Целая гора мыла.
– Хе-хе!
– Торговец прохладительными напитками, который промышляет и мылом, требует за него весьма разумную сумму, но…
– Но надо оплатить вперед.
– Вы угадали.
– Кому же мы его перепродадим, это мыло?
– Покупатель у меня уже есть. В Рейнской армии. Он согласен заплатить вчетверо против нашего вложения.
– Недурно!
Их успели оценить в компании Уан, что на левом берегу Сены, занимающейся военными поставками, в том числе продовольственными. Тальен уже стал признанным специалистом по мылу и хлопковым колпакам.
По-прежнему сидя без движения, Делормель приметил в глубине комнаты свою супругу. Дама зевала.
– Господин живописец, вы придете сюда еще раз, чтобы написать портрет мадам Делормель. Я бы хотел, чтобы она была представлена в образе нимфы.
– Нимфы, да-да, это напрашивается, – подобострастно подхватил мазила. – И на фоне сельского пейзажа.
– Мой сад подойдет?
– Вполне.
– Я завтра прикуплю статуй или разбитых колонн, чтобы подчеркнуть античный колорит картины.
– Великолепно!
– А эта композиция, она будет, как и мой портрет?
– Виноват, не понял.
– Те же шестьдесят ливров?
– Сто.
– Настолько дороже, чем запечатлеть меня?
– Это неизбежно, ведь фон придется выписывать тщательнее.
– Пойду отдохну, – со вздохом обронила мадам Делормель, которой наскучила эта торговля.
– Ну да, – буркнул супруг, храня позу. – Тогда ты будешь лучше выглядеть на сегодняшнем вечернем балу в Ганноверском павильоне.
Мадам Делормель выскользнула на широкую лестницу. Она была далеко не так утомлена, как старалась показать; когда взбегала по лестнице, ее поступь с каждым шагом становилась все легче. Чтобы идти быстрее, она задрала свою воздушную тунику до колен, так что стали видны три серебряных браслета на левой щиколотке и сандалии, ремни которых изображали змей. В коридор третьего этажа она уже почти вбежала, постучала раскрытой ладонью в одну из украшенных барельефами дверей, которые Делормель прихватил при разграблении какого-то дворца, и отворила ее ранее, чем кто-либо откликнулся.
– Розали, где ты забыла своего жирного супруга? – спросил Сент-Обен, в то время как его друг Дюссо помогал ему повязать замысловатый галстук.
– Он торгуется с Тальеном насчет мыла и даже не может пошевелиться – позирует художнику. Время у нас есть.
– У тебя – да, – сказал Сент-Обен, обхватывая ее обеими руками за талию, – но не у нас.
– Так ты сегодня вечером не придешь в Ганноверский павильон?
– Никак невозможно! В «Амбигю-Комик» дают спектакль, высмеивающий нас. Мы должны там быть, чтобы его сорвать.
– Раздавая тумаки, ты можешь и схлопотать их.
– Нас много.
– Мой дорогой Сент-Обен, – сказал Дюссо, являя пример деликатности, – я подожду вас в карете.
– Я скоро…
Делормель предложил молодому человеку, с которым он свел знакомство в день ареста Робеспьера, комнату в своем особняке. Движимый чем-то вроде отеческой приязни, он выхлопотал ему и должность: красивого почерка оказалось достаточно, чтобы его приняли на службу в Комиссию по планам военных кампаний. Сент-Обен туда и носа не казал, не считая дней выплаты жалованья. Что до Розали, Делормель нашел ее – можно даже сказать, «приобрел», – листая «Брачный указатель», газету, выходившую по вторникам и пятницам, по которой выбираешь себе спутника жизни по объявлениям, наудачу, как в лотерее.
Первого же визита Розали оказалось достаточно: Делормелю захотелось покрасоваться об руку с очаровательной супругой; итак, он выводил ее в свет, а на прочее плевал. Может быть, его даже устраивала связь жены с Сент-Обеном, которую она поддерживала, не таясь, ведь она выглядела такой веселой между двух мужчин, которых любила на разный манер: одного ради наслаждения, другого из-за денег.
Перед колоннадой у входа в «Амбигю-Комик» было не протолкнуться от множества шикарных карет и лошадей. Станислас Фрерон, мгновенно узнаваемый по своему белокурому парику, женственной повадке и бледно-голубому костюму, полы которого хлопали его по икрам, шел, пробивая себе дорогу среди густой толпы буржуа и простолюдинов, столпившихся на крыльце и у кассовых окошек. Его сопровождали молодая женщина с волосами, зачесанными наверх и скрученными узлом, скорее раздетая, чем одетая, наподобие Дианы-охотницы – в короткой прозрачной тунике, – и маленький сухощавый человек без возраста, но, пожалуй, молодой, чей угрюмый вид, плохонький редингот и трость, которую он держал, словно шпагу, побуждали других зрителей сторониться. Стало быть, Фрерон пригласил генерала Буонапарте и потаскушку на «Безумие дня» – комедию, о которой в Париже было много разговоров, хотя никто ее еще не видел. В фойе, где они условились встретиться, мюскадены замахали своими утяжеленными тростями, радостно приветствуя Фрерона, а когда он повлек своих гостей на лестницу, ведущую к ложам, затянули «Пробуждение народа», нечто вроде «Антимарсельезы» на музыку Гаво:
Всем виновным в злодействах отныне – война!
Им живыми от нас никогда не уйти!
Им придется за все расплатиться сполна —
Их настигни, о, друг мой, и всем отомсти!
Буонапарте вошел в ложу вслед за Фрероном и его подружкой. Трехъярусную люстру только готовились зажечь и поднять на цепях к потолку, но свечи рампы уже горели, как и канделябры на авансцене. Зала наполнялась публикой: буржуа и кое-кто из мюскаденов – в ложах, народ в партере, и все это кудахчет, обменивается приветствиями, да уже и перебранки затевает.
– Я предчувствую сильную качку, – сказал Фрерон, садясь.
– Сильную что? – переспросила девица.
– Драку, – лаконично пояснил Буонапарте, испытующим взглядом обшаривая залу.
– Посмотрите на них, они все пришли сюда, чтобы помахать кулаками…
Девушка, опершись на обитый бархатом бортик ложи, вытянула шею, чтобы лучше видеть группу мюскаденов, занявшую центр залы. Тут подняли занавес, и стало относительно тихо. На сцене карикатурный мюскаден с мучнисто набеленным лицом, в гигантской шляпе, похожих на лупы очках, сползающих на кончик носа, и галстуке, топорщащемся на уровне губ, задекламировал, гундося:
– Я, когда вихозю из Пале-Рояля, полозительно делаюсь больным, уверяю вас!
– Тебя призывает Вандея! – возгласил в ответ фанфарон в костюме жандарма.
– Вандея? Какой ужас! А где это?
– Пусть эти шуты и отправляются в Вандею! – выкрикнул зритель из партера.
– В Вандею! В Вандею! – завыли его соседи.
Стул, брошенный откуда-то с балкона, оглоушил двух крикунов, и его падение стало сигналом к атаке. Полетели новые стулья, в воздухе замелькали шляпы, трости, башмаки, буржуа в своих ложах присели на корточки, прячась от метательных снарядов. Шайка мюскаденов заметалась по рядам, щедро раздавая кому ни попадя палочные удары. Сент-Обен первым вскарабкался на сцену, за ним последовала еще дюжина его приятелей. Он вырвал текст пьесы из рук суфлера, разорвал его, потоптал, а несколько разрозненных страниц швырнул в зал, не переставая орать:
– В Вандею кривляк!
– Долой привилегированных! Снова спасу от них нет!
Сент-Обен загорланил «Пробуждение народа», хор его сторонников подхватил, простолюдины в ответ звучно грянули «Марсельезу».
– Станислас, – шепнула девушка на ухо Фрерону, – этот молодой человек мне любопытен.
– Сент-Обен? Я его вам представлю, моя красавица.
– После спектакля?
– Если ему не наставят слишком много шишек.
– А может быть, вы пригласите его завтра к виконту? Я там буду.
– Если он захочет, приглашу.
– А вы, генерал, будете у Барраса? О, да он исчез.
Фрерон, в свою очередь обернувшись, заметил:
– Должно быть, баталии этого рода не представляют интереса для артиллериста.
Буонапарте ушел, как только появился полицейский комиссар секции Тампль со своей перевязью и пригрозил очистить залу. Представление все равно не могло продолжиться, его заменили брань, пение и палочные удары.
Ни малейшей приязни к французам Буонапарте не испытывал, а Париж просто ненавидел. Если посмотреть издали, столица со своим скоплением куполов и башен напоминала ему ощерившуюся пасть, увиденная вблизи, просто пугала. Проехав таможенную заставу, где теперь уже не требовали ввозную пошлину, вы увязали в черной липкой грязи, под ногами хлюпала зловонная смесь, тысяча ручейков – сточные канавки под открытым небом, жирные помои кухонь, – приходится брести по всему этому мимо межевых столбов из песчаника, за которые прячешься, отскакивая прыжком, когда на тебя вдруг несется стремительный фиакр, а о тротуаре и мечтать не приходится, его нет нигде, кроме как на улице Одеон. Улочки пролегали по причудливому следу былых тропинок, которые петляли, чтобы обогнуть дерево или поле, они были тесны и сужались еще больше в силу маниакальной склонности лавочников выставлять столики со своим товаром наружу для пущей наглядности. Дома обклеены объявлениями так, что стен не видно, повсюду фонтаны без воды и деревья Свободы, которые, не вынеся зимней стужи, торчали мертво, словно метлы. Следовало остерегаться бездомных собак, рыщущих стаями, тощих, грязных животных с глазами хищников. И негде спрятаться, приютиться. Тишины не найдешь нигде. Париж пропах мочой, черным мылом и грязью. Скобяная набережная воняет селедкой. В домах, на лестничных площадках, в коридорах – продолжение улицы, уединение существует лишь для богатых, прочие обречены терпеть чужие взгляды, шум, крики кучеров и торговцев, перебранки, скрип мельничных колес у Торгового моста, песни, этот затхлый дух, который так застаивается в домах, что, бывало, месяца три пройдет, прежде чем догадаются: гражданин Мик, продавец говяжьих голов, давно умер в своей каморке один-одинешенек; чтобы другие жильцы забеспокоились, его труп должен был прогнить вконец и привлечь множество тараканов…
В этой поганой дыре Наполеона душила ярость, он проклинал город с его оглушающей суетой, от которой честолюбцу не уйти. Что тут можно поделать? Куда денешься? Кто станет слушать такого хилого, скверно одетого брюзгу, злобного, как клещ, хотя, впрочем, если надо, и обольстительного, когда он поглядывает голубыми глазами на дам? Но в ту ночь, выйдя из театра, он устремил этот свой завораживающий взгляд на картину совсем иного рода.
Несчастные выстроились в длинную очередь у входа в еще закрытую булочную, чтобы через несколько часов быть первыми, когда станут выдавать их жалкую порцию черного вязкого хлеба. Буонапарте прикинул, сколько их, – пожалуй, около тысячи. Впрочем, они стояли в таких же очередях за маслом, свечами, углем – молчаливые, помятые, серые. Это были рабочие без работы, женщины без надежды, разорившиеся рантье, уже распродавшие свою посуду и мебель, служащие, потерявшие свои места в конторе или на фабрике. Только что одна из гражданок, не имея чем накормить своего ребенка, привязала его к себе и бросилась в реку. Таких, что ни день, находили в Сене, а то и просто на перекрестках, где они умирали от истощения. С тех пор как Робеспьеру пришел конец, у них больше не стало хозяина. Большинство якобинских вождей были выведены из игры. Каррье гильотинирован, Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа сосланы в Гвиану, Фуше вынужден скрываться из-за массовых убийств, которые он учинил в Лионе. Народ предпочитает побежденных, сказал себе Буонапарте, пусть даже дикарей, этим продажным правителям, по чьей вине он голодает.
Картофель за два месяца подорожал втрое, а цена на мясо выросла аж в семнадцать раз. Деньги существовали скорее условно: бумажные ассигнаты, которые Конвент печатал почем зря, годились разве что на подтирку, и если в марте луидор стоил двести пятьдесят франков, то ныне – уже тысячу. Зима выдалась суровая, Сена замерзла, дров и угля не хватало. Нужду испытывали буквально все, не считая окружения Барраса. Между тем в Париже скопилось много зерна, оно до отказа наполняло склады, бдительно охраняемые, но плохо проветриваемые: поскольку его туда засыпали отсыревшим в дождливую пору, оно сперва прорастало, затем начинало гнить. Ответственность за рост цен несло продовольственное ведомство: муку, которая очень дорого продавалась в Париже, везли затем в провинцию, чтобы сбывать там еще дороже. Это было известно. Это обсуждалось. Это рождало гнев. Граждане толковали о том, что ничего невозможно достать, о плутовстве спекулянтов и алчности торговцев, о неслыханных притязаниях земледельцев, требующих, чтобы им платили золотом.
Буонапарте подходил к этим группам, толпящимся посреди улицы перед опустошенными магазинами. Голоса звучали все резче, раздражение нарастало:
– Куда девается все это зерно, которое свозят в Париж? Что они там, правительство, с ним делают?
– Хранят на складах, чтобы кормить войско.
– Скажешь тоже!
– Надо с ними посчитаться, с этими негодяями!
– Слишком долго они нас дурачили!
– Уже год как хлеба не видим!
В глубоком раздумье подходя к своему дому, Буонапарте увидел женщину: стоя на четвереньках, она пыталась вырвать кость из пасти желтой собаки.








