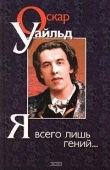Текст книги "Истина масок или Упадок лжи"
Автор книги: Оскар Уайлд
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
В самом деле, какую пользу может еще принести сцене археология, так напугавшая критиков, кроме той, что она может указать архитектуру и одежду, соответствующую эпохе, когда происходит действие пьесы? Она позволяет нам видеть грека, одетого греком, и итальянца в итальянской одежде, доставляет наслаждение от созерцания венецианских аркад и веронских балконов; а если действие пьесы изображает одну из великих эпох отечественной истории, мы имеем возможность видеть век в его собственном наряде и короля в его обстановке. Я бы хотел знать, что сказал бы лорд Литтон, если бы несколько времени тому назад он увидел в «Princess-Theatre»[148]на представлении «Брута», пьесы его отца, как поднимается занавес и Брут сидит, развалившись в кресле времен королевы Анны, в завитом парике и в халате с пестрыми цветочками, ибо именно этот костюм считался в прошлом столетии особенно подходящим для древнего римлянина! Ведь в те безмятежные дни драмы археология не озабочивала деятелей сцены и не смущала критиков, а наши антихудожественные предки мирно сидели в душной атмосфере анахронизмов и со спокойным благодушием своего прозаического века смотрели на Иохимо в пудре и мушках, Лира с кружевными рукавами и леди Макбет в широком кринолине. Я понимаю нападки на археологию за ее чрезмерный реализм, но нападки на ее педантичность, по-моему, не попадают в цель. Впрочем, неразумно вообще нападать на нее по какому бы то ни было поводу; это все равно что неуважительно говорить об экваторе. Ведь археология, как наука, не может быть ни хорошей ни дурной; она просто существующий факт. Ценность ее зависит вполне от того, как ею пользуются, и только художник может пользоваться ею. Мы берем у археолога материал, а у художника – метод.
Задумывая декорации и костюмы для пьес Шекспира, художник первым долгом должен установить точную дату для времени действия драмы. Эта дата скорее определяется общим духом пьесы, чем находящимися в ней историческими указаниями. Большинство виденных мною «Гамлетов» было отнесено к слишком ранней эпохе. Гамлет – типичный сын века возрождения наук, и если намек на недавнее нашествие датчан на Англию относит пьесу к девятому столетию, то употребление рапир отводит «Гамлета» к более позднему времени. Раз эпоха уже точно установлена, археолог должен поставлять факты, которые художник превращает в эффекты.
Говорили, что анахронизмы в пьесах Шекспира указывают на индифферентность автора к исторической точности, и большое значение придавалось анахронически дерзкой цитате Гектора из Аристотеля. Однако анахронизмы эти очень немногочисленны и, не имея особенного значения, наверное, были бы исправлены Шекспиром, если бы на них обратил его внимание какой-нибудь сотрудник-художник. Ведь если их нельзя считать недостатками, то они, конечно, не придают особенной красоты произведениям, а если бы эти анахронизмы и украшали пьесу, то все же их прелесть может быть подчеркнута только благодаря точной постановке в духе ее эпохи. Однако, в общем, пьесы Шекспира отличаются своей необычайной правдивостью в отношении к действующим лицам и к их интриге. Многие из его персонажей действительно существовали, а некоторых из них иные зрители могли даже встретить в жизни. Действительно, Шекспир в свое время даже подвергся ожесточенным нападкам за предполагаемую карикатуру на лорда Кобгэма[149]. Сюжеты свои Шекспир заимствует или из подлинной истории, или из старинных баллад и сказаний, которые служили публике Елизаветинской эпохи вместо истории и которые и до сих пор не отрицаются научными историками, не считающими их за полнейший вымысел. И часто не вымысел, а именно факт являлся у него основой многих фантастических произведений; всегда он придавал каждой пьесе общий характер, социальную атмосферу соответствующего века.
Он признаёт глупость одной из неизменных черт, свойственных всей европейской цивилизации; поэтому он не находит разницы между современной ему лондонской чернью и римским народом языческой поры, между глупым мессинским часовым и столь же глупым мировым судьей в Виндзоре. Однако, когда он занимается благородными характерами, исключениями, имеющимися в каждой эпохе и настолько прекрасными, что они возводятся в типы своего времени, он придает им все признаки и отпечаток их века. Его Виргилия – это одна из тех римских жен, на гробницах которых было начертано: «Domi mansit, lanam fecit»[150], его Джульетта – это романтическая девушка эпохи Возрождения. Он даже вполне точно передает все характерные черты расы. Гамлет обладает сильным воображением и нерешительностью, присущей северным народам, а принцесса Катерина такая же типичная француженка, как героиня комедии «Разведемся». Генрих V – чистокровный англичанин, и Отелло – чистокровный мавр.
Точно так же, когда Шекспир занимается историей Англии XIV–XVI столетий, он весьма внимательно следит за достоверностью фактов – и в самом деле с удивительной точностью пользуется Холиншедом. Непрерывные войны между Францией и Англией он описал с необычайными подробностями, вплоть до названий осажденных городов, портов для причаливания и отплытия кораблей, мест битв, вплоть до хронологических указаний, титулов командиров той и другой стороны и даже списков убитых и раненых. В описании междоусобных войн Алой и Белой розы мы находим подробно разработанную генеалогию семи сыновей Эдуарда III; права на престол соперничавших домов Йорка и Ланкастера разобраны так же подробно. Если английская аристократия не хочет читать Шекспира как поэта, она, без сомнения, должна читать его как гербовник своих родов. Почти нет ни одного титула среди членов верхней палаты, за исключением некоторых незначительных титулов, приобретенных лордами из судейского сословия, который бы не встретился у Шекспира вместе со многими, как почетными, так и позорными, деталями из фамильной хроники. Если школьникам действительно нужно знать все подробности относительно войн Алой и Белой розы, они могли бы учить свои уроки по Шекспиру, конечно, гораздо с большим удовольствием, чем по грошовым учебникам. Даже в эпоху Шекспира уже была признана полезность его пьес в этом отношении. «По историческим пьесам могут изучать историю те, кто не может читать ее в летописях», – говорит Хейвуд в своем трактате о сцене, хотя, по-моему, летописи XVI века все же были гораздо интереснее для чтения, чем учебники XIX столетия.
Конечно, эстетическая ценность пьес Шекспира вовсе не зависит от фактов, но от их истины, истина же никогда не подчиняется фактам, но выбирает их или изобретает по своему желанию. И все-таки шекспировские способы пользования фактами составляют наиболее интересную часть его творческих приемов и открывают нам его отношение к сцене и к великому искусству иллюзии. Вероятно, Шекспир был бы очень поражен, прочитавши у лорда Литтона, что его пьесы ставятся на одну доску с волшебными сказками и с феериями, ведь одной из его задач было создать в Англии национальную, историческую драму, которая построена на событиях, хорошо знакомых публике, – такую драму, герои которой еще жили в памяти народа. Едва ли нужно говорить, что патриотизм не является непременной принадлежностью искусства; но он служит художнику для замены индивидуального чувства универсальным, а публике – для выявления произведения искусства в самой привлекательной и популярной форме. Надо заметить, что как первая, так и последняя пьеса Шекспира, пользовавшиеся наибольшим успехом, были исторические драмы.
Можно задать вопрос, какую же связь имеет это со взглядами Шекспира на костюм. Я отвечу, что драматург, придававший столь большое значение исторической точности фактов, без сомнения, приветствовал бы историческую точность в костюме как наиболее важное дополнение к своему иллюзионистскому методу. И я, не колеблясь, могу сказать, что это так и было. Упоминание о шлемах той поры в прологе к «Генриху V» может быть принято за вымысел, хотя Шекспир, должно быть, часто видел
Тот самый шлем,
Что воздух омрачал при Азинкуре,
потому что он висит и доселе в тусклом мраке Вестминстерского аббатства, вместе с седлом этого «отпрыска славы» и погнутым щитом с распоротой голубой подкладкой из бархата и потускневшими золотыми лилиями; но употребление боевой одежды поверх лат в «Генрихе VI» уже относится к области чистой археологии, так как в XVI веке ее уже никто не носил; а собственная боевая одежда короля висела над его гробницей, в часовне Св. Георгия, еще во времена Шекспира. Ведь вплоть до злосчастного торжества филистеров в 1645 году[151]часовни и соборы Англии были огромными национальными археологическими музеями, и в них хранились доспехи и наряды героев отечественной истории. Правда, огромное количество древностей хранилось и в Тауэре, и даже в Елизаветинскую эпоху туда направлялись туристы и осматривали любопытные реликвии прошлого, как, например, огромное копье Чарльза Брандона[152], которое все еще, вероятно, вызывает восхищение у провинциальных посетителей; но все же церкви и соборы являлись наиболее частыми хранилищами для коллекций исторических древностей. В Кентербери до сих пор еще показывают шлем Черного Принца, в Вестминстере – одеяния английских королей, а в старом соборе Св. Павла знамя, развевавшееся при Босуорте, было повешено самим Ричмондом.
И действительно, Шекспир повсюду в Лондоне, куда бы он ни посмотрел, мог видеть одежды и всякие принадлежности былых времен, и не может быть сомнения, что он при удобном случае пользовался ими. Например, употребление копья и щита в военных стычках, так часто встречающееся в его пьесах, заимствовано из археологии, а не из военной обмундировки его времени. Далее, его постоянное пользование латами в сражении не было отличительным для его века, так как латы, вследствие появления огнестрельного оружия, уже почти вышли из употребления. Точно так же Шекспир в «Генрихе VI» много говорит о нашлемнике Ворвика; этот нашлемник вполне соответствует исторической действительности для XV столетия, когда постоянно носили нашлемники, но он был бы совсем неуместен в пьесе шекспировской эпохи, когда место нашлемников заняли султаны и перья – мода, которая, по словам Шекспира в «Генрихе VIII», была заимствована из Франции. Для постановки исторических пьес, безусловно, пользовались услугами археологии, но я думаю, что то же самое можно сказать и о других драмах. Появление Юпитера на своем орле, со стрелою молнии в руке, Юноны со своими павлинами, Ириды с разноцветной радугой, маскарад амазонок и маскарад пяти героев – все это можно считать основанным на археологии; и призрак Сицилия Леоната, являющийся Постумио в темнице, – «старец, одетый воином, ведущий за руку древнюю матрону», – должен быть отнесен туда же. Об «афинской одежде», благодаря которой Лизандр отличается от Оберона, я уже говорил выше; но одним из наиболее красноречивых примеров может служить костюм Кориолана, для которого Шекспир прямо следует указаниям Плутарха. Этот историк в своем «Жизнеописании» знаменитого римлянина рассказывает о венке из дубовых листьев, который возложили на главу Гая Марция[153], и о любопытном одеянии, в котором он, следуя древнему обычаю, просил своих избирателей баллотировать за него; разбирая эти два факта, Плутарх производит обширные исследования, желая раскрыть происхождение и смысл этих древних традиций. Шекспир, в духе истинного художника, принимает факты археолога и обращает их в драматические и красочные эффекты; действительно, одежда смирения, власяница, как зовет ее Шекспир, является центром пьесы. Я мог бы указать и другие примеры, но для моей цели достаточно и этого; таким образом, очевидно, что, ставя пьесу в точных костюмах эпохи, мы исполняем личное желание Шекспира и следуем его собственному методу.
Но даже если бы это было не так, все-таки нет основания, чтобы мы продолжали придерживаться тех недочетов, которые могли иметь место на шекспировской сцене, как нет основания, чтобы роль Джульетты исполнял юноша или чтобы мы отказались от удобств, предоставляемых переменой декораций. Великое произведение драматического искусства должно явиться не только средством для выражения современных страстей в лице актеров, но оно должно быть представлено перед нами в самой удобной для современного духа форме. Расин ставил свои пьесы из римской жизни в костюмах эпохи Людовика XIV, на сцене, заполненной зрителями; но мы требуем совершенно других условий для наслаждения его искусством. Нам, безусловно, необходима полная точность деталей для достижения полной иллюзии. Мы лишь должны следить за тем, чтобы детали не играли первенствующей роли; они должны быть всегда подчинены главному мотиву пьесы. Однако подчинение в искусстве не должно вызывать пренебрежения к правде; оно лишь превращает факты в эффекты и придает каждой детали соответствующую ей относительную ценность.
«Мелкие подробности истории и домашнего быта, – говорит Гюго, – должны тщательно изучаться и воспроизводиться поэтом, но лишь для того, чтобы достигнуть сходства с действительностью в общем плане и проникнуть во все самые темные уголки жизни, среди которой действующие лица более правдоподобны и катастрофы, следовательно, более сильны. Все должно подчиняться этой цели. Человек – на первом плане, все остальное – на втором».
Этот отрывок интересен, так как он исходит от первого великого французского драматурга, применившего археологию к сцене; однако его пьесы, хотя они совершенно точны в деталях, все же славятся своей страстной силой, а не педантизмом, своей жизненностью, а не ученостью. Это правда, что Гюго делает уступки, когда он употребляет необыденные или причудливые выражения. Рюи Блаз называет Приэго: «sujet du roi», вместо «noble du roi»[154], а Анджело Малипьери говорит о «la croix rouge», вместо «la croix de gueules»[155]. Однако все это уступки, сделанные для публики или, точнее, для части ее. «J’en offre ici toutes mes excuses aux spectateurs inteiligents, – говорит Гюго в примечании к одной своей пьесе, – éspérons qu’un jour un seigneur vénitien pourra dire tout bonnement sans péril son blason sur le théâtre. C’est un progrès qui viendra»[156]. И хотя описание герба не было изложено со всей точностью, однако сам герб изображен вполне верно. На это можно заявить, что публика не обращает внимания на такие мелочи, зато, с другой стороны, надо напомнить, что искусство не стремится ни к какой иной цели, кроме собственного совершенства, и всегда оно действует, следуя своим собственным законам; так, пьеса, явившаяся непонятной для толпы, как говорит о ней Гамлет, вызывала у него самые высокие похвалы. Кроме того, английская публика уже все-таки стала изменяться; теперь уже гораздо глубже умеют оценить красоту, чем в былые годы; хотя публика и не знакома с авторитетами и археологическими основами зрелища, все же она очаровывается красотой спектакля. И это – самое важное.
Лучше наслаждаться розой, чем исследовать ее корни под микроскопом. Археологическая точность является лишь условием, а не сущностью сценического иллюзионного эффекта. Предложение лорда Литтона, чтобы костюмы были красивы, но не исторически верны, просто основано на непонимании свойства костюма и его ценности для сцены. Эта ценность двоякая: красочная и драматическая; первая зависит от цвета костюма, вторая – от его рисунка и характера. Однако эти условия так связаны одно с другим, что когда теперь, пренебрегая исторической точностью, берут для пьесы различные костюмы из разных эпох, то сцена обращается в хаос из костюмов, в карикатуру на все века, в фантастически костюмированный бал, приводящий к полному разрушению всех драматических и красочных эффектов. Ведь одеяния одной эпохи не составляют художественной гармонии с одеяниями другой эпохи; в смысле драматической ценности смена костюмов вносит беспорядок во всю пьесу. Костюм – это рост, эволюция и весьма важный, может быть, даже наиболее важный символ нравов, обычаев и быта каждого века. Ненависть пуритан к ярким цветам, убранству и изяществу в одежде составляла часть ожесточенного мятежа средних классов против красоты в XVII веке. Историк, который не обратил бы на это внимания, дал бы нам самую неточную картину того времени, а драматург, который не использовал бы одежды, упустил бы самый важный элемент для достижения иллюзионистского эффекта. Изнеженность по отношению к одежде, отличавшая эпоху царствования Ричарда II, служила постоянной темой для современных ему писателей. Шекспир, писавший спустя два века, отмечает в центре пьесы пристрастие короля к ярким одеждам и заграничным фасонам, начиная с упреков Джона Гонта и вплоть до монолога самого Ричарда в третьем акте, после свержения его с престола. Следующие слова Йорка вполне убеждают меня в том, что Шекспир изучил гробницу Ричарда в Вестминстерском аббатстве:
Смотрите! Вот сам Ричард появился,
Как гневное, краснеющее солнце
Является из огненных ворот
Востока, вдруг заметивши, что тучи
Из зависти желают омрачить
Сияние его…[157]
Ведь и до сих пор еще можно видеть на одеянии короля его любимый аллегорический знак – солнце, выходящее из-за туч. В самом деле, в каждой эпохе социальные условия так выражены в костюме, что постановка пьесы шестнадцатого века в костюмах четырнадцатого или наоборот придала бы всему представлению неправдоподобный вид. Высшая красота не только обусловлена полной точностью в деталях, но и вполне зависит от них, при всей значительности красоты сценических эффектов. Совершенно нельзя выдумать новый костюм, кроме костюма для фарса или фантастической пьесы, а опыт соединения костюмов различных эпох в один может оказаться опасным. Мнение Шекспира о художественной ценности этой смеси выясняется из его многочисленных сатир на щеголей Елизаветинской эпохи, считавших себя отлично одетыми, так как они выписывали себе камзолы из Италии, шляпы – из Германии, а брюки – из Франции. Надо еще отметить, что самые прекрасные постановки на нашей сцене были именно те, которые отличались наивысшей точностью в деталях. Таковы пьесы XVIII века, возобновленные супругами Бэнкрофт на сцене театра «Haymarket»[158], превосходнейшая постановка «Много шума из ничего» Ирвингом и «Клавдиана» Бареттом. Но сверх того (это может явиться самым полным опровержением теории лорда Литтона) надо помнить, что ни в костюме, ни в диалоге не заключается главнейшая задача драматурга. Истинный драматург прежде всего ищет характерного, а вовсе не желает, чтобы все его персонажи были хорошо одеты, или обладали возвышенной душой, или говорили хорошим языком. Действительно, истинный драматург изображает жизнь в условиях искусства, а не искусство под видом жизни. Греческая одежда была самой прекрасной во всем мире, а английский костюм последнего века – одним из самых чудовищных костюмов, но все же мы не можем ставить в одних и тех же костюмах пьесы Шеридана и Софокла.
Ведь одно из самых главных качеств одежды – это ее выразительность, как сказал Полоний в своей прекрасной лекции, за которую я пользуюсь случаем принести ему свою благодарность. Надуманный стиль одежды прошлого века был характерным для тогдашнего общества, отличительным свойством которого являлась жеманность в манерах и разговоре. Драматург-реалист должен придавать этим чертам большое значение, вплоть до мельчайших деталей, для которых археология может ему предоставить материал.
Но еще не достаточно, чтобы одежда была совсем точной, она также должна подходить к росту и наружности актера и его предполагаемому положению, точно так же, как и к той роли, которую он исполняет. Например, в постановке Хэйра «Как вам угодно» в «St. James Theatrre»[159]весь смысл жалобы Орландо на то, что его воспитали как простого крестьянина, а не как дворянина, был испорчен блеском его одежды, а пышные наряды изгнанного герцога и его друзей были совершенно не к месту. Объяснение Льюиса Уингфильда, что они должны быть так одетыми вследствие тогдашней привычки к роскоши, по-моему, не вполне убедительно. Изгнанники, прячущиеся в лесах и живущие охотой, вряд ли много заботились о модных одеждах. Они, вероятно, были одеты наподобие разбойников Робина Гуда, с которыми их и в самом деле сравнивают в этой пьесе. Также из слов Орландо, во время его нападения на них, видно, что они не были одеты как богатые дворяне: Орландо принимает их за разбойников и удивляется их приветливому и благородному ответу. У леди Арчибальд Кэмпбелл, при режиссерстве Годвина, эта пьеса была поставлена гораздо художественнее; по крайней мере, так мне показалось. Герцог и его друзья были в шерстяных плащах, кожаных куртках, высоких сапогах и летних перчатках, в шляпах с загнутыми полями и капюшонах. Я убежден, что они находили эти костюмы весьма удобными, так как они играли в настоящем лесу. Каждому действующему лицу в пьесе дан вполне соответствующий костюм, а коричневые и зеленые их одежды отлично гармонировали с папоротниками под их ногами, с деревьями, под которыми отдыхали они, с очаровательным английским пейзажем, окружающим эту пастораль. Высшая естественность этой сцены вполне зависела от абсолютной точности и верности одежд. Археологии была предложена трудная задача, из которой она вышла с победой. Вся постановка показала раз навсегда, что без археологической точности костюм будет казаться нежизненным, неестественным, фальшиво-театральным.
Но все же не достаточно, чтобы костюмы соответствовали данной эпохе, подходили к наружности актера и были красивы, нужно выдержать красоту на всей сцене, и если задний план будет написан одним художником, а другой художник, независимо от него, напишет передний план, то живописная гармония сцены пострадает. Для каждой сцены взаимоотношение красок должно быть установлено так же точно, как при украшении какой-нибудь комнаты, и приготовленные ткани должны быть испробованы в различных сочетаниях, и те из них, которые нарушают гармонию, должны быть отброшены. Кроме того, смотря по цвету, сцена бывает иногда слишком яркой, отчасти вследствие чрезмерного употребления резких красных оттенков и отчасти потому, что костюмы новые, слишком свежие. Поношенность в одежде, которая в современной жизни указывает на тенденцию низших классов к известному тону, не лишена своей художественной ценности, и современные цвета очень выигрывают от несколько полинявшего вида. Голубой цвет тоже употребляют слишком часто: мало того, что это опасный цвет для одежды, носимой при газовом освещении, трудно найти в Англии действительно настоящий голубой цвет. Нежный китайский синий цвет, которым мы все так восторгаемся, должен лежать в краске два года, а британская публика не будет ждать так долго. С большим успехом употреблялся синий «павлиний» цвет, в особенности в театре «Lyceum»[160]; но всегда неудачны были попытки использовать светло-синий или темно-синий цвета. Слишком мало оценена красота черного цвета; Ирвинг удачно пользовался им в «Гамлете» как центральным мотивом в сочетании цветов, но мало признается значение черного цвета как дающего тон центрального эффекта. Это тем более странно, что преобладающий цвет одежды нашего века, когда, по словам Бодлера, «мы присутствуем все на каком-то погребении», именно черный. Грядущие археологи, вероятно, скажут про нашу эпоху: «Это эпоха, когда оценили красоту черного цвета», но, увы, это не относится ни к театру, ни к домашней обстановке. Декоративное значение этого цвета, впрочем, то же, что белого и золота: он оттеняет и придает гармонию другим цветам. В современных пьесах черный сюртук героя все равно неизбежен, и ему необходимо найти соответствующий фон. Однако это бывает так редко. Единственный хороший задний план, который я когда-либо видел, был темно-серый и желтовато-белый фон в первом акте «Princesse Georges» в постановке г-жи Лэнгтри. Чаще всего герой бывает затерт среди bric-à-brac[161]и пальмовых деревьев или поглощен позолоченной бездной мебели Людовика XIV или же он кажется мушкой среди массы всякой мозаической пестроты; между тем фон должен быть всегда фоном, а цвета должны быть подчинены основному эффекту. Это, конечно, может быть только тогда, когда всей постановкой руководит одно лицо. Выявления искусства – различны, но сущность сценического эффекта – одна. Монархия, анархия и республика могут спорить между собою в делах управления, но театр должен быть во власти одного культурного деспота. Возможно разделение труда, но не разделение умственной работы. Тот, кто знает костюмы известной эпохи, непременно должен знать ее архитектуру и ее обстановку и по креслам какого-нибудь века обязан тотчас же определить, были тогда в моде кринолины или нет. Вообще, в искусстве нет специализации; истинно художественная постановка должна быть выражена единым художником, который не только обязан все обдумать и устроить, но и проверить, как будет надет каждый костюм.
Французская актриса m-lle Марс категорически отказалась на первом представлении «Эрнани» называть своего возлюбленного: «Mon Lion», если ей не будет позволено носить маленькую, модную шляпку парижских бульваров; а многие современные молодые актрисы надевают жесткие, накрахмаленные юбки под греческие одежды, совершенно разрушая этим изящество линий и складок; понятно, такие злоупотребления не должны иметь места. Должно быть больше репетиций в костюмах, чем бывает теперь. Такие актеры, как Форбс-Робертсон, Конвей, Джордж Александр и другие, не говоря уже о более старых артистах, умеют изящно и легко двигаться на сцене в костюме любой эпохи; но есть много таких актеров, которые, по-видимому, не знают, куда девать руки, когда у них нет кармана; они носят всякое платье, как будто бы это костюм. Правда, костюмы должны быть костюмами для рисовальщика; но они всегда – платье для носящего их. Уже время положить конец господствующему на сцене мнению, что греки и римляне ходили всегда на открытом воздухе без головного покрова. Это заблуждение, в которое не впадали режиссеры Елизаветинской эпохи, так как они своим римским сенаторам давали капюшоны к их тогам.
Увеличение числа репетиций в костюмах дало бы возможность объяснить актерам, что форма жестикуляции и движений не только принадлежит каждому отдельному стилю одежды, но и вполне зависит от него. Например, странная жестикуляция руками в XVIII столетии явилась необходимым результатом широких фижм, а торжественная важность Бэрлея столько же зависит от его брыжей, сколько и от его рассуждений. Кроме того, актер не чувствует себя в роли, пока он не овладевает способностью непринужденно носить свой костюм.
Я не буду здесь говорить о том, насколько красота костюмов влияет на создание художественного темперамента в зрителях и на развитие того наслаждения красотой ради самой красоты, без которого нельзя понимать великие шедевры искусства, хотя не могу не напомнить, как Шекспир ценил эту сторону вопроса в постановке своих трагедий при искусственном освещении, в театре, задрапированном черными сукнами. Я хотел только сказать, что археология – отнюдь не метод педанта; это лишь способ для достижения сценической иллюзии, и костюм является средством для передачи характера действующего лица без помощи многословных описаний и для создания драматических эффектов ситуации. Мне очень жаль, что многие критики не прекращают своих нападок на одно из самых важных исканий современной сцены, прежде чем эти искания не достигли совершенства. Что они его достигнут, в это я верю так же, как и в то, что в будущем мы потребуем от драматических критиков большего, чем теперь. Нам будет недостаточно, что они помнят Макриди или видели Бенджамина Уэбстера; мы будем требовать от них, чтобы они учились понимать красоту. Pour être plus difficile, la tâche n’en est quo plus glorieuse[162]. И если они не будут помогать, то не будут и препятствовать тому движению, которому способствовал Шекспир больше всех драматургов, ибо его метод – это иллюзии правды, а иллюзия красоты – ее результат.
Признаюсь, я не совсем согласен с иными положениями, высказанными мною в этой статье. Есть многое, что я мог бы опровергнуть. Статья эта просто является выражением известного художественная взгляда, а в эстетическом критике все зависит от точки зрения. Ведь в искусстве нет универсальной истины. То положение в искусстве самое верное, противоположность которому тоже верна. И подобно тому, как только в художественной критике и благодаря ей мы уясняем платоновскую теорию o идее, точно так же только художественной критикой и благодаря ей мы можем осуществить гегелевскую систему антитез. Метафизические истины – это истины масок.
Перевод А. Дейча
Ренессанс английского искусства
Лекция

Обри Бердслей. Иоканаан и Саломея. Из цикла иллюстраций к пьесе О. Уайльда. «Саломея». 1894 год.
Мы многим обязаны Гёте, его великой эстетической чуткости; он первый нас научил определять красоту как нечто чрезвычайно конкретное, постигать ее не в общих, а в отдельных, частичных ее проявлениях. Поэтому в настоящей лекции я не стану навязывать вам какое-нибудь отвлеченное определение красоты, одну из тех универсальных формул, которые хотела отыскать философия XVIII века; я даже не буду пытаться передавать вам то, что по существу своему не передаваемо, – ту неуловимую особенность, благодаря которой данная картина или поэма наполняет нас небывалой, ни с чем не сравнимой радостью. Мне просто хотелось бы очертить перед вами те основные идеи, которые характеризуют великий Ренессанс английского искусства, указать, насколько возможно, источник этих идей и определить их дальнейшую судьбу, опять-таки насколько возможно.
Я называю это течение нашим английским Возрождением, потому что, подобно эпохе великого итальянского Возрождения, в XV веке, здесь и вправду как будто сызнова рождается человеческий дух, и в нем, как и тогда, просыпается жажда более нарядной, изысканной жизни, страсть к физической красоте, всепоглощающее внимание к форме, он начинает искать новых сюжетов для поэзии, новых форм для искусства, новых услад для ума и воображения. Я называю это течение романтическим, ибо именно в романтизме – нынешнее воплощение красоты.
Часто хотели видеть в этом течении простую реставрацию эллинских приемов мышления или средневекового чувства. Но я сказал бы, что оно присоединило к этим старым формам человеческого духа все, что художественно ценного создала современная жизнь, такая сложная, запутанная, многоопытная, заимствовав, в свою очередь, у эллинизма ясность взгляда и спокойную сдержанность чувства, а у Средневековья – разнообразие форм и мистичность видений. Ибо, как сказал тот же Гёте, разве, изучая древний мир, мы тем самым не обращаемся к миру реальному (греки ведь и были реалисты), и, по слову Мадзини, что же такое Средневековье, как не индивидуальность?