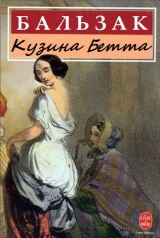
Текст книги "Кузина Бетта"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Спросив номер особняка, барон сел в коляску и вскоре подкатил к одному из тех красивых домов в современном вкусе, с двойными дверьми, где все, начиная от газового фонаря у подъезда, говорит о роскоши.
В глазах привратника этого нового Эдема барон, парадно разодетый, в синем фраке и в белом жилете, в белом галстуке, в туго накрахмаленном жабо, в нанковых панталонах и лакированных башмаках, сошел за запоздавшего гостя. Барственная осанка, важная поступь, все его обличье подтверждали такое мнение.
На звонок швейцара в вестибюле появился лакей. Лакей этот, так же новый, как и особняк, пригласил гостя войти, и барон, сопровождая свои слова повелительным жестом, произнес:
– Передайте эту карточку мадмуазель Жозефе.
Наш patito[36]36
Любовник (ит.).
[Закрыть] невольно огляделся по сторонам и понял, что находится в приемной; комната была уставлена редкими цветами и убрана с роскошью, которая должна была обойтись не менее чем в двадцать тысяч франков. Лакей вернулся и попросил барона обождать в гостиной покуда господа выйдут из-за стола и будет подано кофе.
Хотя барон знавал роскошь Империи, поистине поразительную и, при всей ее недолговечности, стоившую бешеных денег, он тем не менее был ослеплен, ошеломлен, оказавшись в этой гостиной с тремя окнами, выходившими в какой-то волшебный сад, один из тех садов, которые создаются в несколько недель на привезенном грунте, с пересаженными цветами, с газоном, как будто выращенным каким-то химическим способом. Он любовался не только изысканностью убранства этой гостиной, с пышной позолотой, дорогими лепными украшениями в так называемом стиле Помпадур, божественными тканями – короче, всем тем, что любой разбогатевший лавочник может заказать и приобрести ценою золота, – еще более барон любовался тем, что могут разыскать одни только принцы, и только они могут выбрать, оплатить и преподнести: двумя картинами Грёза и двумя Ватто, двумя головками Ван-Дейка, двумя пейзажами Рейсдаля, двумя дю Гаспра, полотнами Рембрандта и Гольбейна, Мурильо и Тициана (каждый из них был представлен одной картиной), двумя картинами Тенирса и двумя Метсу, одним Ван-Гуизием и одним Авраамом Миньоном, – словом, картин тут было на двести тысяч франков, притом в восхитительных рамах. Рамы чуть ли не стоили самих полотен.
– А-а! Теперь ты понимаешь, простофиля? – сказала Жозефа.
Прокравшись на цыпочках через бесшумно отворявшуюся дверь по персидским коврам, заглушавшим шаги, она застала своего вздыхателя в полном оцепенении, когда так сильно звенит в ушах, что не слышишь ничего, кроме этого похоронного звона.
Назвать высокопоставленную особу простофилей – дерзость неслыханная и превосходно рисующая этих женщин, которые бесцеремонно принижают самых великих людей. Барона это обращение приковало к месту. Жозефа, вся в белом и желтом, так расфрантилась по случаю своего празднества, что и посреди этой сумасшедшей роскоши блистала, как редчайшая драгоценность.
– Красиво, не правда ли? – продолжала она. – Герцог вложил сюда все прибыли от удачной продажи акций одного товарищества на паях, в котором он принимает участие. Он не дурак, мой герцог, а? Только вельможи прежних времен умеют обменять каменный уголь на золото! Перед обедом нотариус принес мне на подпись купчую... в ней указана стоимость особняка... Нынче у меня в гостях все наши вельможи: д'Эгриньон, Растиньяк, Максим де Трай, Ленонкур, Верней, Лагинский, Рошфид, Ла Пальферин, а из банкиров – Нусинген и дю Тийе, и с ними – Антония, Малага, Карабина и Шонтц. Все они соболезнуют твоему горю. Да, да, старичок, ты тоже приглашен, но с одним условием: выпить сразу же не меньше двух бутылок венгерского, шампанского и капского, чтобы их догнать. Мы, дорогой мой, так все нализались, что пришлось отменить спектакль в Опере. Мой директор пьян как стелька и несет околесицу!
– О Жозефа! – воскликнул барон.
– Э-э! Что за глупость! Не вздумай только объясняться!.. – отвечала она, смеясь, – Ну, скажи, стоишь ли ты шестисот тысяч франков, как стоит их этот особняк со всей его обстановкой? Можешь ты преподнести мне ренту в тридцать тысяч франков, как преподнес мне ее герцог, в пакетике с грошовыми конфетами? Забавная выдумка, а?
– Какая развращенность! – сказал член Государственного совета, который в бешенстве готов был спустить все брильянты своей жены ради того лишь, чтобы на двадцать четыре часа занять место герцога д'Эрувиля.
– Да уж такое мое ремесло – быть развратной! – отвечала она. – Ах, вот как ты на это смотришь! А почему ты не выдумал какой-нибудь компанейской операции? Боже мой, тебе бы следовало меня благодарить, мой бедный крашеный кот! Я бросила тебя как раз вовремя – ведь ты уже собирался проесть вместе со мной последние крохи, лишить жену пропитания, отнять у дочери приданое... Ах! Ты плачешь?.. Империя гибнет!.. Да здравствует Империя!
Она приняла трагическую позу и произнесла, скандируя:
Зоветесь вы Юло? Я больше вас не знаю...
И ушла.
В приотворенную дверь блеснул, подобно молнии, луч света и ворвался crescendo[37]37
С нарастающей силой (ит.).
[Закрыть] шум оргии вместе e запахами первостатейного пиршества.
Певица вернулась, выглянула в приотворенную дверь, и, увидев, что Юло стоит точно пригвожденный к месту, как бронзовый монумент, она переступила порог и снова подошла к нему.
– Сударь, – сказала она, – тот хлам, что остался на улице Шошá, я уступила Элоизе Бризту, приятельнице Бисиу. А на тот случай, ежели бы вам угодно было истребовать ваш ночной колпак, сапожный крючок, корсет и краску для бакенбардов, я оговорила в условии, чтобы их возвратили вам.
Злая шутка принудила барона бежать из этого дома, как некогда Лот бежал из Гоморры, не оборачиваясь, не в пример своей супруге.
Юло, взбешенный, зашагал по направлению к дому, вслух рассуждая сам с собою. Он застал семью мирно играющей в вист по два су за фишку, начатый еще при его участии. Взглянув на мужа, бедная Аделина подумала, что произошло какое-то несчастье, что-то страшное и постыдное; она передала свои карты Гортензии и вышла с Гектором в ту самую маленькую гостиную, где Кревель пять часов тому назад пророчил ей позорную агонию нищеты.
– Что с тобой? – спросила она испуганно.
– О, прости меня! Но позволь мне рассказать о всей этой низости...
И в продолжение пяти минут он изливал свой гнев.
– Друг мой, – героически отвечала несчастная женщина, – ведь эти низкие создания не знают любви! Той чистой, преданной любви, которую ты заслуживаешь. Как же мог ты, такой проницательный человек, притязать на соперничество с миллионом?
– Дорогая Аделина! – воскликнул барон и, обняв жену, прижал ее к своему сердцу.
Баронесса пролила целительный бальзам на кровоточащие раны его самолюбия.
– Разумеется, лишите герцога д'Эрувиля богатства, и она не стала бы колебаться в выборе между нами! – сказал барон.
– Друг мой, – продолжала Аделина, делая последнее усилие, – если тебе непременно нужны любовницы, почему ты не берешь, как Кревель, женщин не слишком дорогих и из того класса, где содержанки подолгу довольствуются малым? Мы все от этого только бы выиграли. Я допускаю, что может быть потребность, но зачем тут примешивать тщеславие!.. Право, не понимаю...
– Добрая и превосходная женщина! – воскликнул он. – Я старый безумец, я не заслуживаю, чтобы ты, такой ангел, была спутницей моей жизни.
– Я попросту Жозефина моего Наполеона, – отвечала она грустно.
– Жозефина не стоила тебя, – сказал барон. – Пойдем, я сыграю в вист с братом и детьми. Нужно же наконец привыкать к обязанностям отца семейства, выдать замуж Гортензию и похоронить в себе распутника...
Добрый порыв этот так тронул бедную Аделину, что она сказала:
– У этой женщины, верно, очень дурной вкус, если она могла кого-то предпочесть моему Гектору. Ах! я бы не уступила тебя ни за какие сокровища! Как может женщина бросить тебя, когда ей выпало счастье быть любимой тобою!..
Взгляд, которым барон вознаградил жену за ее фанатическую любовь, утвердил Аделину в мнении, что нежность и покорность – самое сильное оружие женщины. Она ошибалась. Благородные чувства, доведенные до крайности, ведут к такому же концу, как и чрезмерные пороки. Бонапарт стал императором, потому что стрелял в народ картечью в двух шагах от того места, где Людовик XVI лишился трона и головы, потому что не позволил пролить кровь г-на Сос[38]38
Сос – прокурор города Варенна, задержавший карету Людовика XVI во время бегства последнего из Парижа в июне 1791 г. Сос передал короля и сопровождавших его лиц Конвенту.
[Закрыть].
На другой день Гортензия, спрятавшая печатку работы Венцеслава под подушку, чтобы не расставаться с нею и во сне, была на ногах с раннего утра и приказала слуге просить г-на Юло выйти в сад, как только он встанет.
Было около половины десятого, когда отец, снисходя к просьбе дочери, взял ее под руку и они пошли вместе по набережным, затем через Королевский мост, к площади Карусели.
– Сделаем вид, будто мы гуляем, папа, – сказала Гортензия, выйдя через решетчатую калитку на эту огромную площадь.
– Гуляем? Здесь?.. – переспросил отец с насмешливой ноткой в голосе.
– Подумают, что мы идем в музей. А вон там, – сказала она, указывая на лавчонки, прилепившиеся к стенам домов, которые выходят под прямым углом на улицу Дуайене, – погляди-ка, там продают случайные вещи, картины...
– Там живет твоя кузина...
– Знаю. А только не нужно, чтобы она нас увидела...
– Но что ты затеяла? – спросил барон и вдруг вспомнил о г-же Марнеф, оказавшись в каких-нибудь тридцати шагах от ее окон.
Гортензия провела отца мимо витрины одной из лавок, помещавшейся в угловом доме, который замыкал собою недлинную цепь домов вдоль галерей старого Лувра, обращенных фасадом к Нантскому дворцу. Она вошла в лавку, предоставив отцу созерцать окна обворожительной блондинки, чье личико так и стояло со вчерашнего дня перед глазами старого красавца, как бы суля ему награду за перенесенный удар, и он решил, что непременно воспользуется советом жены.
«Отыграемся на мещаночках, – сказал он про себя, вспоминая восхитительные совершенства г-жи Марнеф. – С этой дамочкой я живо забуду алчную Жозефу».
А вот что происходило тем временем в лавке и возле лавки.
Разглядывая окна своей новой пассии, барон увидал ее мужа, который, самолично начищая сюртук, как видно, подкарауливал кого-то, кто должен был появиться на площади. Опасаясь, что его могут заметить, а то и признать, влюбленный барон повернулся спиной к улице Дуайене, но встал вполоборота и время от времени окидывал косвенным взглядом окна красавицы. И вдруг он столкнулся почти лицом к лицу с г-жой Марнеф, которая, выйдя со стороны набережной, огибала выступ домов, очевидно, возвращаясь к себе. Валери явно взволновалась, встретив удивленный взгляд барона, но ответила на него взглядом недотроги.
– Боже, как мила! – воскликнул барон. – Ради такой женщины позволительно натворить глупостей!
– Ах, сударь! – промолвила в ответ г-жа Марнеф, оборачиваясь к нему с таким видом, словно решилась на дерзкий шаг. – Ведь вы барон Юло, не так ли?
Барон, удивляясь все более и более, сделал утвердительный жест.
– Ну что ж! Раз случаю угодно было дважды соединить наши взоры и я имела счастье заинтриговать или заинтересовать вас, то я скажу вам: вместо того чтобы творить глупости, вы должны были бы выполнить долг справедливости... Судьба моего мужа в ваших руках...
– Как прикажете вас понимать? – любезно спросил барон.
– Муж мой – чиновник вашего департамента в военном министерстве, отдел господина Лебрена, канцелярия господина Коке, – отвечала она с улыбкой.
– Рад служить, госпожа... госпожа...
– Госпожа Марнеф.
– Милая моя госпожа Марнеф, готов служить вам вплоть до нарушения справедливости ради ваших прекрасных глазок... В вашем доме проживает моя кузина, на днях я навещу ее. Постараюсь сделать это как можно скорее. Приходите туда и приносите ваше прошение.
– Простите меня за смелость, барон... Но вы поймете, почему я дерзнула заговорить с вами, – ведь у меня нет покровителя.
– А-а-а...
– О сударь, вы не так меня поняли! – сказала она, потупив глаза.
Барону показалось, что солнце закатилось.
– Я в отчаянном положении, но я женщина честная, – продолжала она. – Полгода назад я потеряла единственного моего покровителя, маршала Монкорне.
– А-а! Вы его дочь?
– Да, сударь, но он так и не признал меня.
– Но он, верно, хотел оставить вам часть своего состояния?
– Он ничего мне не оставил, сударь, потому что завещания не оказалось.
– Ах, бедненькая! Маршал скончался скоропостижно... Но не теряйте надежды, сударыня. Дочь одного из современных Баярдов[39]39
Баярд – французский полководец XVI в., считался образцом рыцарской чести и благородства.
[Закрыть], рыцарей Империи, может рассчитывать на помощь.
Госпожа Марнеф грациозно поклонилась, гордясь своим успехом не меньше, чем барон был горд своим успехом.
«Откуда, черт возьми, возвращается она в такой ранний час? – раздумывал он, не отрывая глаз от волнующего колыхания юбки, в котором, пожалуй, чувствовалась несколько преувеличенная грациозность. – У нее чересчур утомленное лицо, значит, она возвращается не из бани, а у окна ее поджидает муж. Все это загадочно и наводит на размышления».
Как только г-жа Марнеф скрылась в подъезде, барон вспомнил, что его ожидает дочь. Отворив дверь лавки, он еще раз оглянулся на окна г-жи Марнеф, и его чуть было не сбил с ног бледный молодой человек с горящими серыми глазами, одетый в черное летнее пальто, из-под которого виднелись затрапезные панталоны из толстого тика и ботинки с желтыми гетрами; он выбежал из лавки как сумасшедший, помчался к дому г-жи Марнеф и исчез в подъезде. Войдя в лавку, Гортензия сразу же заметила пресловутую скульптуру, стоявшую на столике прямо против наружной двери.
Если даже оставить в стороне причины, побудившие Гортензию познакомиться с произведением молодого скульптора, то и тогда бы это мастерское творение его резца поразило бы девушку тем, что принято называть brio[40]40
Живость, жизнерадостность (ит.).
[Закрыть] великих произведений, тем более что она сама могла бы позировать в Италии для статуи Brio.
Не все гениальные произведения в равной степени обладают тем блеском, тем великолепием, которые доступны всякому глазу, даже глазу невежды. Так, некоторые картины Рафаэля, например, знаменитое «Преображение», «Мадонна ди Фолиньо», фрески Рафаэля в залах Ватикана, не вызовут того непосредственного восторга, какой вызывают «Скрипач» в галерее Кьярра, портреты Дони и «Видение Иезекииля» в галерее Питти, «Несение креста» в галерее Боргезе, «Обручение девы Марии» в Брерской картинной галерее в Милане; «Иоанн Креститель» в Трибуне[41]41
Трибуна. – Имеется в виду восьмиугольная зала флорентийской галереи живописи и скульптуры Уффици.
[Закрыть], «Евангелист Лука, рисующий деву Марию» – полотно, хранящееся в Римской академии, – не имеют того очарования, которым в высокой степени обладают портрет Льва X и дрезденская «Мадонна». Однако ж все эти картины имеют равную ценность. Более того! Рафаэлевы станцы[42]42
Рафаэлевы станцы. – По-итальянски «станца» – комната, зала; здесь имеются в виду залы Ватиканского дворца, расписанные Рафаэлем.
[Закрыть], «Преображение», одноцветная роспись и три станковые картины в Ватикане являются верхом вдохновенного мастерства. Но все эти высокие творения искусства требуют даже от знатока известной сосредоточенности, изучения, и только тогда можно воспринять их в полной мере, между тем как «Скрипач», «Обручение Девы Марии», «Видение Иезекииля» непосредственно проникают в вашу душу через врата очей и сразу запечатлеваются в ней навсегда; вам радостно наслаждаться ими без всякого напряжения; то – не вершина искусства, то – удача искусства. Очевидно, художественные произведения подвержены таким же случайностям, какие наблюдаются в тех семьях, где встречаются одаренные, красивые, удачные дети, которые не причинили матери при своем рождении никаких страданий, которым все в жизни улыбается, все легко дается, – короче, существует весна гения, как существует весна любви.
Brio (непереводимое итальянское слово, которое начинает входить в употребление и у нас) характерно для ранних произведений. То плод дерзания, вдохновенной силы молодого таланта, того дерзания, которое позднее охватывает нас лишь в иные счастливые часы; но тогда это brio исходит уже не из сердца художника, и, вместо того чтобы непроизвольно метать этот священный огонь в свои творения, как мечет пламя вулкан, художник сам сгорает в пламени, которое зажжено внешними обстоятельствами, любовью, соперничеством, часто ненавистью и еще чаще желанием поддержать свою славу.
Группа, созданная Стейнбоком, оказалась в отношении будущих его произведений тем же, чем было «Обручение девы Марии» в отношении всего творчества Рафаэля, – первым шагом таланта, исполненным неизъяснимого изящества, детской живости, подкупающей непосредственности, избытка сил, таящихся в пухлом, бело-розовом тельце с ямочками, которые являются как бы отблесками материнских улыбок. Принц Евгений заплатил, говорят, четыреста тысяч франков за эту картину, которая должна была бы стоить миллион в стране, лишенной картин Рафаэля, а таких денег не дадут даже за прекраснейшую из его фресок, хотя художественная ценность их гораздо выше.
Гортензия сдержала охвативший ее восторг, подсчитывая мысленно свои девические сбережения; она приняла равнодушный вид и спросила у торговца:
– Какая цена этой вещи?
– Полторы тысячи франков, – отвечал торговец, подмигнув молодому человеку, сидевшему на табурете в углу лавки.
А молодой человек буквально замер, увидав живое произведение искусства, дочь барона Юло. Волнение Венцеслава Стейнбока не ускользнуло от Гортензии, и по тому, как краска залила его бледное, страдальческое лицо, как загорелись серые глаза при ее вопросе, она сразу же поняла, что перед нею сам художник; она глядела на это худое, изможденное лицо, осунувшееся, как у монаха-аскета; она любовалась его розовыми, изящно очерченными губами, коротким и тонким подбородком и чисто славянскими русыми, шелковистыми кудрями.
– Если бы вы уступили за тысячу двести франков, – отвечала она, – я бы попросила вас прислать мне эту группу на дом.
– Это античная вещь, мадмуазель, – заметил торговец, который, подобно всем своим собратьям, воображал, что все сказано этим plus ultra[43]43
Высшим доводом (лат.).
[Закрыть] старьевщиков.
– Извините меня, сударь, вещь эта сделана в нынешнем году, – отвечала она, понизив голос. – И я пришла к вам именно попросить, если согласятся на эту цену, прислать к нам самого художника, потому что ему могли бы дать довольно солидные заказы.
– Но если он получит тысячу двести франков, что же мне-то останется? Ведь и мне заработать надо, – сказал добродушно антиквар.
– Ах, да, это верно, – заметила девушка с невольным презрением.
– Мадмуазель, берите эту группу, я договорюсь с торговцем! – вне себя воскликнул художник.
Очарованный дивной красотой Гортензии и явной ее любовью к искусству, он прибавил:
– Я автор этой скульптуры. Вот уже десять дней, как я прихожу сюда, раза три в день, посмотреть, кто ее оценит, кто захочет ее купить. Вы моя первая почитательница. Берите же!
– Приходите к нам, сударь, вместе с торговцем, через час. Вот визитная карточка моего отца, – отвечала Гортензия.
Затем, увидев, что лавочник вышел в другую комнату, чтобы упаковать скульптуру, она шепотом, к великому удивлению художника, вообразившего, что он грезит, сказала:
– В интересах вашего будущего, господин Стейнбок, не показывайте этой карточки, не называйте мадмуазель Фишер имени покупателя, потому что она наша родственница.
Слова «наша родственница» произвели ошеломляющее впечатление на художника, ему пригрезился рай в образе этой новоявленной Евы. Столько раз Лизбета говорила ему о своей прекрасной кузине, он мечтал о ней точно так же, как Гортензия мечтала о возлюбленном своей кузины, и, когда она вошла в лавку, он подумал: «О! если б это была она!» Можно представить себе, каким взглядом обменялись влюбленные! То было настоящее пламя, потому что истинная любовь не терпит притворства.
– Да что ты тут делаешь, скажи на милость? – спросил барон у своей дочери.
– Трачу тысячу двести франков собственных сбережений. Идем! – Она взяла под руку отца, который переспросил:
– Тысячу двести франков?
– Даже тысячу триста... Но ты, конечно, одолжишь мне недостающую сумму!
– На что же в этой лавке ты могла истратить такие деньги?
– А вот на что! – отвечала счастливая девушка. – Я тут нашла себе мужа... Право, это вовсе не дорого.
– Мужа? Дочь моя, в этой лавке?
– Послушай, папочка, неужели ты запретишь мне выйти замуж за великого художника?
– Нет, дитя мое. В наши дни великий художник – это тот же принц, только не титулованный. Слава и богатство – вот два величайшие общественные преимущества... после добродетели, конечно, – прибавил он шутливо-ханжеским тоном.
– О, разумеется, – отвечала Гортензия. – А какого ты мнения о скульпторах?
– Ну, это скверная профессия, – сказал Юло, покачав головой. – Тут помимо большого таланта нужны большие связи, потому что на скульптуру единственный заказчик – правительство. На статуи нет спроса в наше время, теперь нет больше ни крупных имен, ни крупных состояний, ни родовых замков, ни майоратов[44]44
Майорат – порядок наследования, при котором недвижимое имущество переходило вместе с титулом к старшему в семье или роде ради сохранения богатства дворянских семей. Отмененный революцией 1789—1794 гг., майорат был восстановлен Наполеоном I (1806). Закон 1835 г. запретил образование новых майоратов и ограничил срок существования старых.
[Закрыть]. Мы можем приобретать только небольшие картины, небольшие статуэтки. Стало быть, пластическому искусству угрожает измельчание.
– Ну а большой художник, вещи которого находят спрос? – продолжала Гортензия.
– Тогда задача решена.
– И со связями!
– Еще того лучше!
– И дворянин!
– Вот как!
– Граф!
– И он занимается скульптурой?
– У него нет состояния.
– Стало быть, он рассчитывает на состояние мадмуазель Гортензии Юло?.. – сказал насмешливо барон, инквизиторским взглядом впиваясь в глаза дочери.
– Этот большой художник, граф и скульптор, видел вашу дочь один раз в своей жизни и не более пяти минут, барон, – спокойно произнесла Гортензия. – Слушай, дорогой мой папочка, вчера, когда ты был в палате, с мамой случился обморок. Мама отнесла его на счет нервов, но истинной причиной обморока была какая-то неприятность, связанная с моим неудавшимся браком, потому что, как она мне сказала, вы, желая избавиться от меня...
– Мама так тебя любит, что не могла употребить выражение, такое... такое...
– Не парламентское? – смеясь, подсказала Гортензия. – Нет, она выразилась несколько иначе, но я знаю сама, что дочь на выданье, когда она не выходит замуж, – тяжелый крест для порядочных родителей. Так вот! Мама и рассудила, что, если бы встретился человек энергичный и даровитый, который бы удовольствовался приданым в тридцать тысяч франков, мы все были бы счастливы! Короче говоря, она нашла своевременным подготовить меня к скромной будущности и предостеречь от чересчур радужных надежд... Это означало, что предполагаемая свадьба не состоится, ибо приданого не будет.
– Аделина очень добрая, очень благородная, превосходная женщина, – отвечал отец, глубоко задетый и вместе с тем довольный этой откровенной беседой.
– Вчера мама сказала мне, что вы разрешаете продать ее брильянты, только бы выдать меня замуж. Но я хочу, чтобы мама сохранила свои брильянты, и хочу сама выбрать себе мужа. Думаю, что я нашла жениха, отвечающего маминой программе...
– Тут?.. На площади Карусели?.. В одно утро?..
– О, корень зла лежит гораздо глубже... – отвечала она лукаво.
– Ну что ж, дочурка! Расскажи все откровенно своему отцу, – попросил барон, стараясь ласковой миной скрыть свое беспокойство.
Под условием хранить все в полной тайне Гортензия коротко пересказала отцу свои беседы с кузиной Беттой. Потом, вернувшись домой, она показала ему знаменитую печатку как доказательство своей прозорливости и мудрости своих догадок. В глубине души отец восторгался проворством молодых девиц, движимых инстинктом, и отдавал дань восхищения удивительной простоте замысла, который идеальная любовь успела в одну ночь внушить невинной девушке.
– Вот увидишь, папочка, какое чудо искусства я приобрела! Скоро его доставят, и наш дорогой Венцеслав придет вместе с торговцем... Творец подобной вещи, несомненно, составит себе состояние. Только уж ты, папочка, воспользуйся своим влиянием и выхлопочи для него заказ на статую, а затем и мастерскую при Институте...
– Какая ты быстрая! Дай вам волю, вы поженитесь через одиннадцать дней, как только истечет законный срок...
– Ждать одиннадцать дней? – отвечала она, смеясь. – Да я его в пять минут полюбила, как ты полюбил маму, едва только ее увидел! И он любит меня, как будто мы с ним знакомы два года. Да, да! – сказала она в ответ на протестующий жест отца. – Я прочла десять томов любви в его глазах. Неужели же вы с мамой не согласитесь выдать меня за него замуж, когда увидите, что мой жених человек гениальный! Скульптура – высшее из искусств! – вскричала она, хлопая в ладоши и подпрыгивая. – Слушай! Я все тебе расскажу...
– Стало быть, есть еще кое-что?.. – спросил отец, улыбаясь. Невинная девическая болтовня вполне его успокоила.
– Признание крайне важное, – отвечала Гортензия. – Я полюбила его, не зная еще, каков он собою, но с того часа, как я его увидела, я обезумела от любви.
– Пожалуй, чересчур обезумела, – отвечал барон, забавляясь непосредственностью этой наивной страсти.
– Не наказывай меня за мою откровенность, – продолжала Гортензия. – Ведь так хорошо, припав к груди отца, крикнуть: «Я люблю, я счастлива своей любовью!» Сейчас ты увидишь моего Венцеслава! Какая грусть на его челе!.. В серых глазах сияет солнце гениальности!.. А какие манеры! Сразу виден воспитанный человек! Как ты думаешь, Ливония хорошая страна?.. Да неужели кузина Бетта могла бы стать женой этого молодого человека? Ведь она ему в матери годится! Это было бы смертоубийством! Как я ревную ко всему, что она для него сделала! Конечно, мой брак не доставит ей большого удовольствия.
– Послушай, мой ангел, не будем ничего скрывать от мамы, – сказал барон.
– Надо было бы показать ей эту печатку, а я обещала не выдавать кузину. Она говорит, что боится маминых подшучиваний, – отвечала Гортензия.
– Ты деликатничаешь из-за печатки, а сама похищаешь у кузины Бетты ее возлюбленного.
– Я давала обещание насчет печатки, а насчет ее автора никаких обещаний не давала.
Событие это, исполненное патриархальной простоты, пришлось как нельзя более кстати, принимая во внимание скрытое еще от посторонних глаз бедственное положение семьи; поэтому барон, похвалив дочь за откровенность, сказал ей, что в дальнейшем она должна будет положиться на благоразумное попечение своих родителей.
– Пойми, дочка, что тебе не пристало проверять, действительно ли друг нашей кузины настоящий граф, в порядке ли у него бумаги и достойного ли он поведения... А что касается кузины Бетты, то раз она отвергла пять партий, когда была на двадцать лет моложе, какие тут могут быть препятствия?.. Я беру все на себя.
– Послушайте, папочка! Ежели вы желаете, чтобы я вышла замуж, не говорите кузине о моем милом, прежде чем мы не подпишем брачный контракт... Вот уже полгода я расспрашиваю Бетту о ее вздыхателе... И, знаете, тут есть нечто необъяснимое...
– А что же именно? – с любопытством спросил отец.
– Ну, вот, например, стоит мне, даже в шутку, завести речь о ее друге, взгляд у нее сразу становится недобрым. Наводите справки, но действовать позвольте мне самой. Раз я так откровенна, вам нечего тревожиться.
– Господь сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». А ты именно такое дитя! – отвечал барон с легкой насмешкой в голосе.
После завтрака доложили о прибытии торговца, художника и статуэтки.
Вспыхнувшее лицо дочери невольно встревожило материнское сердце, баронесса насторожилась, а вскоре смущение Гортензии и горячий блеск ее глаз открыли матери тайну, которую плохо хранило юное сердце.
Граф Стейнбок, одетый во все черное, показался барону весьма приличным молодым человеком.
– Могли бы вы отлить большую статую в бронзе? – обратился к нему барон, держа в руках группу.
Полюбовавшись группой с видом знатока, он передал ее жене, которая ровно ничего не понимала в скульптуре.
– Мамочка, какая это прелесть, не правда ли? – шепнула Гортензия на ухо матери.
– Статую?.. Статую, барон, отлить в бронзе не столь трудно, как вот эти часы, которые так любезно согласился принести сюда господин антиквар, – отвечал художник на вопрос барона.
Торговец тем временем устанавливал на буфете в столовой восковую модель двенадцати Ор, которых пытаются поймать амуры.
– Оставьте у меня часы, – сказал барон, плененный этой прелестной вещью. – Я покажу их министру внутренних дел и министру торговли.
– Кто этот молодой человек, которым ты так интересуешься? – спросила баронесса у дочери.
– Будь художник достаточно богат, чтобы отлить в бронзе свою модель, он мог бы заработать сто тысяч франков, – говорил между тем антиквар, состроив таинственную и многозначительную мину, ибо от его внимания не ускользнули красноречивые взгляды, которыми обменивались молодые люди. – Достаточно продать двадцать экземпляров по восьми тысяч франков каждый, ведь надо учесть, что отливка обойдется примерно в тысячу экю за экземпляр. А если занумеровать каждый экземпляр да уничтожить модель, то уж наверняка найдется человек двадцать любителей, которые пожелают быть единственными обладателями этого неповторимого произведения искусства.
– Сто тысяч франков!.. – воскликнул Стейнбок, обводя взглядом торговца, Гортензию, барона и баронессу.
– Да, сто тысяч! – повторил торговец. – И будь я побогаче, я бы сам купил эту вещицу за двадцать тысяч франков, потому что по уничтожении модели вещь становится капиталом... Какой-нибудь принц заплатил бы за этот шедевр тридцать, а то и сорок тысяч франков, чтобы украсить им свою гостиную! Искусство еще не создавало подобных часов, равно удовлетворяющих и вкусу мещан, и вкусу знатока, а наш художник, сударь, как раз решил эту трудную задачу...
– Вот, получите, сударь, – сказала Гортензия, вручая шесть золотых монет антиквару, и он тут же откланялся.
– Не обмолвитесь никому на свете о продаже этой вещи, – сказал художник торговцу, останавливая его у порога. – Если вас спросят, куда вы отнесли группу, назовите герцога д'Эрувиля, известного мецената, который живет на улице Варенн.
Торговец в знак согласия кивнул головой.
– Простите, а как ваше имя? – спросил барон художника, когда тот вернулся.
– Граф Стейнбок.
– Имеются ли у вас документы, подтверждающие, что вы именно тот, кем именуете себя?
– Да, барон, у меня есть документы на русском и немецком языках, но они не зарегистрированы...
– В состоянии ли вы выполнить статую в девять футов вышиною?
– Да, сударь!
– В таком случае, ежели особы, к которым я обращусь, останутся довольны вашими работами, я выхлопочу для вас заказ на памятник маршалу Монкорне, который намереваются поставить на его могиле, на кладбище Пер-Лашез. Военное министерство и бывшие офицеры императорской гвардии пожертвовали довольно значительные суммы на памятник и имеют право сами выбрать художника.
– О сударь! Это сразу открыло бы мне дорогу! – сказал Стейнбок, ошеломленный неслыханной удачей.
– Будьте покойны, – любезно отвечал барон. – Я покажу вашу группу и модель часов обоим министрам, и если ваши творения понравятся им, дорога перед вами открыта...







