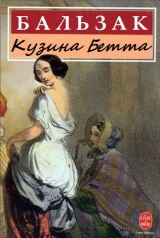
Текст книги "Кузина Бетта"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
«Из Оранской тюрьмы.
Племянник, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых.
Будьте покойны, против вас не найдут улик. Я сейчас умру, а ваш иезуит Шарден бежал, – судебный процесс будет прекращен. Образ нашей дорогой Аделины, которую вы сделали счастливой, облегчит мне предсмертные минуты. Можете уже не посылать мне двести тысяч франков. Прощайте.
Письмо будет вам переправлено одним заключенным, на которого, я думаю, можно положиться.
Иоганн Фишер».
– Прошу вас простить меня, – с трогательным достоинством сказал маршал Юло князю Виссембургскому.
– Полно! Говори мне по-прежнему «ты», Юло! – возразил министр, пожимая руку своему старому другу. – Бедняга улан лишил жизни только себя самого, – сказал он, бросая на Гектора Юло уничтожающий взгляд.
– Сколько вы взяли? – строго спросил брата граф Форцхеймский.
– Двести тысяч франков.
– Дорогой друг, – обратился граф к министру, – через сорок восемь часов я принесу вам двести тысяч франков. Никто не посмеет сказать, что человек, носящий имя Юло, причинил ущерб государственной казне.
– Какое ребячество! – сказал маршал. – Мне известно, где находятся эти двести тысяч франков, и я возвращу их. Сдайте дела и уходите в отставку! – продолжал он, швырнув лист веленевой бумаги в ту сторону стола, где сидел член Государственного совета, у которого поджилки тряслись от страха. – Судебный процесс опозорит всех нас, поэтому я добился от совета министров свободы действий в данном случае. Раз уж вы готовы жить, потеряв честь, потеряв мое уважение, жить опозоренным, вы получите положенную вам отставку. Но постарайтесь, чтобы о вас все позабыли.
Маршал позвонил.
– Чиновник Марнеф здесь?
– Да, ваше сиятельство, – отвечал курьер.
– Позовите его.
– Вы, сударь! – крикнул министр, едва только Марнеф переступил порог кабинета. – Вы и ваша жена умышленно разорили барона д'Эрви, здесь присутствующего.
– Извините, господин министр, я живу только на свое жалованье, а у меня двое детей, причем последний появился в моей семье по милости господина барона.
– Каков мошенник, а? – сказал князь, указывая маршалу Юло на Марнефа. – Довольно болтать, вы тут не Сганареля играете! – продолжал он. – Вы вернете двести тысяч франков или отправитесь в Алжир.
– Но вы не знаете моей жены, господин министр! Она все уже промотала. Господин барон приглашал каждый день полдюжины гостей к обеду... Мы расходовали пятьдесят тысяч франков в год.
– Удалитесь! – крикнул министр грозным голосом, прозвучавшим как команда к атаке в разгар сражения. – Через два часа получите приказ о вашем перемещении... Ступайте.
– Я предпочитаю подать в отставку, – дерзко отвечал Марнеф. – Это уж чересчур! Поставить человека в такое положение, да еще вдобавок его побить. Это мне не нравится!
И он вышел.
– Отпетый негодяй! – сказал князь.
Маршал Юло стоял неподвижно в продолжение всей этой сцены, бледный как смерть, украдкой наблюдая за своим братом; теперь он подошел к князю, взял его за руку и повторил:
– Через сорок восемь часов материальный ущерб будет возмещен, но честь!.. Прощай, маршал! Это последний, смертельный удар! Да, я этого не переживу, – прибавил он шепотом.
– Зачем же ты, черт возьми, пришел ко мне? – спросил взволнованный князь.
– Я пришел ради его жены, – отвечал граф, указывая на Гектора. – Она осталась без куска хлеба... а теперь...
– У него есть пенсия.
– Пенсия в закладе.
– Седина в бороду, а бес в ребро! – сказал князь, пожимая плечами. – Каким зельем опаивают вас эти бабы, что вы теряете рассудок? – обратился он к Юло д'Эрви, – На что вы надеялись? Ведь вы знали, с какой щепетильной точностью французские административные органы все учитывают, все протоколируют, изводят целые стопы бумаги, чтобы занести в приход и расход какие-то сантимы? Ведь вы сами плакались, что нужна сотня подписей, чтобы провести самое пустячное дело: отпустить какого-нибудь солдата или купить скребницы для лошадей... Как же вы могли надеяться, что хищение долгое время останется не раскрытым?.. А газеты? А завистники! А люди, которые сами не прочь нагреть себе руки! Или эти бабы вконец лишают вас здравого смысла? Чем это они вам глаза отводят? Или вы созданы иначе, чем мы? Надо было уйти из управления, отказаться от государственной деятельности, раз вы уж не человек, а какая-то сплошная похоть! Помимо преступления вы натворите еще кучу глупостей и кончите... не хочу говорить где...
– Обещаешь мне позаботиться о ней, Коттен? – спросил граф Форцхеймский, который не мог слышать их разговора и думал только о своей невестке.
– Будь покоен! – сказал министр.
– Ну, спасибо, и прощай! Идемте, сударь, – сказал маршал Юло брату.
Князь, наружно спокойный, смотрел вслед братьям, столь несхожим между собою и по внешности, и по душевному складу: один – храбрец, другой – трус, один – пуританин, другой – сластолюбец, один – честный, другой – казнокрад; и он подумал: «У этого труса не хватит духа умереть! А у бедняги Юло, человека безукоризненно честного, смерть уже стоит за плечами!»
Он сел в кресло и погрузился в чтение депеш, присланных из Алжира.
Во всех его движениях сказывалось хладнокровие полководца и вместе с тем глубокое сострадание, которое вызывает картина поля битвы; ибо военные люди, как бы ни были они суровы с виду, на самом деле глубоко человечны, и нас не должно обманывать их мнимое бесстрастие, которое порождается привычкой к боевой обстановке и необходимо солдату на поле сражения.
На другой день в некоторых газетах под разными рубриками появились следующие сообщения:
«Барон Юло д'Эрви подал в отставку. Причиной его решения явились непорядки в отчетности алжирского отделения интендантства, обнаруженные в связи со смертью одного из чиновников и бегством другого. Узнав о проступках этих лиц, которым он имел несчастье довериться, барон Юло был так потрясен, что с ним тут же, в кабинете министра, случился апоплексический удар.
У господина Юло д'Эрви, брата маршала Юло, сорок пять лет беспорочной службы. Его решение выйти в отставку, от которого все тщетно его отговаривали, было принято с сожалением всеми, кто знал барона Юло и ценил его таланты администратора и его высокие личные достоинства. Всем памятны также его заслуги на посту главного комиссара по снабжению императорской гвардии в Варшаве и его самоотверженная деятельность как организатора различных служб армии, спешно созданной в 1815 году Наполеоном.
Итак, еще один из славных представителей наполеоновской эпохи сходит со сцены. С 1830 года и до последнего дня господин барон Юло состоял непременным членом Государственного совета и являлся одним из светил военного министерства».
«Алжир. – Так называемое провиантское дело, нелепо раздутое некоторыми газетами, закончилось смертью главного виновника, некоего Иоганна Виша, который покончил с собою в тюрьме; его сообщник бежал, но будет судим заочно.
Виш, бывший поставщик армии, был честный и весьма уважаемый человек; он не мог примириться с мыслью, что его обманул сбежавший Шарден, смотритель складов».
А в «Парижских новостях» было напечатано:
«Господин маршал, военный министр, во избежание в будущем каких-либо непорядков решил учредить особое провиантское управление в Африке. Как говорят, организация этого дела будет поручена столоначальнику министерства, господину Марнефу».
«В связи с вопросом о преемнике барона Юло разгорелись страсти многих честолюбцев. Должность эта, по нашим сведениям, обещана графу Марсиалю де Ла Рош-Югону, депутату, зятю графа де Растиньяка. Господин Массоль, докладчик дел в Государственном совете назначается членом Государственного совета, а господин Клод Виньон – докладчиком дел».
Из всех пород уток опаснее всего для оппозиционных газет утка официальная. Как бы ни были хитры журналисты, они зачастую бывают вольно или невольно одурачены ловкой игрой своих же коллег, которые, подобно Клоду Виньону, из журналистики перешли в высокие правительственные сферы. Газету могут победить только журналисты. Поэтому должно сказать, перефразируя Вольтера: «Парижские новости» совсем не то, за что их принимают наивные люди.
Маршал Юло повез к себе своего брата, который поместился на передней скамейке кареты, почтительно предоставив заднее место старшему брату. Братья не обменялись ни единым словом. Гектор был совершенно подавлен. Маршал весь сжался, словно в великом напряжении собирал душевные силы, чтобы выдержать сокрушительный удар. Войдя в свой особняк, он молча, повелительным жестом приказал брату следовать за собой в кабинет. Некогда граф получил от императора Наполеона пару великолепных пистолетов изделия Версальского завода, они хранились в ларце с выгравированной надписью: «Даровано императором Наполеоном генералу Юло». Вынув из конторки ларец и указав на него брату, старик сказал:
– Вот твое лекарство.
Лизбета, наблюдавшая эту сцену через приотворенную дверь, бросилась к карете и приказала кучеру скакать во весь опор на улицу Плюме. Минут через двадцать она привезла баронессу, которую предупредила об опасности, угрожавшей барону со стороны брата.
А тем временем маршал, не удостаивая Гектора ни одним взглядом, позвонил; явился его фактотум, старый солдат, служивший ему тридцать лет.
– Скороход, – сказал ему маршал, – привези ко мне моего нотариуса, а также графа Стейнбока, мою племянницу Гортензию и биржевого маклера. Теперь ровно половина одиннадцатого; надо, чтобы все они были тут к двенадцати часам. Нанимай извозчиков и гони единым духом! – добавил он, вспомнив излюбленное республиканцами выражение, которое в былые времена не сходило у него с языка.
И он состроил грозную гримасу, которой, бывало, призывал солдат к вниманию, когда им приходилось в 1799 году прочесывать бретонские кустарники (см. «Шуаны»).
– Слушаюсь, маршал, – сказал Скороход, отдавая честь.
Старик, воротившись в кабинет и по-прежнему не обращая внимания на брата, достал из конторки ключ и отпер малахитовую шкатулку, изнутри окованную сталью, дар императора Александра. В свое время ему довелось, выполняя приказание императора Наполеона, вручить русскому императору некоторое личное имущество, захваченное в сражении при Дрездене; взамен этого Наполеон надеялся получить Вандама[92]92
Вандам – наполеоновский генерал; попал в плен к союзникам в 1813 г. после поражения под Кульмом; был освобожден после Парижского мира (30.V.1814 г.).
[Закрыть]. Царь щедро вознаградил генерала Юло, подарив ему эту шкатулку; при этом он сказал, что надеется в будущем оказать французскому императору такую же любезность, но Вандама не отдал. На крышке шкатулки, оправленной в золото, был русский императорский герб тоже из золота. Маршал пересчитал банковые билеты и червонцы, хранившиеся в шкатулке; у него оказалось сто пятьдесят две тысячи франков. Старик вздохнул с облегчением. В эту минуту вошла г-жа Юло; при взгляде на нее дрогнули бы сердца самых суровых судей. Она бросилась к Гектору, глядя, как безумная, то на ларец с пистолетами, то на маршала.
– Что вы имеете против брата? Что сделал вам мой муж? – крикнула она таким пронзительным голосом, что маршал расслышал ее слова.
– Он обесчестил нас всех! – с трудом проговорил старый солдат Республики, растравляя этими словами свою рану. – Он обокрал государство! Он сделал мне ненавистным мое собственное имя; он заставляет меня желать смерти, он убил меня... Силы у меня достанет лишь на то, чтобы возместить похищенное!.. Я был опозорен перед князем Виссембургским, ибо этого человека, которого я уважаю превыше всех, как Конде Республики, я несправедливо обвинил во лжи!.. Разве, по-вашему, этого мало? Вот счет, который предъявляет ему отечество!
Старик отер слезу.
– Теперь о его семье! – продолжал он. – Он вырывает у вас из рук кусок хлеба, который я для вас приберегал, плод тридцатилетней экономии, сбережения старого солдата! Я предназначал это для вас! – сказал он, указывая на банковые билеты. – Он убил своего дядю Иоганна Фишера, благородного и достойного сына Эльзаса, который, не в пример ему, не мог вынести мысли, что его честное крестьянское имя будет запятнано. Наконец господь, по неизреченной своей милости, позволил ему избрать среди женщин сущего ангела! Ему выпало неслыханное счастье иметь женой Аделину! И он изменил ей, отравил ей жизнь, променял ее на распутниц, потаскух, плясуний, актрис, на всяких Кадин, Жозеф, Марнеф!.. И этого человека я называл своим сыном, своей гордостью! Уходи же, несчастный, раз ты миришься с жизнью, которую ты сам опозорил, уходи прочь! Я не в силах проклясть брата, ведь я так любил его и так же был слаб в отношении его, как и вы, Аделина; но пусть он больше не попадается мне на глаза. Я запрещаю ему присутствовать на моих похоронах, следовать за моим гробом. Пусть преступник испытает хоть стыд за содеянное, если он не чувствует угрызений совести...
Маршал сделался бледен и упал на диван, обессиленный своей торжественной речью. Может быть, впервые в жизни у него на глазах показались слезы и скатились по щекам двумя крупными каплями.
– Бедный мой дядюшка Фишер! – вскричала Лизбета, прикладывая платок к глазам.
– Брат! – сказала Аделина, опускаясь на колени перед маршалом. – Вы должны жить ради меня. Помогите мне примирить Гектора с жизнью, чтобы он мог искупить свои грехи...
– Искупить? – повторил маршал. – Да если этот преступник останется в живых, он снова нас опозорит. Человек, который не умел ценить Аделины и угасил в себе чувства истинного республиканца, любовь к родине, к семье и бедному люду, все то, что я старался ему внушить, такой человек – закоренелый негодяй, скот!.. Уведите его, если вы все еще его любите, иначе я послушаюсь голоса своей совести: заряжу пистолеты и прострелю ему голову! Убив его, я спасу вас всех, а этого человека спасу от него самого.
Старый маршал встал с таким грозным видом, что бедная Аделина вскрикнула:
– Идем, Гектор!
Она схватила мужа за руку, увела его из комнаты и вышла вместе с ним из дома маршала; барон покорно шел за женой, еле волоча ноги, так он ослабел; пришлось везти его в извозчичьей карете, а дома он сразу же слег. Несколько дней он пролежал в постели, безучастный ко всему, отказываясь от пищи, не произнеся ни одного слова. Аделина со слезами заставляла его проглотить ложку бульона; она неотлучно находилась возле его кровати, ухаживая за ним, и, из всех чувств, недавно переполнявших ее сердце, осталась лишь одна глубокая жалость.
В половине первого Лизбета, неотступно находившаяся при своем дорогом маршале, – так напугала ее происшедшая в нем перемена, – ввела к нему в кабинет нотариуса и графа Стейнбока.
– Граф, – сказал маршал, – я прошу вас подписать разрешение моей племяннице, вашей супруге, на продажу ренты, владелицей которой она является пока без права пользования доходом. – Мадмуазель Фишер, вы дадите свое согласие на эту продажу, отказавшись от вашего права на проценты?
– Да, дорогой граф, – сказала Лизбета без малейшего колебания.
– Отлично, моя дорогая, – ответил старый солдат. – Надеюсь, я еще поживу немного и успею вас вознаградить. Я не сомневался в вас: вы-то настоящая республиканка, дочь народа.
Он взял руку старой девы и поцеловал ее.
– Господин Ганнекен, – продолжал он, обращаясь к нотариусу, – составьте необходимый документ в форме доверенности. Нужно, чтобы он был готов через два часа, я хочу сегодня же продать ренту на бирже. Все облигации у графини, моей племянницы; она сейчас приедет и подпишет доверенность, как только вы ее принесете; то же сделает и мадмуазель Фишер. Граф отправится с вами и даст свою подпись в вашей конторе.
Художник, по знаку Лизбеты, почтительно поклонился маршалу и вышел.
На другой день в десять часов утра граф Форцхеймский приказал доложить о себе князю Виссембургскому и был немедленно принят.
– Ну-с, мой дорогой Юло, – сказал маршал Коттен, подавая газеты старому другу, – как видите, мы соблюли приличия... Читайте.
Маршал Юло отложил газеты на письменный стол и протянул старому товарищу двести тысяч франков.
– Вот то, что мой брат взял у государства, – сказал он.
– Что за безумие! – воскликнул министр. – Мы не можем провести по документам эту сумму, – прибавил он, взяв из рук маршала слуховую трубку и поднеся ее к самому уху старика. – Это значило бы признать казнокрадство, совершенное вашим братом, а мы уже предприняли все, чтобы замять дело...
– Распорядитесь этими деньгами, как знаете, но я не хочу, чтобы на счету фамилии Юло был хотя бы один ливр, украденный у государства, – сказал граф.
– Я испрошу указаний короля на сей предмет. Не будем больше говорить об этом, – отвечал министр, не надеясь переломить благородное упрямство старика.
– Прощай, Коттен, – сказал Юло, пожимая руку князю Виссембургскому, – чувствую, что у меня сердце холодеет.
Потом, сделав шаг к двери, он оборотился, поглядел на князя, и оба бросились друг другу в объятия.
– Прощай! – сказал маршал. – Я как будто прощаюсь со всей великой армией...
– Прощай же, мой добрый старый товарищ! – сказал министр.
– Да, прощай, ибо я иду туда, где встречу всех наших солдат, которых мы оплакивали...
В это время вошел Клод Виньон. Два старых обломка наполеоновской армии степенно раскланялись друг с другом, согнав с чела всякий след волнения.
– Надеюсь, вы довольны газетами, князь? – сказал будущий докладчик прошений. – Мне удалось внушить оппозиционным газетам, будто они предали гласности самые наши сокровенные тайны...
– К несчастью, все это уже бесполезно, – сказал министр, провожая глазами маршала, проходившего через приемную. – Я только что с великой болью сказал последнее «прости» своему старому соратнику. Маршал Юло не проживет и трех дней. Я это, впрочем, и вчера понял. Человек, почитавшийся образцом честности, солдат, которого и пули щадили, несмотря на его беззаветную храбрость... вот тут... на этом кресле... получил смертельный удар, да еще от моей руки, – от клочка бумаги!.. Позвоните и прикажите подать мне карету. Я еду в Нейи, – прибавил он, пряча в портфель двести тысяч франков.
Несмотря на заботливый уход Лизбеты, маршал Юло спустя три дня скончался. Такие люди делают честь партии, к которой они принадлежат. Для республиканцев маршал был идеалом патриотизма, и все они присутствовали на его похоронах, собравших несметную толпу народа. Армия, министерство, двор, народ – все пришли отдать последний долг человеку высокой доблести, безупречной честности, воину, покрывшему себя неувядаемой славой. Не всякий удостоится того, чтобы его провожал в могилу народ. Похороны маршала Юло были отмечены одним из тех проявлений тонкости чувства, хорошего вкуса и доброго сердца, которые нет-нет да и напомнят о заслугах и славе французского дворянства. За гробом маршала шел старый маркиз де Монторан, брат того Монторана, который во время восстания шуанов в 1799 году был противником – и несчастным противником – Юло. Маркиз, павший под пулями синих[93]93
Синие – так называли во время Французской буржуазной революции XVIII в. республиканские войска; они носили синюю форму.
[Закрыть], умирая, доверил заботы о состоянии своего юного брата солдату Республики (см. «Шуаны»). Юло так добросовестно отнесся к устному завещанию дворянина, что спас имение молодого человека, бывшего тогда в эмиграции. Поэтому старое французское дворянство не преминуло воздать честь солдату, который за девять лет перед тем победил герцогиню Беррийскую[94]94
«...победил герцогиню Беррийскую». – В 1832 г. герцогиня Беррийская сделала неудачную попытку поднять восстание в Вандее против Луи-Филиппа, чтобы доставить престол своему сыну, внуку Карла X, представителю старшей ветви Бурбонов.
[Закрыть].
Эта смерть, случившаяся за четыре дня до последнего оглашения брака маршала с Лизбетой, была для нее ударом молнии, уничтожившей и жатву и житницу. Как это часто случается, дочь Лотарингии хватила через край. Маршал умер от ударов, нанесенных семье Юло ею же самой вкупе с г-жой Марнеф. Ненависть старой девы, казалось бы утоленная успехами, вдруг возросла от всех ее обманутых надежд. Лизбета отправилась выплакать свою злобу у г-жи Марнеф, ведь она осталась теперь без крова, ибо маршал арендовал дом лишь пожизненно. Кревель, желая утешить друга своей Валери, взял ее сбережения, великодушно удвоил их и поместил весь этот капитал в пятипроцентную ренту, предоставив Лизбете право пользования доходом, а право собственности закрепив за Селестиной. Благодаря такой операции Лизбета сделалась пожизненной обладательницей двух тысяч франков годового дохода. В бумагах маршала нашли записку, адресованную его невестке, племяннице Гортензии и племяннику Викторену, в которой он обязывал всех троих выплачивать ежегодно и пожизненно тысячу двести франков мадмуазель Лизбете Фишер, которая должна была стать его супругой.
Аделине удавалось в течение некоторого времени скрывать кончину маршала от барона, который находился между жизнью и смертью; но через одиннадцать дней после похорон Лизбета явилась в трауре, и роковая истина открылась Гектору. Этот страшный удар пробудил в больном энергию, вернул ему силы; он встал, прошел в гостиную, где собралась его семья, одетая в траур. Все умолкли при его появлении. За две недели барон Юло обратился в скелет, так он исхудал, и теперь перед глазами близких была лишь его тень.
– Надо незамедлительно принять решение, – сказал он слабым голосом, опускаясь в кресло и оглядывая собравшихся, среди которых не было Кревеля и Стейнбока.
– Мы не можем больше оставаться здесь, – говорила Гортензия в ту минуту, когда отец вошел, – квартира слишком дорога...
– Что касается квартиры, – сказал Викторен, нарушая тягостное молчание, – я предлагаю нашей матери...
Услыхав эти слова, исключавшие отца из круга семьи, барон оторвал от ковра свой взгляд, рассеянно скользивший по блеклым его цветам, поднял голову и жалобно посмотрел на адвоката. Так священны права отца, даже если он низок и опозорен, что Викторен умолк на полуслове.
– Вашей матери?.. – повторил барон. – Вы правы, мой сын!
– Квартиру над нами, в нашем особнячке, – закончила Селестина фразу, начатую мужем.
– Я вам в тягость, дети?.. – сказал барон с кротостью человека, который сам себя осудил. – О, не тревожьтесь за будущее! Вам больше не придется жаловаться на своего отца, он предстанет перед вами только тогда, когда вам уже нечего будет краснеть за него.
Он подошел к Гортензии, взял ее за плечи и поцеловал в лоб. Затем открыл объятия сыну, и тот с отчаянием бросился к отцу, угадывая его намерения. Барон знаком подозвал Лизбету и, когда она подошла, тоже поцеловал ее в лоб. Потом он удалился в спальню, куда за ним последовала Аделина, крайне встревоженная.
– Мой брат был прав, Аделина, – сказал он, взяв ее руку. – Я недостоин жить в кругу семьи. Поведение бедных моих детей было безукоризненно, но я не посмел благословить их открыто. Я только осмелился прижать их к своему сердцу. Объясни им это. Ведь благословение бесчестного отца, ставшего убийцей, бичом своей семьи, тогда как он обязан быть ее покровителем и гордостью, – такое благословение может навлечь только беду. Но я буду благословлять их издали, каждодневно. А тебя, Аделина, один господь бог, ибо он всемогущ, может вознаградить в меру твоих заслуг! Прости меня, – сказал он, опускаясь на колени перед женой и обливая ее руки слезами.
– Гектор! Гектор! Велики твои грехи, но милосердие божие бесконечно, и, оставшись со мной, ты можешь еще все исправить. Друг мой, вспомни, что ты христианин, и воспрянь духом... Я тебе жена, а не судья. Я твоя вещь, делай со мной все, что захочешь, веди меня туда, куда сам пойдешь, я найду в себе силы утешить тебя; моя любовь, мои заботы и уважение скрасят твою жизнь... Наши дети устроены, они больше не нуждаются во мне. Позволь мне попробовать быть твоей утехой, твоей забавой. Позволь мне разделить с тобою горесть изгнания, нищеты, облегчить твою жизнь. Я тебе на что-нибудь да пригожусь, – ну, хоть избавлю тебя от расходов на служанку...
– Прощаешь ли ты меня, моя дорогая, любимая моя Аделина?
– О да! Но встань же, мой друг!
– Ну, Аделина, твое прощение дает мне силу жить! – продолжал он, подымаясь с колен. – Я ушел сюда, в спальню, чтобы дети не были свидетелями моего унижения. Ах, каково им постоянно видеть преступного отца! Страшное зрелище, которое в корне подрывает отцовскую власть, разрушает семью. Поэтому я не могу оставаться с вами, я ухожу, чтобы избавить вас от присутствия отца, опозорившего себя, отца, лишенного достоинства. Не противься моему бегству, Аделина. Ведь не захочешь же ты своими руками зарядить пистолет, которым я размозжу себе череп... Не следуй за мной, Аделина, иначе ты лишишь меня единственной нравственной опоры: угрызений совести.
Настойчивость Гектора вынудила умолкнуть Аделину, сраженную горем. Эта женщина, обнаружившая истинное величие души перед лицом стольких бедствий, черпала стойкость в надежде на соединение с мужем; она твердо верила, что он будет принадлежать только ей и перед ней откроется высокая миссия быть его утешительницей, вернуть его в лоно семьи, примирить с самим собой.
– Гектор, ты хочешь, стало быть, чтобы я умерла от отчаяния, тоски, тревоги?.. – сказала Аделина, видя, что она лишается последнего источника мужества.
– Я возвращусь к тебе, ангел мой, сошедший с небес, наверно, лишь ради меня! Я возвращусь к вам, если не богатым, то по меньшей мере обеспеченным. Послушай, хорошая моя Аделина, я не могу оставаться здесь по тысяче причин. Прежде всего моя пенсия, исчисляемая в шесть тысяч франков, заложена на четыре года: значит, у меня нет ничего. Но это еще не все! Через несколько дней мне грозит арест из-за векселей, выданных мною Вовине... Итак, я должен исчезнуть до тех пор, пока мой сын, которому я дам точные инструкции, не выкупит этих векселей. Мое исчезновение поможет делу. Когда моя пенсия очистится, когда Вовине будет заплачено, я возвращусь к вам... А с тобой мне было бы трудно сохранить тайну моего изгнания. Будь покойна, не плачь, Аделина... Речь идет лишь о каком-нибудь месяце...
– Куда ты денешься? Что будешь ты делать? Кто позаботится о тебе? Ведь ты уже не молод! Позволь мне скрыться вместе с тобой, мы уедем за границу, – сказала она.
– Хорошо, там увидим, – отвечал он.
Барон позвонил, отдал Мариетте приказание собрать его вещи и, не подымая шума, уложить их поскорее в дорожный баул. Потом, поцеловав жену с непривычною для нее нежностью, попросил на минуту оставить его одного, чтобы он мог написать письмо с указаниями для Викторена; при этом он обещал жене, что не покинет дома раньше ночи и непременно возьмет ее с собой. Не успела баронесса вернуться в гостиную, как хитрый старик прошмыгнул через туалетную комнату в переднюю и вышел на улицу, передав Мариетте клочок бумаги, на котором он написал; «Вышлите мои чемоданы по железной дороге в Корбей на имя господина Гектора, до востребования». Когда Мариетта подала баронессе записку, сказав, что барин только что вышел из дома, он уже катил по Парижу в фиакре. Аделина бросилась в спальню, охваченная сильнейшей дрожью. Услышав ее пронзительный крик, дочь и сын в испуге побежали вслед за ней. Баронесса была без сознания, ее пришлось уложить в постель, ибо у нее началась нервная горячка, и целый месяц больная была на краю могилы.
«Где он?» – вот единственное, что от нее слышали.
Поиски, предпринятые Виктореном, оказались бесплодными. И вот почему. Барон приказал извозчику везти себя на площадь Пале-Рояль. Он уже вполне овладел собой и теперь собирался осуществить замысел, созревший в его голове в те дни, когда он, разбитый болезнью и горем, лежал в постели. Барон пешком пересек площадь Пале-Рояль и взял на улице Жокле великолепную наемную карету. По его приказанию кучер повез его на улицу Виль-л'Эвек и остановился перед воротами особняка, где жила Жозефа. На окрик кучера, восседавшего на козлах такого превосходного экипажа, ворота сразу же распахнулись. Лакей доложил госпоже, что какой-то немощный старик, не имея сил выйти из экипажа, просит ее сойти на минуту вниз. Жозефа, сгорая от любопытства, в одно мгновение сбежала с лестницы.
– Жозефа, это я!..
Знаменитая актриса узнала Юло только по голосу.
– Как? Неужели это ты, мой старичок?.. Черт побери! Да, ты стал совсем нехорош, ну точь-в-точь монета в двадцать франков, которую немецкие евреи до того подточили, что в меняльных лавках ее не принимают.
– Увы, да! – отвечал Юло. – Я вырвался из когтей смерти! А ты все так же хороша собою! Может быть, ты и добра по-прежнему?
– Смотря в чем... Все относительно! – сказала она.
– Послушай, – продолжал Юло, – не можешь ли ты приютить меня на несколько дней в мансарде, в комнате для слуг? Я оказался без денег, без надежд, без куска хлеба, без пенсии, без жены, без детей, без пристанища, без доброго имени, без капли мужества, без друга и, что хуже всего! – под угрозой долгового обязательства...
– Бедняжка! Сколько у тебя оказалось всяких «без»!.. Неужто и без штанов?
– Ты еще шутишь! Я пропал! А я-то рассчитывал на тебя, как Гурвиль на Нинон[95]95
«...а я-то рассчитывал на тебя, как Гурвиль на Нинон». – Имеется в виду рассказ о том, как некий Гурвиль, уезжая из Франции, оставил куртизанке Нинон де Ланкло на хранение большую сумму; по его возвращении она полностью вернула ему деньги.
[Закрыть]!
– И до такого состояния тебя довела, говорят, женщина из общества? – спросила Жозефа. – Эти шельмы умеют почище нас ощипывать индюков!.. Что ты теперь? Труп, обглоданный воронами!.. Одни кости остались...
– Время не терпит, Жозефа!
– Входи, мой старенький! Я одна, а люди мои тебя не знают. Отошли экипаж. Карета хоть оплачена?
– Да, – сказал барон. И он вышел из экипажа, опершись на руку Жозефы.
– Можешь назваться моим папашей, если хочешь, – сказала певица, почувствовав к нему жалость.
Она усадила барона в роскошной гостиной, где они виделись последний раз.
– Неужто это правда, старина, – продолжала Жозефа, – что ты доконал брата и дядю, разорил семью, заложил и перезаложил дом своих детей и проглотил со своей принцессой весь провиант из наших африканских складов?
Барон уныло повесил голову.
– Браво! Мне это нравится! – вскричала Жозефа в каком-то восторге и даже вскочила с кресел. – Вот так пожарище! Каков Сарданапал! Широко! Разгульно! Хоть ты и каналья, а сердце в тебе есть. Люблю я таких мотов, как ты, таких одержимых сладострастников! Что толку в этих бездушных, замороженных банкирах? Смотрят святошами, а как начнут прокладывать железные дороги, разорят своими махинациями тысячи семейств. Для них-то самих эти рельсы – чистое золото, а простофиль они пускают по шпалам! А ты что сделал? Разорил? Так только своих близких! Погубил? Так только себя! И потом, у тебя есть оправдание и физическое и нравственное...
Она приняла трагическую позу и проскандировала:
То Венера сама неотступно преследует жертву свою!
– Фюить! – прибавила она, повернувшись на одной ножке.
Порок отпускал грехи Юло. Порок улыбался ему среди своей сумасшедшей роскоши. Даже самая тяжесть преступления служила тут, как и в суде присяжных, смягчающим обстоятельством.
– А хороша хоть она собою, твоя женщина из общества? – спросила певица, милостиво пробуя для начала развлечь Юло.
– Не так хороша, как ты, но хороша, ей-ей! – тонко польстил барон.
– И, как слышно... большая искусница? Что она с тобой проделывала? Она, пожалуй, и меня перещеголяет?







