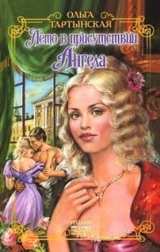
Текст книги "Лето в присутствии Ангела"
Автор книги: Ольга Тартынская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Вы подсматривали? Как это неблагородно!
Мещерский покраснел.
– Я стоял у окна и видел вас выбегающей из беседки, что в саду. Следом вышел он, явно смущенный. Вы оба были изрядно взволнованы, не похоже, чтобы говорили о погоде или о сенокосе.
Даму рассердил этот приступ ревности.
– Может, вы и с ним будете стреляться? В добрый час!
Nikolas, еще больше темнея, произнес сквозь зубы:
– Возможно.
Лизавета Сергеевна в негодовании хлопнула дверью.
В последние дни Мещерский совсем перестал спать, был непокоен, и доктор Крауз заметил, что это плохо влияет на процесс лечения, препятствует окончательному его выздоровлению. Лизавета Сергеевна понимала причину беспокойства и метаний Nikolas, она снова испытывала чувство вины.
И вот как-то Крауз, внимательно глядя даме в глаза, произнес:
– Нашему герою пора возвращаться, вы понимаете, о чем я говорю? Тогда он сможет много гулять, двигаться. Пациенту необходим свежий воздух, прогулки в лесу. Если рана будет беспокоить, и это вызовет подозрения у окружающих, скажет, что… упал с лошади, болит ребро. Что вы думаете об этом, сударыня?
– Да-да, – поспешно согласилась Лизавета Сергеевна. – Конечно, пора. Нам скоро отправляться в Москву, будет странно, если Nikolas «вернется» под самый отъезд. Завтра?
– Пожалуй. Я осмотрел больного, рана благополучно заживает, повязка не нужна, препятствий нет, – и Крауз снова внимательно и, кажется, сочувственно взглянул в ее лицо.
Это решение Лизавета Сергеевна приняла, как приговор. Конечно, так и должно поступить, пора, говорила она себе, но почему так скоро? Здесь, в ее комнате, в ее гнездышке, под ее крылышком Nikolas оберегаем от всякой опасности, от суеты и мирских дел. Завтра, уже завтра все кончится, он уйдет. И не только в свою комнату, уйдет в мир, где она не властна что-либо решать, руководить его жизнью. Она проснется утром, а подушка рядом пуста, одинокой женщине уже не нужно будет постоянно стремиться к центру мироздания – постели, где лежит беспомощный, требующий ее заботы и участия любимый…
И все же она мужественно обсудила с доктором подробности «возвращения» Nikolas. Это должно произойти рано утром, пока все спят. Можно будет сказать, что он прибыл на почтовых, а потом нанял вольных до Приютино. Где был все это время? У кузины Кати. Почему уехал поспешно: Александрова отозвали в полк, а Мещерский составил компанию, так как были дела в Петербурге, связанные с продажей дома (Лизавета Сергеевна знала, что этим занимался его отец). Впрочем, никто и не будет дознаваться, это для внутренней уверенности необходимо все продумать.
Хозяйка отправила Палашу прибрать комнату Мещерского, потом зашла туда сама, чтобы взять кое-какие его вещи для «возвращения». Вечером, перед сном, она посвятила юношу в свой план, растолковала, как следует поступать в той или иной ситуации.
– Имейте в виду, Nikolas, везде есть уши и глаза. Моя дворня таскается по гостям, к людям Волковских, все новости мгновенно облетают окрестности. Наталья Львовна и без того строит разные предположения, нельзя давать ей пищу для сплетен. Сыграйте еще одну роль, вам это удается, – заключила дама язвительно: она была расстроена скорой разлукой и тем, как обрадовался Мещерский своему освобождению.
В эту ночь она долго не гасила свечу. Nikolas, как это установилось, лежал с закрытыми глазами и старательно делал вид, что спит. Лизавета Сергеевна пыталась читать, но не понимала ни слова. Строчки расплывались от набегающих слез. Она крепилась, догадываясь, что юноша бодрствует, но дает ей возможность без стеснения устроиться на ночлег. «Рано утром он встанет и уйдет отсюда, и я опять буду одна, – с горечью думала печальная женщина. – Как близко, рядом, на расстоянии вытянутой руки он сейчас, а завтра?.. Что дальше – Бог весть, но воспоминания об этой минуте будут жечь мою память до конца дней».
Прекратив бесполезные попытки сосредоточиться на Мюссе, она с досадой задула свечу и стала переодеваться. Луна, пошедшая на убыль, заглядывала в окно и, казалось, лукаво подмигивала. Скинув пеньюар, молодая женщина по какому-то неуловимому движению, шороху ресниц почувствовала, что Nikolas смотрит на нее. Она вынула шпильки из прически, и волосы рассыпались душистым каскадом. Лизавета Сергеевна не стала водружать ночной чепец, а только быстрыми, заученными движениями собрала волосы в свободную косу. Не спеша, она облачилась в тонкую сорочку и нырнула под одеяло.
В комнате было прохладно: Лизавета Сергеевна не любила топить перед сном и не терпела жары, говоря, что в холоде лучше сохраняется. У Nikolas теперь было свое одеяло, под которым он по-прежнему предпочитал спать обнаженным.
Прочтя молитву, Лизавета Сергеевна попыталась уснуть, как это делала обычно, но сон не шел к ней. Она с тревогой ощущала, как растет где-то внутри лихорадочное волнение, подступает дрожь. Остатки сна развеялись окончательно, когда Мещерский повернулся на спину и закинул руки за голову.
Взволнованная дама исподтишка разглядывала его носатый профиль, отлично рисующийся при лунном свете. Целая симфония чувств бушевала в ее душе: тоска близкой разлуки, неизбывная нежность, восхищение, отчаяние и одновременно радость видеть его рядом и – о, глупость! – возбуждение, переходящее в сильнейшее влечение. «Последняя ночь! – стучало в ее голове. – Последняя ночь!» И потом совсем непутевая мысль мелькнула в сознании: «Ах, зачем я не выпила лафита или шабли!»
Мещерский глубоко и протяжно вздохнул «Помоги мне! – мысленно молила дама бездушного мужчину. – Помоги, ты же знаешь, как я мучаюсь. Ты не можешь этого не чувствовать, о, бессердечный!» Внутренняя борьба достигла накала, когда Nikolas, в забытьи откинув одеяло, обнажил грудь: очевидно, ему стало жарко. Лизавета Сергеевна глотала слезы и боялась шевельнуться..
– Это невыносимо! – простонала она вдруг и положила голову ему на грудь. Она услышала частый и гулкий стук его сердца, ощутила, как дрожь пронизала все его тело, когда она осторожно поцеловала след пули, затем темный сосок рядом с ним. Казалось, юноша и не думал просыпаться, но Лизавета Сергеевна понимала, что Nikolas вовсе не спит, а прислушивается и ждет, боясь ее спугнуть. Тогда она принялась ласкать губами его тело, которое мгновенно напряглось. Мещерский по-прежнему не шевелился, но дыхание его становилось прерывистым и жарким. Он вздрагивал от прикосновений ее губ, а его возлюбленная чувствовала, как в ней самой разгорается неведомый ей доселе огонь. Туманным взором она обласкала распростертого перед ней мужчину и приникла к его приоткрытым устам. Они целовались долго и исступленно, пока не пресеклось дыхание, до полного изнеможения. Теперь Nikolas окончательно ожил и долгими нежными ласками добился ее безумия…
Это безумие длилось до рассвета. Казалось, они изнемогли, испив до дна, до последней капли чашу наслаждения, но ласковые взгляды, тихие слова любви и нежные признания опять будили желание.
– Я никогда не был так счастлив, свет мой, ангел, Лиза, – шептал Nikolas, зарываясь в ее длинные волосы, рассыпанные по подушке. – Я даже не знал, что можно так любить. Богиня моя, радость, счастье…
Женщина ласкала его руки, целовала родинки на лице и тоже шептала:
– Хороший мой мальчик, сердечко мое, жизнь моя…
И снова поцелуи, объятья, желание слиться, проникнуться друг другом навсегда, навечно…
До рассвета они не сомкнули глаз, будто боялись, что эта ночь окажется только сном.
– Неужели я сейчас очнусь, и ты не исчезнешь, как это было уже не раз? – спрашивал по-детски беззащитный в своей открытости Мещерский. – О, моя Лиза, моя чудная, маленькая Лиза…
– Я не исчезну, мой ангел, но тебе пора, – грустно улыбаясь, сказала Лизавета Сергеевна, заметив, что стало совсем светло.
– Нет, еще рано. Поцелуй меня, не уходи, еще чуть-чуть… – томно шептал Nikolas, целуя ее глаза, шею, губы. Лизавета Сергеевна с горечью подумала: «Ну, просто сцена из „Ромео и Джульетты“, только теперешняя Джульетта в три раза превосходит возрастом шекспировскую!»
– Ты еще совсем юн, – тихо сказала она, – и не знаешь, что страсти опасны, губительны, они не приносят добра.
– А любовь? Разве любовь не оправдывает все?
– Любовь, а не страсть.
– А разве это не одно и то же?
– Нет, любовь истинная жертвенна, а не жадна. В истинной любви человек любит для другого, но не для себя…
– А как же это: «Возлюби ближнего, как самого себя»? Получается, если себя не любишь, то не способен и другого полюбить!
Лизавета Сергеевна поцеловала его в макушку.
– Я боюсь, Николенька. Боюсь ошибки, боюсь этой страсти, этого безумия. Не ошибаемся ли мы?
– Нет. Не случись этого сегодня, я бы сошел с ума. Выходит, ты – мой спаситель.
– Не кощунствуй, дружочек, – прикрываясь одеялом, она подняла с полу сорочку, накинула пеньюар. – Тебе пора. Умойся, я солью тебе воду. – Она взялась за тяжелый кувшин и придвинула таз.
– Нет, я пойду искупаюсь. И надо это убрать, – он провел рукой по обросшей щеке.
– Поздно, тебя заметят, – не согласилась дама.
Умывшись и одевшись, Nikolas отправился восвояси. На прощание он сжал ладонями ее лицо, нежно поцеловал в губы и спросил:
– Я еще приду сюда?
Лизавета Сергеевна ничего не смогла ответить на это. С приходом дня все опять становилось запутанным, неясным.
Наскоро приведя себя в порядок, прибрав постель и открыв окно, Лизавета Сергеевна вызвала горничную. С ее помощью она причесалась и оделась к завтраку. Когда все было готово, хозяйка предупредила Палашу, что Nikolas «вернулся».
– Ну, так известное дело: они с барчуком на озеро пошли.
– Как? – Лизавета Сергеевна, уже встав, снова село в кресло.
– Да оченно просто. Я еще было удивилась: холодно и вода, как лед. А Петя и отвечают: «Нам это как раз и надо!»
– Ничего не понимаю, – пробормотала Лизавета Сергеевна и отправилась в столовую, куда постепенно стекался сонный народ. Все были в сборе за исключением Пети и Nikolas. Переглянувшись с доктором, который был серьезен и замкнут, как обычно по утрам, хозяйка непринужденно объявила:
– Думаю, вас обрадует известие, что Nikolas Мещерский вернулся.
– Наконец-то! Чудесно, чудесно! – захлопала в ладоши Аннет.
Маша удивленно подняла брови и спросила:
– И где он?
– Возможно, отдыхает после дороги, – предположил Крауз.
– Да нет же! Маменька, они с Петей ушли на озеро закаляться в холодной воде, – радостно сообщила Аннет.
У Лизаветы Сергеевны пропал аппетит. Что-то здесь нет так, очень уж скоро дети все узнали. Когда же в столовой, наконец, объявились недостающие в прекрасном расположении духа и разрумяненные купанием и прогулкой, Лизавета Сергеевна впилась вопросительным взглядом в Мещерского. Тот ответил ей нежной улыбкой и набросился на холодную телятину и Маврины пироги с восхитительным, здоровым аппетитом, равно как и Петя.
– По нашим приметам сегодня не будет дождя, – уверенно сообщил осведомленный Петя в промежутках между едой. – Можно устроить верховую прогулку или пикник.
– Только не верховую прогулку! – воскликнула Лизавета Сергеевна, а Nikolas лукаво улыбнулся. Решили устроить обед где-нибудь на озере, поиграть в горелки или лапту, испечь на костре картошку.
После завтрака Лизавета Сергеевна призвала к себе младших детей и напрямик спросила, как они узнали о возвращении Nikolas? Дети замялись, переглядываясь, затем Аннет не выдержала и выпалила:
– Маменька, ты только не сердись, но мы знали, что Nikolas здесь.
– Как?!
– Это только я и Петя, ей-Богу, маменька, больше никто!
– Рассказывайте.
Слушая их сбивчивую, путаную речь, Лизавета Сергеевна в который уже раз подумала с сожалением: «Как мало мы, родители, знаем о своих детях! Они живут какой-то своей, сложной жизнью, и получается, мы ничего о ней не знаем…»
Дети, перебивая и дополняя друг друга, поведали следующее. Когда разъехалась молодежь, и в доме поселилась тишина, они заскучали. Маменька постоянно была занята и чем-то озабочена, Маша сердилась на Крауза и занималась только им, кузены играли в карты… и все так. Аннет как-то упросила Петю поиграть с ней в прятки на втором этаже и в поисках удобного места нарушила негласный запрет – вошла в маменькину спальню. Она очень удивилась, обнаружив там спящую в креслах Палашу. Бесшумно прокравшись мимо нее, Аннет спряталась за ширму. Тут она услышала какие-то звуки со стороны кровати. За пологом, который был задернут, явно кто-то скрывался. Это, конечно, не могла быть маменька: девочка только что встретила ее в гостиной. Заинтригованная и испуганная Аннет осторожно приоткрыла полог и застыла от изумления. Менее всего она готова была видеть здесь Мещерского. Nikolas смотрел на нее улыбающимися глазами, но был страшно бледен, а грудь его – перевязана. Будучи вполне сообразительным ребенком, Аннет обо всем догадалась. Nikolas приложил палец к губам, призывая молчать. Девочка кивнула головой и, гордая, что несет с собой взрослый секрет, выскользнула из комнаты.
Но оказалось, что обладать секретом одной – трудно и совсем неинтересно. И вот однажды, когда Петя в очередной раз попенял Мещерскому за его несвоевременное исчезновение, она не выдержала и, заставив Петю побожиться, что не продаст, открыла свою тайну. Петя, конечно, тут же захотел увидеть Мещерского своими глазами и убедиться, что это не розыгрыш, на которые Аннет была большая мастерица. Они выбрали момент, когда все оказались заняты, и проникли в маменькину спальню. Nikolas обрадовался Пете. потому что скучал по нему. С тех пор дети часто навещали больного, скрашивая его одиночество и заточение.
– И вы мне ничего не сказали! – с горьким упреком воскликнула Лизавета Сергеевна.
– Маменька, прости нас, мы хотели, – серьезно ответил Петя, – но Nikolas просил ничего не говорить, потому что это тебя расстроит.
– Ах, этот Nikolas…
Дети были полны раскаяния и сожаления, она видела это, и отпустила их с Богом, больше ничего не сказав. Однако при первом удобном случае выговорила Мещерскому:
– Вы втянули детей в интригу!
– Это получилось совершенно случайно! Лиза, не сердись, не смотри на меня так холодно, – он попытался обнять даму, но Лизавета Сергеевна, испуганно оглянувшись по сторонам, выскользнула из его рук.
– Мещерский, вы невыносимы, – сказала она с безопасного расстояния. В голосе дамы уже не чувствовалось напряжения, она едва сдерживала улыбку. – С вами невозможно говорить серьезно.
– Так лучше поцелуй! – Nikolas опять приблизился так, что Лизавете Сергеевне пришлось спасаться за роялем (это происходило в гостиной). Затем последовала беготня за креслами, когда же Мещерский настиг свою жертву, открылась дверь, и в гостиную заглянула Маша. Она удивленно спросила:
– Что вы делаете? Я слышала такой шум.
– Разучиваем танец, – нашелся Nikolas. – Я показываю вашей маменьке фигуры польского. Вот так, мадам, чуть-чуть ближе, обнимите меня…
Маша исчезла. Лизавета Сергеевна свалилась в кресла от хохота. Мещерский воспользовался этой брешью в обороне и украл нежнейший поцелуй.
– Подите прочь, коварный повеса. Вы ввергнете меня в беду, – говорила дама, – А ну как вздумается сейчас кому-нибудь войти, что сочините вы на сей раз?
Мещерский и тут нашелся:
– Что вам стало плохо, и я решил ослабить шнуровку, вот здесь… И вот здесь…
– Нет, вы окончательно несносны, – Лизавета Сергеевна спаслась бегством. Оглянувшись посмотреть, нет ли погони, она увидела, как Мещерский, страшно побледнев и схватившись за грудь, оседает в креслах.
– Что? Что? – немедленно бросилась к нему Лизавета Сергеевна.
– Дышать… трудно, – еле выговорил Nikolas и потерял сознание.
Мужественная дама немедленно послала за доктором, его нашли не сразу, за это время Лизавета Сергеевна пережила все стадии отчаяния и страха, пытаясь привести юношу в чувство. Явившийся доктор дал ему нюхательной соли, растер виски, озабоченно прослушал пульс.
– Что это я, как кисейная барышня… – с трудом проговорил Мещерский, едва очнулся.
– Молчите же! – сердито прикрикнула Лизавета Сергеевна. – Это все ваши преждевременные купания, беготня.
– Ну что ж, – задумчиво проговорил Крауз, – после такой раны можно ожидать чего угодно. Боюсь, как бы не было осложнений. Вам надо поберечься, милостивый государь, если хотите окончательно излечиться. Потерпите уж.
Вряд ли он имел в виду то, о чем подумала, покраснев. Лизавета Сергеевна: она мысленно божилась, что те несколько оставшихся до отъезда дней будет беречь его покой и здоровье, как зеницу ока. Препроводив Nikolas в его комнату, она обсудила с доктором возможность участия Мещерского в намеченном пикнике.
– Если коляска достаточно покойна, почему бы нет. Ему надо чаще бывать на свежем воздухе, – ответил Крауз.
Пока идут сборы, Лизавета Сергеевна предложила доктору выпить кофе. Они расположились в гостиной.
– Я давно собираюсь спросить вас, но все недосуг, что у вас теперь с Машей, после той истории? Вам удалось ее успокоить, судя по всему.
Крауз побарабанил пальцами по столику, затем рассказал:
_ Вы знаете, какая у Марьи Владимировны деликатная природа: чуть что – в обиду. Увидев нас тогда в вашем будуаре, она, конечно, подумала самое худшее. А мне, как назло, ничего убедительного не пришло в голову, чтобы соврать. Да и не умею я. Марья Владимировна не желала меня слушать, кричала, что больше не хочет видеть меня в доме, и потребовала, чтобы я немедля уехал. Я подчинился. После мне принесли письмо, в коем Марья Владимировна выражала сожаление о происшедшем и просила вернуться. Мы больше не обращались к этой истории, но днями она меня снова спросила, что же было тогда. Я не знал, что ей отвечать, и Марья Владимировна явно собирается надуться, а это очень некстати, вы понимаете.
– Я думаю, Иван Карлович, теперь можно все рассказать о Nikolas. Меж вами не должно быть неясности, иначе нельзя идти под венец. Тем более что младшие дети давно все знают. Было наивностью полагать, что они глупее нас.
– Итак, – без лишних вопросов подвел итог Крауз, – я теперь же иду к Марье Владимировне и рассказываю ей обо всем. Мерси, мадам, это очень облегчит мне жизнь. – Поцеловав даме руку, он очень скоро удалился.
Сборы, наконец, закончились, и два экипажа двинулись по проселочной дороге. Стоял один из самых любимых августовских дней, когда небо звенит синевой, солнце не жжет, а нежно ласкает, и ветер зовет далеко-далеко…
Все были веселы, пели, смеялись, только Nikolas слегка бледнел, если коляска прыгала на ухабах, и Лизавета Сергеевна грустнела, примечая это. Речь зашла об охоте: проезжали поле, знаменитое мелкой живностью и крупными птицами. Бывало, из-под ног выпархивали грузные тетерки, а то и тяжелые глухари взмывали вверх и прятались на деревьях. В глазах Мещерского зажегся азартный огонек:
– Какова здесь охота зимой?
– В любое время прекрасная, – ответила Лизавета Сергеевна. – Если случалось жить в эту пору в Приютино, покойный муж не вылезал из седла по осени, а зимой любил ходить в лес с проводником.
Выгрузились у одного из многочисленных озер. Петя с кузенами бросился в лес за хворостом и дровами для костра, девочки занялись корзинками с провизией, расстилали скатерть, доставали бутылки вина.
– Только умоляю: никаких купаний! – громко сказала Лизавета Сергеевна. – В эту пору вода уже не прогревается, как бы вам не казалось жарко.
Впрочем. никто, кажется, и не покушался. Потянуло дымком, хлопнула пробка от шампанского, закуски были разложены на импровизированном столе. Дети бегали, шалили, смеялись, а Лизавета Сергеевна наблюдала за ними в какой-то блаженной полудреме, укрывшись зонтиком и покачиваясь в плетеном кресле. «Остановись, мгновенье!» – думала она вслед за Гете. Мещерский возлежал на ковре, под который Тимошка напихал наломанного саморучно лапника, от сырости и холода. Потягивая вино, Мещерский не сводил глаз с дремлющей женщины. От этого взгляда исходило столько любования, нежности и тепла, что в его лучах она чувствовала себя необыкновенно уютно и спокойно.
Из коляски достали гитару, Nikolas перебирал струны, настраивая ее, и, не успели ему запретить это делать, запел вполголоса какой-то трогательный романс. Ему не хватало дыхания, но само произведение не требовало больших усилий; благодаря этой сдержанности в манере исполнения появилось нечто чувственное, трепетное. Он не отрывал глаз от растроганной дамы, адресуя именно ей простые, незатейливые слова старого романса.
Безусловно, все почувствовали, что между этими двумя людьми происходит нечто значительное, но Лизавету Сергеевну уже не беспокоило, какое впечатление она производит. Волна музыки и любви подхватила ее и несла в неизвестность… Очнулась она, когда доктор подал ей гитару с просьбой тоже что-нибудь исполнить. Вино ли тому причиной или эта волна, но голос молодой женщины звенел чудесными переливами, легко и свободно. Когда все стихло, Мещерский взволнованно произнес:
– Так, наверное, ангелы поют в раю.
После Лизавета Сергеевна обратила внимание, что Крауз с Машей удалились на берег озера, Маша внимательно слушает жениха. Дети задумчиво расселись вокруг костра и выпекали картофель. Время от времени кто-нибудь со сладким вздохом произносил «Хорошо!» и опять замолкал. Все чувствовали, что лето кончилось…
Вечером, после тихого ужина, Лизавета Сергеевна сидела за туалетным столиком в своей комнате и читала письмо Нины. Девочка писала о том, что ждет встречи для серьезного разговора, однако не удержалась и сообщила, о чем хотела бы говорить.
– Милая маменька, – писала она, – княжна Ольга настаивает на том, чтобы я вместе с ней ехала в Петербург. Княжна уговаривает меня поступить, как и она, во фрейлины к Александре Федоровне, жить при дворе. С ее слов, это будет нетрудно, есть кому похлопотать, да и у нас ведь там папенькина сестрица, княгиня Павловская, имеет большие связи.
Маменька, в моей голове сумбур: мне и весело и страшно. И Мишель мне очень советует ехать в Петербург, ко двору. Он служит там в конногвардейцах. Маменька, Ваше слово все решит. Княжна Ольга много рассказывала, как они живут, какие праздники устраиваются при дворе, гулянья, балы. Но, маменька, это пустяки! Вы не думайте, что меня заботит только то, какие цветы приколоть к бальному платью или какую выбрать шаль. Княжна рассказывает об интересных шарадах с живыми картинами на сюжет пословицы, а к костюмированным балам стихи пишут знаменитые поэты. Гулянья в Петергофе, морские прогулки по заливу с государем и государыней, лучшие театры, концерты. Там собирается весь цвет столицы, столько умных, известных людей. Маменька, там жизнь!
Зимой мне исполняется семнадцать лет, и что дальше? Вы найдете мне богатого жениха, как Маше, я выйду замуж и все? Маменька. Мне кажется, я создана для другого! Мишель уверяет, что у меня чудесный голос (это от вас, маменька!), что я могла бы иметь успех в свете.
Помните, Вы не захотели отдать меня в Елизаветинский институт. Вы сказали, что не хотите доверить меня чужим людям, и сами дадите мне нужное воспитание. Я была маленькая, я боялась разлуки с вами и с папенькой, с братьями и сестрами. Но ведь теперь я выросла, а братья служат в Петербурге. Милая, дорогая, мне кажется, сейчас решается вся моя жизнь! Впрочем, как вы скажите, так и будет. Тетушка Алина скоро везет нас в Москву, я буду ждать вашего возвращения. Я так соскучилась, что чуть не плачу.
А Мишель завтра уезжает, и мы больше не увидимся, коли я не приеду в Петербург… Маменька, фрейлинам дают шифр, они носят особенные платья и живут при дворе, в покоях Александры Федоровны. Она такая добрая, заботливая! Жизнь фрейлин подчинена распорядку, за ними строго взирают. Вы не волнуйтесь, никакого праздномыслия. Александра Федоровна часто сама выдает замуж девиц или помогает сватовством. Фрейлины удачно выходят замуж за дипломатов, за иноземных принцев или герцогов.
Маменька, мне страшно… Неужели я и вправду выросла и больше не ваша маленькая, глупенькая Нина, которая любит взбитые сливки и мороженое? Это лето заканчивается, а мне кажется, что кончилось детство и впереди непонятная взрослая жизнь…
Лизавета Сергеевна почувствовала, что плачет. Читая эти строки. Как быть? Оторвать ребенка от своей груди, послать в мир чуждый, но блистающий, волнующий своей притягательной силой? В свое время у нее был выбор: жить при дворе или вернуться в родную Москву. Надо ли дать Нине такую возможность – самой решить свою судьбу? Конечно, родственники мужа с радостью помогут девочке, похлопочут и устроят ее ко двору, но нужно ли это?
Она вздрогнула, услышав за своей спиной:
– Печальные известия?
– Вы напугали меня, Nikolas, – упрекнула его женщина, поспешно утирая слезы. – Нет, известия самые утешительные: Нина влюбилась, Нина рвется в Петербург, мечтает стать фрейлиной.
– Вас это огорчает? – участливо заглянув ей в глаза, спросил Мещерский.
– Нужно ли это? Зачем?
– Это ее жизнь. Пусть попробует, она отважная девочка, – с теплой улыбкой сказал Nikolas.
Лизавета Сергеевна задумалась, не отвечая и глядя перед собой. Мещерский, не решаясь ее беспокоить, устроился в креслах с книгой.
В дверь заглянула Палаша.
– матушка-барыня, страсть как спать охота, а вы все не кличете! – Она увидела Nikolas, и лицо ее приобрело игривое выражение. Однако игривость тут же исчезла, стоило хозяйке отозваться:
– Поди прочь, я сама справлюсь. И не смей ухмыляться!
Палаша сочла безопасным поскорее ретироваться.
– Вот что у нее теперь в голове? Ведь понесет в девичью свои ухмылочки, разукрасит побасенками, а завтра все девки меня опять начнут замуж выдавать. Никуда от них не спрячешься! – негодовала Лизавета Сергеевна.
– Зачем же прятаться? – Nikolas подошел и обнял ее пышные, обнаженные плечи. – Ангел мой, выходите за меня – это лучший способ наложить на все рты печать безмолвия.
– Ах, вы опять! – страдальчески воскликнула дама. – Я уже дала вам ответ, не так ли?
Мещерский отнял руки и вернулся в кресла.
– Разве с того момента ничего не изменилось? – упавшим голосом спросил он. – Ничего?
– Для меня – нет, – твердо ответила Лизавета Сергеевна.
– Для того ли воскресили вы меня, чтобы лишить всякой надежды?
Лизавету Сергеевну отрезвили интонации его голоса. Припомнился разговор накануне дуэли, и она поняла, что должна по-прежнему беречь юношу от опрометчивых шагов. И здоровье Мещерского требовало снисходительного к нему отношения.
– Николенька, отложим этот разговор. К чему омрачать последние дни?
Он горько усмехнулся.
– Боитесь, кабы я снова чего не натворил? Не волнуйтесь, теперь я научен, сколь переменчив характер любви…
Nikolas учтиво поцеловал ее руку, и, не успела она вымолвить слова, скрылся за дверью. Лизавета Сергеевна сердито зазвонила в колокольчик, вызывая горничную.
– Ничего, Москва все излечит, – ворчала она при этом.
День отъезда был назначен. Оставшееся время пролетело в хлопотах и сборах, улаживании разных хозяйственных дел, и для обитателей усадьбы печальным и необратимым фактом представилось явление назначенного срока. Накануне отъезда явились Волковские – попрощаться. Они оставались в имении на зиму: для жизни в городе не хватало средств, а надо было подкопить приданого.
Наталья Львовна определенно высказалась по этому поводу:
– И что прикажете делать? За кого мне выдавать дочерей? За соседних помещиков, которые живут в избах, как крестьяне, и сроду хорошего общества не видели? Нет, я зачахну в этой глуши! Юрию Петровичу все равно где бездельничать, а мне нужно общество, внимание, наряды!
Лизавета Сергеевна сказала, чтобы только что-то ответить:
– Приезжайте к нам, на ярмарку невест. Бог даст, найдете женихов для девочек.
– Ах, дорогая, добрый ангел, если бы вы нас приютили, а то ведь нам в Москве негде голову приклонить! (Она как-то совершенно забыла о своих сестрах и родственниках Юрия Петровича, которые жили в Москве и очень ее недолюбливали, впрочем, взаимно.) Вот продадим урожай и к Рождеству приедем. Не так ли, папочка?
Волковский, до сих пор чувствующий себя неловко в присутствии Лизаветы Сергеевны, ответил безучастно:
– Делай, что хочешь, душенька, а у меня здесь добрая охота, в Москву я не ездок.
Лизавета Сергеевна поняла, в какую ловушку она попала, но было поздно. Оставалось только надеется, что эта затея у Волковской провалится, и что-то помешает ей воспользоваться гостеприимством Львовых.
Наталья Львовна, казалось, вовсе не удивилась, когда встретила в доме Мещерского. Она поджала свои хорошенькие губки и жеманно протянула ему руку для поцелуя, при это бросив сочувственно-понимающий взгляд Лизавете Сергеевне, будто хотела сказать, что ее не надо стесняться, она и так все знает. Это гримасничанье чрезвычайно рассердило хозяйку, но она никак себя не выдала. Да и не до того было.
Лизавета Сергеевна провела целый день в делах, запершись с управляющим в кабинете, сверяя счета, проверяя амбарные книги и подсчитывая будущие доходы. Была назначена условная сумма, которую управляющий вышлет хозяйке, за вычетом, разумеется, его жалованья. Уговорились о постоянной переписке, чтобы держать помещицу в центре всех событий и дел, творящихся в Приютино. Оставалось уповать на совесть управляющего, который, впрочем, как все немцы, был по-своему точен и педантичен. Он делал все, от него зависящее, крестьяне его побаивались и уважали.
Дети загрустили. Они слонялись без дела по дому, мешались под ногами, и никак не хотели поверить, что покидают родное Приютино на столь долгий срок. Игры не ладились, книжки казались скучными, нитки путались в канве. Одна тетушка невозмутимо восседала за карточным столиком и раскладывала пасьянс. Она не собиралась никуда ехать, решив остаться здесь на зиму. Лизавета Сергеевна была ей весьма признательна: все же хоть какой-то надзор за усадьбой, да и дворня будет меньше воровать. По первопутку пойдут обозы в Москву с провизией и всякими припасами, чтобы в городе лишнее не тратить на охотный ряд. Тетушка обещалась проследить, чтобы отправлялось все доброе и свежее, а заготовки делались по нужной рецептуре.
В деревенской кузне ковали лошадей и чинили экипажи, готовя их к долгому переезду. Тимошка следил, чтобы лошади выпасались. Как следует, сам набивал мешки с сеном. Но в последний момент было решено все же ехать на почтовых, а не на своих, иначе бы тащились дней пять. Так же можно было обернуться и за двое, если повезет.
Одним словом, в доме все было вверх дном. Укладывались вещи, необходимые в Москве, готовилась провизия на долгую дорогу, дорожные платья, зонтики, плащи, тюфяки и прочая. Погода обещалась сухой и солнечной, но кто знает?..
Кроме тетушки, пожалуй, только Мещерский еще был чужд суеты. В последние дни он подолгу гулял в лесу, исчезая сразу после завтрака, иногда не являясь даже на обед. Все отметили его тяготение к одиночеству и чрезмерную грусть в лице. Петя с сожалением оставил все попытки разделить его досуг и занялся катанием по озеру на лодке.








