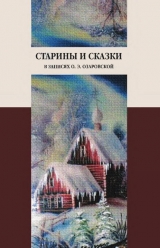
Текст книги "Старины и сказки в записях О. Э. Озаровской"
Автор книги: Ольга Озаровская
Жанр:
Фольклор: прочее
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Окончания глаголов тся не устойчиво: то произносится тса, тсе, цца, то тца, тце, иногда одним и тем же лицом.
Итак эта книга предлагает познание городом северной деревни в узкой, но драгоценной для человека области – области слова. Образованному горожанину, который несет культуру в деревню, предлагается познать культуру языка у неграмотного или малограмотного северянина.
В течение многих лет работы всегда стоял передо мною образ учителя, может быть, и неожиданно для последнего, так как фактически я никогда у него не училась; все же я прошу проф. Дмитрия Николаевича Ушакова принять мою горячую ученическую благодарность.
О. Озаровская
Начинается книга, называемая
ПЯТИРЕЧИЕ,
в которой заключается
пятьдесят сказок, рассказанных
пятью человеками, жившими на берегу одной
из пяти северных рек, в течение
пяти дней ожидания парохода,
где-то замелившегося
День первый. Сказки о верной любви
Вечером донесся отдаленный гудок парохода. Пароход должен был причалить к песчаной площадке у крутого и высокого берега живописнейшей реки Пинеги, притока Северной Двины. Закат обливал полнеба тяжелыми красками, багрил стволы и золотил вершины соснового бора на высоком берегу, расцвечивал тихие заводи, рябь и волны, отражался в водяных лужах на низком берегу и в стеклах оконниц, то превращая их в нестерпимо блистающие пластины, то зажигая пламя пожара там внутри. И было непонятно, как стекла сдерживали его, не лопаясь.
Солнце село прямо в воду. Вместо блесков над рекой разлилась полупрозрачная сумеречная мгла, птицы в бору умолкли, и наступила тишина, называемая ночью, но грамотеи у потухших окошек еще и сейчас могли бы читать. Теперь в ночной тишине отчетливо выступило хлопанье идущего снизу парохода.
Безлюдный причал начал оживать. Первой на свист парохода с противоположного берега приплыла лодка; из нее вышли крохотная старушка в сарафане и круглолицая, не молодая и не старая женщина в странной поношенной одежде немудрого, однако городского, покроя… Все спускавшиеся на площадку с высокого берега в старушке узнавали бабку Махоньку, круглоликой же никто не знал.
С двумя подводами и двумя молодцами приехал к мельнице и лихо сбежал по тропинке приказчик кооператива, собираясь принимать пароходный груз. Добежав до площадки, он громко и радостно сказал:
– Хлопает жа!
С чем все согласились, да и пароход уже был виден.
На берегу теперь собралось человек пятьдесят. Совсем непохоже было, чтобы кто-нибудь из них торопился на пароход, наоборот – всякий старался поудобнее устроиться на песке:
– Поживем жа!
– А может придет да и повернет назать, дак…
– Ну! Как повернет? Он с баржой. Куда-ле наверх обязательно попадать должон! Поживем!
– Лони я семь ден жил!
– Этта, как мы на острову десять ден жили, хлеб приїли.
– В мори?
– В Мори-Окияни… С поштой в Мезень ходили…
– Ты с Кулоя, дедушко?
– А уж как не с Кулоя, с Кулоя, с Долгошшелья… Долгошшелье – Москвы уд елок и Архангельска уголок… С Кулоя! Дак мы, этта…
Но пароход уже подходил и бросал якорь.
На мостике стоял капитан. Спокойно-сосредоточенный, он мягко оглядывал толпу.
Толпа оживилась.
– Олександр Ондреїич! Домой?
Капитан снял кепку, слабо улыбнулся и махнул рукой:
– Домой не попасть!
– Дак далеко-ле?
– Велено, как могу выша попадать: баржа! К страде нать ведь всего закинуть!
Больше капитан не отвечал.
Быстро скинули мешки с мукой, несколько сельдянок, больших бочек с соленой треской, да несколько ящиков для кооператива. Пароход принял двух пассажиров и отошел наверх. Провожающие простились и ушли на гору. А на берегу осталось человек двадцать, обреченных здесь «жить»; они знакомились ближе, прилаживались друг к дружке и приготовились трапезничать.
На песчаном холмике у входа в неглубокую пещерку, над которой свисали длинные ветви прилепившейся к камням березы, расположилась небольшая група: пинежанка Махонька, высокий, сутулый старик помор с реки Кемь, дед кулоянин, веселый и еще молодой мезенец и молчаливый громоздкий печорец. К ним присоединилась и никому неизвестная, круглоликая, с виду простодушная женщина, но на самом деле существо жадное и хитрое. Впрочем, жадность ее никому не приносила материального ущерба, так как она касалась лишь слушанья сказок, а хитрость заключалась в подзадоривании сказочников к рассказу.
Во всяком случае, благодаря ее усердию и терпеливости, появилась настоящая книга.
Уютно сидящие на холмике уже разложили костер, вскипятили чайник и скромно завтракали, достав подорожники из своих мешков, хлебней, пехтерей, а мезенец – свой хлеб, сахар и спички держал всегда при себе на груди в своем лузане. Закусив и сложив пожитки в пещерку, вход в которую заслоняли собой, они договорились рассказывать сказки, чтобы сокращать время тоскливого безделья… На этом настаивала круглоликая женщина. Вмешалась женщина, сидевшая поодаль, но уже успевшая горячо поговорить с неизвестной насчет сарафанов, повойников и прочих бабьих увлечений:
– Да вы сами откуда?
– Из Москвы.
– Што нибудь уж не так…
Все поддержали:
– Московцы говорят с высока, а ты, бабка, по нашему…
Круглоликую задело:
– Да разве я бабка?
– Уж как не бабка, – седата!
Круглоликая только вздохнула, вспомнив, как целовали и миловали ее волосы седоватые уж в двадцать лет, и молча стала записывать в своей толстой тетради.
– Уж все знаете, – не унималась женщина, – может и живете в Москвы, а только видать, што вы деревеньски и на Тюлевских находитесь. Да, быват, у Тюлевых гостили?
– Нет, нет…
Чтоб не тратить времени на споры, сидящие на холмике решили промеж собой называть неизвестную Московкой.
Краски на небе совсем побледнели, потом снова стали ярче, но теперь они были иными. Солнце, еще недавно севшее в воду, готовилось встать недалеко от того места, где село. Небо алело, золотилось, переходило в нежную сирень и, наконец, бледно голубело. Махонька давно уже стояла на коленках, клала поклоны и крестилась на портрет Ленина, который кто-то, показывая, вытащил из своего пехтеря и примостил к ящикам, поставленным друг на друга и еще не взятым в кооператив. Никто не обращал на нее внимания: молится и молится, а кому дело, куда глядит. Бабушка положила последний крест, и взошло молодое, свежее, умытое солнце и засияло. Его радостно и бодро приветствовали птицы, каждая своей особой песней.
С восходом солнца и начался день первый северного «Пятиречия», посвященный, как это окажется дальше, верной любви.
Когда на холмике все успокоилось, Московка толкнула в плечо сидящую рядом с ней Махоньку и сказала:
– Сказывай!
– Каку?
– Каку хошь!
Махонька, крохотная, с горящими глазками, темнолицая и беззубая, несмотря на это четко выговаривавшая, с увлечением начала рассказывать о «Верной Жене». Сама она иногда не владела собой, смеялась так, что еле выдавливала слова. Смеялись и все слушавшие.
1. Верная жена
Бывало, живало – купець да купчиха. Бывало у їх один сын. Они торговали исправно. Был купець боhатеющий. Купець помер, купчиха тоже померла. У їх остался один сын. Ну живет, поживает один. «Нать, верно, жониться. Кака мне невеста взять, у купца-ле какого, у генерала, у кресьенина боhатого, где искать?»
Потом идет возле речки по угору, гуляет, девиця белье полошшет, весьма хороша, ему пригленулась.
Удумал: возьму я эту девицю взамуж. Штож што она небоhата, – вовсе она приглядна. И говорит:
– Ты, девиц я , какова рода, какова отця?
– Я бедного сословья, у меня отець сапожник, живет бедно.
– Идешь-ле за меня взамуж?
– Кака я невеста? Я человек бедной!
Потом девиця пошла, он за ей вслед пошел, узнать, какова она места. Приходит девиця, – избушка маленька. Он зашел в фатеру. Отец у їх сидит, сапоги работает.
– Ну, купець именитой, што вам тако нать? Сапоги работать, али стары починять?
– Не сапоги работать, не стары починять, пришел я на вашей девици свататься.
– Што ты, купець, смиешься! возьмешь-ле ты мою дочерь? Вы боhаты, а мы бедны.
– Славиться не будем, бери из магазина, што надобно: люди будут убиваться, што именитой у бедного берет, а ковды справимся да обвенчаемся, товды и свадьбу поведем.
Обвенчались, пирком да свадебкой. И живут вовсе хорошо: и советно и боhато, и так на эту хозейку идет торговля хорошо, дак…
Жили, пожили. В Пруссии-городе сгорела лавочка. В той лавочки товару было всех боле. «Как жа мы будем эту лавочку строить? Хозейку взять невозможно; здесь оставить – порато хороша, к ей люди подобьютця».
Вот и печалуетця день и два ходит, печалуетця. Она и спрашивает:
– Што вы, hосподин, ходите эдакой туманной?
– А как будем лавочку строить? Тебя оставить дома не смею: с умом жить не сумеешь. А людей послать, дак много утраты будет.
Она говорит:
– Срежайся ехать! Буду одна жить, сама себе сохранна.
Одела ему сорочку беленьку:
– Если сорочка бела замараетця, то я с ума сбилась, а если рубашка бела, дак живу крепко, неправильно.
Вот он и уехал в Пруссию-город ставить лавочку. И живет поживает, может, и с год време, а рубашка на ем бела, как снег. Он стал торговать. У его товар вовсе хорошо идет, а у иных купцей – плохо. Другие купци, его не любя, королю доносят, што он волшебник, волшует: у его товар идет, а у нас нет.
Этот король собрал пир и на пир созвал торговых людей, там каких-нибудь генералов, хрестьян и всякого звания людей и этого купця созвал на пир.
У его рубашка все бела, бела как снег. Стали пировать и жировать, потом пошла гулянья. Потом они стали бороться и все прибились и все припотели и все припатрались, – у его рубашка все бела.
Король сочтил его волшебником знатливым: знат много, – нать его в тюрьму.
– Зачем же вам меня запирать? Никак я не волшебник. Мне рубашку жена надела. Если как с умом живет, все рубашка бела, а если забалует, дак и рубашка замаратца.
Король того не внимает. Его в тюремной замок.
Потом и удумал: к хозейки послать слугу верного.
Дал сто рублей денег.
– Поежжаи, подбейся к ней. К хозеики еговои.
Слуга и поехал в город.
– Из Пруссии! Из Пруссии приехал! Куда ему фатера? Нать штоб чисто, бело! К этой купцевой хозейки его на фатеру!
Купцева хозейка: – пожалуйста, милости просим. Чужестранного человека поїт, кормит, чаем, кофием, всем угошшает.
Он и стал ей говорить:
– Эки вы хороши, эки вы ненаглядны, как вы жить можете без мужа? Вот я дам сотню денег, не можете-ле со мной позабавитьця?
Она говорит:
– Грех. Большой грех!
Он говорит:
– Да што ты, што ты? Да твой муж не так живет, мы про его знаем, он близко.
Она и согласилась, взела сотню денег у его. Пошли во спальню. Он и говорит:
– Вались, говорит, ко стенки.
Она отвечает:
– Я никовды со своим мужем ко стенки не сплю, ложись сам, а я на краю.
Он и повалился, бажоной, ко стенки. Она раздевалась да помешкала немножко, валиться стала, – у ей там были пружины; пружинки толконула, – он сейчас полетел у ей вниз в погреб.
Вот она ему дала за дурные слова, как свинину режут, так таку пишшу дала. Дала веретено, куделю и прялку. Приказала напресть нитку тонку, как шолчину, дак пойдет тебе пишша хороша тоhда. Он престь не умеет. Бился, бился, потом напрел нитку, как шолчина. Потом пошла ему пишша хороша.
Король там его ждет. Нету посыльника: вот он там гуляет, вот забавляетця!
Ишша ждет:
– Вот такой, сякой уехал, гуляет верно там с ей; другого пошлю, ишша верней и лучша! Триста денег дам!
У купця все рубашка бела.
Другого послал посыльника. Другой таким же случаем приехал в город: к ей подбиваться стал:
– Эка ты красива, эка хороша! Не можно-ле с тобой позабавиться? Вот тебе триста денег.
Она с їм таким же побытом в спаленку пошла, да бух его в погреб!
Одному пишша уж хороша идет, а другому ишша худа пишша.
Король весь прихлопотался. Хлопочет, хлопочет: куда девались, нету, нету!
– Гуляют там видно с ей! Сам поеду!
Посмотрел, у купця рубашка все бела.
– Накладу яшшик денег, неужели нельзя подбиться к этой хозейки?
Вот и поехал сам в тот город, в тую деревню.
Народ:
– Из Пруссии король! Из Пруссии король! Куда ему фатера?
– Фатера ему у купцевой хозейки: у ей чисто, у ей бело. Ну, вот и у хозейки.
Хозейка принимает хорошо, поїт и кормит. Она его чаем, кофием, всякима напитками угошшает.
Он стал ей говорить:
– Эки вы хороши, да эки вы красивы. Возьмите эдакой яшшик денег, согласитесь со мной, – говорит король.
Она говорит:
– Не соглашусь. Поежжай на полсутки в город, а я схожу к бачьку-духовнику, спрошу, простимой-ле грех. Как простимой, дак соглашусь, а непростимой, дак и на деньги не обзарюсь.
Он и уехал. Вот она и пошла к бачьку. Бачько выходит из байны: запарел, заруменил.
Она и говорит:
– Простимой-ле грех из-за мужа грех согрешить?
А он говорит:
– Непростимой, большой. А согрешим со мной, дак грех не будет, за нас мир замолит.
Она говорит:
– Приежжай часу в девятом вечера.
И вышла.
– Пойду схожу в блаhочинному.
Пришла к блаhочинному.
– Простимой-ле грех из-за мужа согрешить? Блаhочинному эта красавица нать:
– Нет, непростимой, большой грех, а со мной дак не будет грех: епархия замолит.
– Приежжай в часу десятом.
Пошла к архирею:
– Простимой-ле грех из-за мужа согрешить?
Архирей тоже на эту красавицу обзавидовал:
– А согрешим со мной, дак вся империя замолит.
– Приежжай в часу одиннадцатом.
Она ушла домой.
Там она яшшик опорожнила и склала деньги куда-ле.
Вот живет, поживает. И звонок у ворот.
– Хто, хто приехал?
Бачько заехал в гости. Она потихоньку да помаленьку самовар наставляет. Чай попивают. С час немного и време.
Опеть звонок у ворот.
– Хто, хто приехал?
– Блаhочинной!
А чин чину повинуется ведь. Чин чина боїтсе. Бачько дрогнул.
– Я-то куды, я-то куды?
Она говорит:
– У меня яшшик есь большой, ты в яшшик.
Стала опеть блаhочинного угошшать, с час време прошло, а тут звонок у ворот.
– Хто, хто у ворот?
– Архирей.
Блаhочинной архирея боїтсе:
– Ох, ох, я-то куды деваюс? Што архирей скажот: зачем к женщины пришел. Я-то куды?
– В яшшик!
И два там собрала.
Стала архирея угошшать. Король-ат и садит! Едет. Звонок.
– Хто, хто у ворот?
– Из Пруссии король!
Испугался архирей.
– Я-то куды? Расстригет меня!
– В яшшик!
Король приехал:
– Ходила к попу духовнику? Спрашивала-ле?
– Ходила. Грех большой, непростимой. Не буду грешить!
– Скорей, – король-от разгорячился, – несите мой яшшик в сани!
Слуги вынесли. Король поехал домой с яшшы…
(Хохот пресек рассказ.)
Я яшшыком!
Вот и поехали. Едет, гонит! А у купця все не мараетця рубашка. Приехал король, кликал пир и выпустил ейного мужа. Пировал-жировал.
– Есь-ле в Пруссии эка хозейка, штоб не согрешила, на эки деньги, на эдаки деньги не обзарилась?
Отворяет яшшик: тут поп, блаhочинной, архирей…
Три штуки запёрано.
А у хозеина все рубашка бела.
– Поежжай домой да выпусти, там сидят двое ишша.
Бабушка закончила сказку при общем смехе не только договорившихся, но и всех бывших на берегу, которые все в большем числе подсаживались к холмику. Московка ничуть не удивилась, что Махонька рассказала такую сказку сразу после усердной молитвы. Она понимала, что северный народ, где много беспоповцев, не смешивает отношения к слабым смертным из духовенства с религиозным чувством, подобно многим из горожан.
Но едва остыло веселое впечатление, как старая пинежанка без всяких упрашиваний или уговоров начала.
2. Моряжка
(как быдто быль бывала)
В одной деревни был один боhатеюшших родителей молодец (а бывает в городу. Нет, в деревни). Этого молодця здумали родители женить его. Ну, как, где невеста будем приїскивать? Этот жених говорит:
– Вот, папенька и маменька! Вот рядом невеста, Моряжка, ей и возьму. Они говорят:
– Таку нам хрестьянского сословия, нам не приходится брать, нам нать дворяньского.
– Нет, мне Моряжка нать.
А їм нать из другого города достать, дворяньского сословия. Он родителей не огорчил и достали невесту. Невеста сидит на лошади, на верховной и говорит:
– Пусть мое сужоно выйдёт и меня с о ймёт с лошади. Не с о ймёт, я еду обратно.
Ну, он вышел, снял и повенцялись. Ну, пир отошел и молодых свели на спокой. Этот молодой сел писать. Написал и отдал жоны.
– Как у меня написано, так мои родители пусть и делают.
Повалилса на колени жоны и умер.
То время подошло, што молодых будить пошли.
Здучатца у дверей, она плачот.
Родители говорят:
– Он, што, тебя обижат разве?
– Он меня не обижат, а умер. Вот вам письмо. Родители прочитали:
«Как у меня написано, пусть так они и делают. Редите меня в чисто платьё: понесут хоронить холостым, нежонатым, против Моряжкина двора остановятца, пусть Моряжка наредитця в чистом платы и выйдет на улицю проститься в губы. На веку мы с ей не челаївались».
Так родители и сделали. Против Моряжкина двора остановились. Ну, Моряжка наредилась в чистом платы, вышла не улицю, и простилась в губы, и тут сконцялась. Моряжки стали гроб делать. А егов не можут с места двигнуть. Моряжкин гроб сготовили и понесли обех к церкви и отпели, похоронили в одну могилу.
Там сколько-ле, мало-ле времë, через лето выросло у їх древо на этой могилы. На веку такоhо, нихто, ниhде не видал: очень прекрасное.
Отец, мати стали там правительство просить разрыть эту могилу.
Разрыли. Доски боковы отвалились у гробов, рука за руку захватились, в руках у їх корень, и от этого корня пошло древо.
Отец, мати горько плакали, прошшались в таких грехах, што напрасно сделали.
После этой сказки наступило сразу молчание. Лишь через некоторое время Печорец негромко начал.
3. О Новой Земле
– Да. Это все сказки, а я взаболь расскажу. Лонись я на Новой Земли был, не долышко: от рейсу до рейсу. Там только два рейса и быват за год. Туда везут провианту на год для служашших и для промышленников, а как обратно, – то все, што упромыслили, везут в Арханьгельско. Ну, промышленники, которы не жалают зимовать, возврашшаются. Я скольки раз зимовал, промышлял. Она ведь Нова Земля, как… хто раз побывал, дак она тенет. Хошь на смерть, хошь на болесь, а тенет! Это понеть надо. Край земли, да бох, да зверь. Нет, это не понеть! Дак сказывали, што один человек, с этих жа как раз мест, с Пинеги, в 12-м году прибыл, с русскима не захотел селиться, а к самоедину ушол. Там все боле вдруг живут: русские с русскима – вдруг, и самоеда все – вдруг. А быват с русскима самоедин или два вдруг живут. А тот приехал, и сразу с самоедином отошли и живут на единасьве и промышляют петь лет. А как я лонись был, сказывали, што самоедин его приучал и все показывал, а он и уйди, и уж шесть лет на одинке живет. Мне любопытно. Обсказали, как найти, а тут случай такой вышел, што встретились, и пришлось у его петь ден полежать: обезножил. Лежу да и говорю:
– Как это ты один живешь?
– Я не один.
– Хто жа ешшо?
– Собака.
И боле ни слова. Молтяжливой! А потом развезался езык: обрадел живому человеку. Как на долонь пол о жил.
Ну, был он тут на волости молодцом и нашел тоже себе таку жа, должно моряжку, тожа родителям в ноги пал. Извесно, што уже это созначает, как молодец в ноги повалилса. Родители говорят: «Мы сами думали, што пора, говори, хто люб?» Он сказал. «Нет, уж ю н е как! Бери инну». А он на отрез: «И вовсе не женюс»! И та тоже своїм: «Нейду». И год, и другой и третей и пятой. Он не женится, она нейдет. Наконец того, девку обломали: дала согласье. Ей выходить, а он на Нову Землю. Здесь, конечно, никакого древа не выросло. Она здесь детьми усыпана, а он на Новой Земли одиннадцать уж лет живет, один с собакой. Древа то нет, а как будто оказывает.
Печорец вздохнул, закурил и, не дав никому произнести ни слова, вновь заговорил:
– Ешшо одну подходяшшу сказку знаю. Быват и быль; будто в Сибири это все случилось. Как малым был, приежжал к отцу купец из Сибири. Он сказывал: очень умыльна эта побывальшина.
Московка предложила было передохнуть, но все очень заинтересовались умыльной побывальшиной, и Печорец начал.
4. Нареченна невеста
В некотором царсве, в некотором государсве живало бывало два купца; один был боhата боhатина, а другой не столь важноватенькой. Однако жа они имели меж собой душевну связь; один к другому были вхожи со своима семейсвами, вместе панкетовали и была у боhатины дочи Машенька, и у того, што победнее, – сынок Ванюшка. И эти малютки погодки так хорошо вдруг резвились и занимались, што кусочка один без другого не глонут. Уж кажной день они гостят, играют, один другого из уст не выметывают. И припало боhатине раз на панкете сказать: – Друг милой, у тебя сын, а уменя дочи – твоему обручьня жона. Давай їх обручим! Взели у малюток колечки и поменели.
Пошутили, да и позабыли. А дети не забыли. Подросли они годков по двенадцати и однеж остались на одинки и овешшались друг дружке, што быть їм мужем и жоной.
Ну, времë идет. Боhатина боhата – у его дочь боhата невеста – женихов хороших прибират, сватов дожидат.
А с другом – беда. Ну, знаешь, в торговом деле: деньги перестали, товары перестали, вера перестала, и совсем он обнишшал и помер, а сына егова мать давно в боhатой дом не спускат; он по службишкам бьетца.
Тут присватался к Машеньки хорошой жоних, боhатой, хорошего житья. Отцы по рукам, но все же отец для виду с жоной – советуетца.
– Так и так: нашу Машеньку берет такой-то жоних, лучша не надо!
Жона роздумалась.
– А помнишь, мы малюток обручили?
– Ну, какой-жа он жоних? Сам бедной, дела никакого вести не можот. Я даже в доверенны его взеть не могу. А тут дело чистое. Да што глупости поминать по пьяному делу! Собирай дочи.
Ну, мать стала собирать. Хошь придано давно заготовлено, но знаш, бабье дело, все мало: и то нать, и друго нать, все мало. Невеста време длит, а сама слезьми изошла, все матери печалуетца, отцу конаетца, што должна идти за обручьнего, кому овещалась. Отец велел эти глупости позабыть. Она была послухмяна, но забыть не могла. Свадьбу справили на веселе, уж по бокатому. Тут и вино рекой, и закуски девушкам жоних прямо яшшиками кинает (как поездом едут, так откупается, знаш, жоних). А молода кручинна. Ну, привезли в дом к молодому, оставили на одинку, как полагается; молода пала мужу в ноги сапоги сымать, а молодой ей:
– Брось, бесценная, стары глупости. Нет того в сесветной жизни, чего б я для тебя не сделал. Што ты так печальна и кручинна?
А она ему:
– Друг мой, но сделаш-ли, чего попрошу для тотсветной?
– Все сделаю!
– Я овешшалась другому и прошу тебя: не бери моей кр а соты перву ночь, а отпусти меня к боhосужону снести к ему мою кр а соту. А тебе всю жись буду починна и повинна.
Он задумался. Понимаете, кр а соту снести, то есть просила, штоб он девицу не рушил, а порушит уж тот, кому овешшалась. Задумался, а после говорит:
– Иди, моя сужона несуж о на. Только как пойдешь? Време темно?
– Это близко.
Взела свою кр а соту (она в черкву ей не носила), и вся она у ей драгоченныма каменьями испосажона, такжа все драгоченны свадебны уборы, кои отец дал, кои муж подарил, собрала это все в кису, одёжилась и пошла. Сказала «близко», а все ж ейной нареченной жил по за городом в большой бедности. Верстах в десяти было, и пол дороги – дремучий лес.
Ночь темна, только сполохи путь к лесу сосветили, да и потухли. И тут о пол дороги схватили ей разбойнички, лесные подорожнички, нашшупали кису с драгоченностями, и к отаману. Отаман здрит красавицу, драгоченны уборы и обрадел, но для изгиленья спрашиват (думат, изнасильничать, бат, поспею):
– Пошто, девица-краса, в сузем пошла и уборы понесла? Видно, сосмекала нас жонихов стренуть. Нас довольно, и мы тобой очень довольны.
Жона нерушимая пала в ноги и все чистосердечно рассказала и отдавала все уборы, только просила ее не рушить. Отаман оченно удивился и спустил ей:
– Но завтра обязательно возврашшайся в стан и нам все расскажи, как обошелся твой нареченной.
Она побежала к своему возлюбленному жониху. Рассказала ему все: и как муж спустил, и как отаман жизни не решил…
– А теперь я вся твоя!
– Я не задёжу тебя. Муж спустил тебя и ты к ему воротисе. Как ты сможешь егов хлеб и воду їсь-пить, естьли себя нарушишь? Довольно того, што разбойник тронулся еговым поступком, возлюбленна; неси ему и кр а соту и все драгоченны уборы, да поблагодари своего мужа, што уважил младенческу связь. Я его за брата почитаю. Дожидайса свету белого у меня и иди нерушима.
На другой день молодка, как была девица, так есь, отправилась с кисой и завернула в разбойничий стан. Росказала и подает кису отаману, но тот с о звал всех товаришшей и скричал:
– Слушайте, товаришшы, што я слышу: ужели не равны мы по сотворению с протчима людьми? Вот муж не порушил данной ему эдакой красавицы и отправляет с дарами и невинностью к ейному нареченному во младенчесве жониху. Тот не хочет примать дареной ему невинности и отправляет ю нерушимой к мужу. Ужели мы хужа? Бери обратно свої уборы, иди к мужу, а штоб тебя не обидели мої станисьники, бери две слуги верныя в провожатые!
Ну, вот и явилась она к своему законному мужу в свой боhатой дом с провожатыма: с разбойниками, которые чесно с драгоченностями передали мужу в руки.
Коhда она все подробно рассказала мужу, он прослезился и сказал: жалаю покрестоваться с твоїм нареченным и пригласить на службу в доверенны моего торгового дома и с прочентами, как пайшика. Он мне вернул и не тронул капитал – тебя, моя радость. Жону доверил, ужели состояния не доверю?
Это он сказал, а жона сомлела после всей этой трелоги и повалилась на кровать. И сделалась она трудно больня. Ейной нареченной уж служит у ейного мужа и живут они, как братовья. Очень согласно и берегут больную нерушимую женшину. Она все в бесчусвии. Однеж открывает она глаза и находит мужа своего бездыханна. Случилса ему паралик серьца.
Ну, штож? Погоревали, поплакали, очень уж хороший человек был. Все состояние жоны отписано, ешшо в день свадьбы. Она-то вдова-девица нерушимая после вдосва за доверенного, за своего во младенчесве боhосужоно взамуж вышла. Это вы поймите…
Печорец умолк. Не скрыть бы ему непрошенную слезу, но сейчас же неожиданно чистый и крепкий для старика голос Кулоянина запел древнюю былину.
5. Князь Роман и Марья Юрьевна
Снарядилсе кнезь Роман за син
е
море,
А за сине море походит да битьсе р
а
титьсе А
посадил он кнегиной да молоду жену.
А тут восплачитсе кнегина да Марья Юрьевна:
– А ты не езди-ко, Роман, да за сине море,
А за сине море широкое раздольїце,
Уж и мне-ка ноне мало спалось,
Да мне-ко много да во снях виделось:
А и будто у меня да и со правой руки
А сокатилосе кольцо да обручальное. —
А не послушалсе Роман да молодой жены.
А он снастит корабли да белопарусны,
А отъезжает кнезь Роман да на сине море,
За сине море, широкое раздольїце.
А тут и год-то пройдет да будто день минет.
А по утру было да все по ранному,
А тут ставает кнегина да Марья Юрьевна,
А ключевой-то водою да умываласе,
А тонким белым полотном да утираласе,
А ишше кланялась спасу да богородице,
А и садилась у окна да у косятого
А глядеть-то она да на сине море,
На сине море, широкое раздольїце.
А из-за моря-то моря да моря синего,
А из-за синего моря да все широкого,
А выплывали сокола да черны к
о
рабли.
А хорошо то к
о
рабли да приукрашены,
А они красным то золотом изунизаны.
А они чистым серебром да приокованы,
А они скатным жемчугом да изусажены.
А становились к
о
рабли да в тихой гавани,
Они метали якоря да все у города,
А оны флаки подымали да все шелковые,
А мосточки-ти мостили да все дубовые,
А настилали кам
о
чки да одинцовые,
А и тем
а
же мосточками дубовыма,
А хрущатыма камк
а
ми да одинцовыма.
А проходил тут Бориско да сын Заморенин,
А он и шел во палаты да во кнегинины,
А не умеет Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую,
А говорит же Бориско да переводшиком:
Ише есть у двора да у Романова
Молодой-то Михайло да переводшиком,
Переводит Бориска да все на русску речь.
«А уж ты здравствуешь кнегина да Марья Юрьевна,
А с молодым-то Романом да со Васильевичем».
А отвечает кнегина да Марья Юрьевна:
– Уж ты здравствуй-ко купец да добрый молодец.
А счесливо бежал да по синю морю
А у нас кнезя то Романа да нету в городе,
А за сине море уехал да он поляковать. —
Говорил же Бориско да сын Заморенин:
«Уж ты ой еси кнегина да Марья Юрьевна,
А мы пришли из-за моря да из-за синего,
А привезли мы товары да разноличные,
А разноличные товары да все заморские.
А и тонки-то шолки да хрущаты камки,
А и штофы-ти у нас да все орленые,
А и сукна-ти у нас да одинцовые,
Дорогие-ти товары да каки надобно».
А не умеет ведь Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А говорит ведь Бориско он переводшиком.
А и тут же кнегина да Марья Юрьевна,
А отпирала ларцы да медны кованы,
А она меряла меру да золотой казны,
А серебряной казны да брала без счету.
А тут сплакались слуги да слуги верные:
«А уж ты душечка кнегина да Марья Юрьевна,
А не ходи-ко ты кнегина да на черной корабль,
А на черной-то корабль да в тихой гавани,
Как товар от тебе да тут прилюбитсе,
А и ум-от от тебя да тут отступитсе»,
А говорит им кнегина да Марья Юрьевна:
– А не ревите-ко вы слуги да слуги верные
А мне-ка нечего с Бориском да разговаривать,
А не умеет Бориско да речи русские,
А не толкую я, кнегина, да речь немецкую.
А я скоро откуплю товары заморские,
А и скоре того, кнегина, да я домой приду. —
А походит кнегина да на черной корабль,
Только взела с собой Михайла да переводшика.
А и ведет ей Бориско да сын Заморенин
А ей по сукнам-то ведет да одинцовыім,
А по мосточкам-то ведет да по дубовыім,
А он заводит ей на палубы тесовые,
А он во те-ли во каюточки судовые.
А и тут же Бориско да сын Заморенин,
А он подносит кнегины да меду пьяного,
А он вторую-ту чару да зелена вина,
Тут и ум-от от кнегины да отступаїтсе.
А и Заморенин кнегины да прилюбаїтсе.
А он не знает, Бориско, да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А он целует кнегину да в сахарны уста.
Ай во ту пору было да во то времечко,
А матросы у Бориска да наученые,
Они сым
а
ли мосты да все дубовые,
А скатали камочки да одинцовые,
А отворяли они парусы полотнены,
Подымали они якори булатние,
Выходили они да все из гавани,
Ай бежали они да во сине море,
А во сине море – широкое раздольїце.
А во синем-то мори да во раздольїце
А ише стало корабличек покачивать,
С кормы на нос чермленой да поворачивать,
А и тут-то кнегина да сдивовалосе:
– А не бывало на веку да в тихой гавани
Да ише эка погода да разгуляласе. —
Говорит ей Бориско да сын Заморенин:
«А ты не бойсе-ко, кнегина да Марья Юрьевна,
А верно на мори волна да расходилася,
Нанесло зводенёк да до тихой гавани».
Ише не знает Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А перепалось у кнегины да ретиво сердце,
А бежит она по лесенки на палубу…
У кнегины резвы ножки да подкосилисе:
А и сине-то море да на волнах стоїт,








