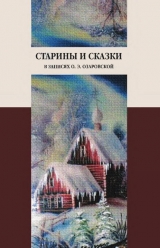
Текст книги "Старины и сказки в записях О. Э. Озаровской"
Автор книги: Ольга Озаровская
Жанр:
Фольклор: прочее
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– Вон Карпогорье, Параскева-Пятница, Пиремень, а сюда вон Юбра, Почезерье… и вон, вон вдали что-то мреет… Соколиные глаза Скомороха узрели даже пинежский собор, во всяком случае пятно с горящей точкой. Там был некогда знаменитый волок, – так и называлось селение Волок, – волок между реками: Пинегой и Кулоем. Плыли сверху из резиденции московского воеводы суда на Волок и переволакивались на Кулой, в Кулойский стан, куда по договору с Великим Новгородом уже давно, до существования воеводства, Москва посылала охотников за ловчими птицами. Надо повернуться направо. Отсюда по воздушной линии не так все далеко, как это считается по извилистой Пинеге. Вон Карпова Гора – громадное селение, в напротив, на плоском берегу, деревня Кеврола с дивной черной церковью, чудом деревянного зодчества, построенной 220 лет назад. Эта Кеврола и есть древнейший город Кевроль, который Новгородские ушкуйники обложили данью. Кулой долго был ареной политической борьбы Новгорода и Москвы. Победила Москва. Чудь напирала, и Москва в ограждение учредила в Кевроле Московское воеводство. Весело, привольно жили воеводы, часто сменяясь, ибо Север считался лакомым куском, и сесть на Кеврольское воеводство стремились многие. Жили воеводы жирно и весело. Со свадьбами по образцу царских, с белилами, со стольниками на свадебных пирах, с веселыми скоморохами, с кулачными боями на плоских искусственных горках, с потешными масленичными катаньями.
Вместе с чистейшим надв о дным и надлесным воздухом вливалось в Московку дыхание истории. Не той истории, что подкрепляется документами, критически проверенными фактами, а простой обывательской, подкрепляемой живой памятью стариков, говорящих о древнем дне, как о вчерашнем.
Московка же ведь сидела под «Мировыми Соснами», а старики рассказывали, как под этими соснами встретились мужики двух враждующих деревень. Они шли судиться к воеводе и здесь под соснами заключили мир, чтобы не ходить на «правый суд». Воеводы жили сладко, тешились горками, а в правёжной избе стонал народ.
Все же, когда при Екатерине II было упразднено воеводство, учрежден на месте Волока новый город Пинег, в летний и жаркий день глупый народ плакал, провожая последнего воеводу, лодки с нажитыми богатствами и разобранные строения, что сплавлялись в новый город на Волоке. Плакал не потому, что воевода был хорош, а плакал над уходящей красивой пышностью, которая питалась народными же соками, плакал над превращением древнего города Кевроля в расползшуюся черную деревню Кевролу.
Чудь? Что за люди? Жонки говорят, что Чудь вылезает по ночам из земли с треугольными головами и бродит по свету вместе с нечистью. Мужики трезво рассказывают, что Чудь, вроде зырян, воевала; ее оттеснили воеводы в леса, и остался от Чуди брошенный мальчик и Палец. Бросовых да Пальцов сейчас узнаешь по скулам. (Есть сейчас фамилии Бросовых и Палец.)
Скоморохи? Московка знает, сколько песен, сказок, поговорок про скоморохов застряло на реке Пинеге, именно в этом ее звене, около древнего Кевроля.
Время от времени оно родит подлинных скоморохов. Здесь именно найдена оставшаяся живой в памяти одной старушки былина-уника о «Вавиле и скоморохах». В сборнике XVII века лишь уцелела страница с названием «Вавило и скоморохи», но самого текста не было, а здесь вдруг, пожалуйте, поют, знают. Почему? Да ведь их же гнали, скоморохов; церковь гнала их, а они, гонимые грешники, ушли сюда, на север, прилюбились народу своим талантом, и, чтобы поднять свое звание и значение, сложили былину про то, что они не только не грешники, но святые и делают важное дело – переигрывают «Царя-Собаку». Если б Махонька согласилась сегодня спеть про Вавилу! Подойдет ли к теме о матери? Ну, конечно: они же так дружно жили, мать и сын. Он для нее сеял пшеницу. Наверное ее «носком носил». Вот и рядом подлинный скоморох! Ведь если б ему дать лоск, образование, был бы крупнейшим актером, современным скоморохом, был бы членом Всерабиса, печатался бы на афишах.
А подлинный Скоморох давно уж понуждал Московку похлебать молока и «итти домой».
Домой? Где дом? У Александры? В Пинеге? В Москве? Ах, да, там, где сказки: на причале, на берегу. На Пинеге не было видно ни парохода, ни дымка. Отряхнула Московка свои думы и стала спускаться. У страшной дыры она покорно «схватилась в охабоцьку» и не заметила, как очутилась внизу. Когда же она вошла в большую горницу, все сидели приободренные, веселые; хозяйка уставляла стол снедью и, завидев Московку, схватила ее за руку. Мерно и широко ее раскачивая, в такт певуче приговаривала:
Спали, почевали,
Рано весело вставали,
Белы лиця умывали,
Полотенцем вытирали,
Во карман руки совали,
Чясты гребни доставали,
Буйны головы чесали,
Русы кудри завивали!
и совсем обычно, коротко: «С добрым утром!»
После трапезы и сердечного прощанья с хозяевами, стали спускаться, и привычные кавалеры заняли места около своих дам. Хороши были Громадный Ошкуй с крохотной Махонькой. Но, как только началась тропа, ведущая к волости, Помор распростился, сказав, что встретятся на берегу. Он крикнул идущему впереди Кулоянину:
– Веди бабку с другой стороны!
– Сама поведется!
Но все же придвинулся к Московке, так что в трудных случаях она могла за него ухватиться. А дорога прямиком к реке, без тропы и после дождя, была трудновата. Когда Скоморох приостановился, чтоб выломать палку, Московка тихо спросила деда:
– Дедушко, ты, говорят, здесь корову нашел, коня нашел и помиравшего внука поднял? Как это ты? Заговорами? Слово знаш?
Московке очень хотелось записать заговоры.
Дед остановился и строго посмотрел на Московку.
– Вот што я тебе скажу. Ты жонка с виду хор о ша, говорк а , да уж больно любишь все знать. Все тебе надо. Сколько лет, да далеко-ли пожни, да хто, брат, хто сват… А мы тебя не знаем. Ты што? Нашчот продналогу наехала? Ли может ты, носыря, силу мою хочешь отобрать? Ты што задумала?
Московка растерянно моргала глазами и ничего не понимала; она только чувствовала, что каким-то бестактным вопросом задела и напугала деда. А в чистых синих глазах деда горел настоящий гнев.
– Эх, ветрел бы я тебя здесь одну…
Скоморох наконец выломал палку и спокойно отозвался, показав дюжий кулак.
– На пинесьску заставу наехал.
– То и вижу, што станисники!
– Ты чего взъерился? Высокоум Долгошшельской! Хто твою силу заберет? Цë брать? В ей силы поболе твоей, – потому грамотна. А што ей любопытно, как люди живут, дак блаhодарить должен.
Дед молча пошел вперед и вскоре скрылся. Московка была в отчаянии. И ей оскорбительно и как-то сама оскорбила деда; главное, страшно, что не будет больше рассказывать… Скоморох утешал:
– Ты на его не смотри… Он зла не дёржит, только он боїтсе нашшот ведовева. Все колдуны боятся, не любят, штоб разговаривали.
Они уже спустились к самой реке, и Московка кинула прощальный взгляд на Андигу, где они провели третий день, исполненный волшебства и чудес. Скоморох заметил с досадой:
– Настояшшу тропку прокинули. Эх, тебе было-б легше.
Они уже шли берегом под горой к площадке, наполненной движением. Московка радостно ощутила «домой», Андига исчезла. «Дом» жил полной жизнью: кишел, передвигался, цвел прибежавшими ребятишками, которые сгрудились у тропы при выходе на площадку. Скоморох и Московка разом воскликнули:
– А, хвалёнки! Здорово вам!
Старшие хвалёнки, потупив очи, медленно истово поклонились, как степенные девушки на больших гуляньях, а потом жадно стали глядеть на пришедших, а младшие совсем застыдились и закрыли локтями глаза, да так уж и не отдирали их.
– Баушка, расскажи сказку, ту любую, што в воды сказывала, как купались… Московску, любую…
И Московка задержалась, а когда освободилась от ребят, начались перебивные разговоры со всем «домом».
– Што, загостилась, баушка?
– Вести есь нашшот парохода: снялся с мели, в Карповой побывал и выша пошол, должно до Суры дойдет…
– Вода больша.
– Вот капитан-то обрадел, там у его вверху семеюшка.
– Это што на телеграфе узнали? Ходили так рано?
– Нет, жонка пришла, сказывала, видела, как снялся.
– В тридцати верстах сидел…
Скоморох, уже свидевший рядом с молодкой, крикнул:
– У нас телеграф редко дейсвует. Больша – радиосарафан!
Все покатились.
Когда наконец Московка подошла к холмику, там все сидели на обычных местах. Кулоянин под своим кустом начал что-то снова плесть, погруженный в обдумыванье и примериванье. На Московку он не поднял глаз, от чаю отказался. А чай разливал Помор и предлагал подлить коньячку, которым угощал и стоящих поблизости мужиков.
– Где взял? Ужели лавка п о ла?
– Затем и на волось бегал?
– За тем-то за тем, а лавка заперта. У приятеля находилось. Припасёно из Архангельска. Кушайте, бабушка, беспременно!
Вокруг сказочников собирались:
– Стоснулись без вас, бабушка!
– Стоснулись без сказочек, без говори – той. Тут на меленке-то мы тож поговорили. Мельник-от сам больно мастер.
Московка всполошилась:
– Где он? Позвать бы, или к нему пойти бы.
– Да сиди уж! Хватилась! Он уж уехал чищень смотрять дня на два, далеко у него… Гледи и мельница не работат. На замки.
Помор заговорил:
– Аккурат севодня, была в 1854 г. бомбардировка Соловецьково монастыря. И прекратилась пальба в шесть часов – аккурат я родилса. Чайки англичанам столько зла наделали, што они отступились: собрались над фрегатом вне ружейнова выстрела, кричали так, што команды не слышно и все їм застрали: и паруса, и на головы офицерам. Так они проклели чаек.
– Так вот оно што! Ну, поздравляю вас, Олександр Ондреїч! Вот почему и роскошное угошшение! Давайте шшолканемся! Желаю вам всего доброго, всякой удачи!
Стали чокаться, и бутылочка опустела.
– Дедушко, выпей жа ради такого торжесва!
– Довольно, што с табашниками сижу, езык разговорами поганю…
У Московки сердце захолонуло от мыслей:
«Не станет больше, ни за что не будет рассказывать, все пропало!»
– Олександр Ондреїч, у вас жена, дети есть?
– Жоны не бывало. С матерью жил, когда дома бывал, а дети? Может їх несколько сот есь, не знаю, не спрашивал…
– Олександр Ондреїч, расскажите про свою мать побольше.
– Штож мать? Ежели бывали в Кеми, то про мою мать слыхали. Останиху все знали. Мастерица была петь да сказывать, чего только не напоет, не наскажет!
Скоморох вмешался:
– Я как мальчишком в Архангельско попал, дак в Кемь ездил с купцом одним. Останиху видал и слыхал. Ну, уж!.. Иной сказыват, как корова в лужу хлюпат, а у Останихи – дак кажно слово к слову прильнуло…
Александр Андреевич продолжал:
– Я вам не сказку, а быль расскажу.
И он начал.
31. Соломбальская быль
В С о ломбалы (портовая часть гор. Архангельска) женьчына жила. Я хорошо ей знал, Ографеной звали, она булками торговала у пристани. И был у ей сын, Ванюшка, лет десяти, все за границу просилса:
– Мама, пусти за границу!
– Не пушшу!
– Ну, я сам убежу.
И убежал. Пришол в Архангельско аглицкий корабь. Ванюшка с юнгой разговорилса, што за границу ему охота: мальчишка в С о ломбалы живет, дак уж по аглички болтат. Юнга отвечат:
– Вон коптеен идет, у нево просис.
Ванюшка к нему по аглички:
– Коптеен! (значит капитан).
– Коптеен! Я за границу хочу.
А тот ему:
– Полезай в трюм!
Ванюшка и полез.
На утро корабь запоходил.
Ографена день ждала, на второй стала соседей спрашивать:
– Не видали-ли где Ванюшки!
– Вчера видели, севодня не видали.
– Ах, подлец, наверно, убежал!
Естли бы в море потонул, то давно бы выкинуло, а то нигде нету. И так не бывал двадцать лет. Он уже старшим матросом ходил, женилса в Англии, трое детоцек уж было у них. И услыхал он, што корабь идет в Архангельско за пшоницей. Он и нанялса старшим матросом: маму охота повидать. Жоны сказал, она заплакала.
– Узнат тебя мать, останешься там!
– Нет, я не признаюс.
Ну, пришли в Архангельско. Он думат:
«Естли мама жива, дак она у пристани булочками торгует».
И увидал ей, подошол и булочку купил за три копейки, потом в трактирчик зашел, у раскрытого окошка сел; чай пьет, на маму смотрит.
И так каждой день: булочку возьмет, у раскрытого окошечка сядет, на маму смотрит. Только и всево. Две недели так прошло, завтра утром корабь запоходит обратно. Он в последний раз булочку купил и двадцать пять рублей под булки подсунул.
Она ево не узнала, и он не призналса.
Так и уехал. Вечером Ографена деньги нашла, соседкам говорила:
– Двадцать пять рублей кто-то обронил. Завтра спрашивать станут, дак я отдам.
Она незавидна на деньги была, эта женьчына, я ей хорошо знал.
На следуюшший год, весной, уж ево сердце тоскует: в Архангельско проситце. Опять нанялса на такой корабь, што за пшоницей идет. Жона беспокоїтце, плачет:
– Оставишь ты нас, мама тебя узнат!
– Не узнат. Тот-там раз не призналса и опять не признаюс.
Опять также булочку у матери покупат, в трактире у открытого окошечка сидит, на мать гледит. На отъезд сорок рублей приготовил и на прошиенье под булки подсунул.
Ографена опять деньги шшытат, – сорок рублей лишны. Опять торговкам рассказыват, а они ей:
– Да, што это, Ографена! у тебя: то двадцать пять рублей лишны, то сорок, у нас – дак не у ково. Смотири, не сын ли тебе помогат?
– А, наверно, он, подлец! Ну, теперь стану всем покупателям на руки смотреть, не подсунут-ли?
И всем Ографена стала на руки смотреть. Нет, нихто денег не подсовыват! Какой даст поболе, дак сдачи спрашиват.
Ну, и опять год прошол. Ографена стала уж старой. Ты пошьчытай-ко, сколько годов вперед ушло. А тот уж с весны на корабь нанялса в Архангельско итти, пшоницей грузитьса.
Жона просто ручьем разливатца, плачот:
– Узнат тебя мама, ты признашься, останешься, забудешь нас!
– Да не признаюс. Те-там разы не признавался и сей раз не признаюс.
И опять: пароход стоїт, грузитца, а сын у матери булочки покупает. Она ево узнать не может: он бретый, как англичанин. Знашь, англичанин бретый, черной, как свинья палёна!
Однако она всем на руки смотрит.
Сын булочку за три копейки купит, в трактирчик пойдет, у открытого окошечка сядет, чай пьет, на маму смотрит. На отъезд он уж ей сто рублей приготовил.
А она всем на руки смотрит.
Вот он в последний раз булочку купил и сто рублей подсунул.
А Ографена всем на руки смотрит, да как закричит:
– Караул! Грабят!
Ему бы не бежать, а он побежал.
Ево поймали и к часному повели. Она часному тихонько говорит:
– Это не грабитель, и он меня не ограбил. Это мой сын, и он мне сто рублей дал. Я хочу, штоб он созналса.
Часной говорит:
– Сознавайса! Ты ей сын?
– Ни-ни-ни!
По-англички.
– Документы!
Ну, документы у ево аглички, все в порядке.
Она опять тихонько у часнова спрашиват:
– Можно ли ево донага раздеть? У ево родимо петно на левом боку, дак уж я признаю.
– Можно. Раздевайса!
Тот опять головой мотат, по-аглички говорит:
– Ни-ни-ни!
– Ладно! Не в Англии, – в Расеи. Раздевайса!
Ну, тот видит, раздевайса, не раздевайса, – сознаватса надо. И пал матери в ноги:
– Мама! У меня за капитаном семьсот рублей денег, я все отдам, только отпусти меня!
– Мне не деньги нужны, а сын нужен.
– Мама, пожалей меня! У меня жона в Англии, трое детоцек…
– А присегнешь на їкону, што на будушшу вёсну всех привезешь?
У часнова їкона была, он присегнул.
И, действительно, все семейство привез.
Корабь две недели пшоницей грузитца. Ну што две недели? Как одна минуточка пролетели. Надо расставатца. Она и говорит:
– Как я без сына жила, оставь мне теперь стартова внука. Весной опять все приежжайте.
Он оставил. На следуюшшую весну она стала присматривать, кавово теперь бы ей внука оставить, а сын говорит:
– Мама! Да поедем с нами! Посмотришь, как у нас в Англии живут…
Она и поехала. Да там и осталась. Говорят, очень ей в Англии пондравилось.
Этот рассказ мальчуганы, набравшиеся вокруг холмика, слушали, раскрыв рты, и каждый с молодцеватым и удалым выражением думал: вот, мол, я какой – мать не признал. Но потом они обмякли, притихли и насторожились. Помор дрогнувшим и рвущимся голосом продолжал.
32. Сын к матери
Три года тому уж. Был я на заработках в Архангельске и собралса осенью домой, да последний рейс пропустил. А как пропустил? Загулял и все деньги пропил.
И билет был, дак и ево пропил. Осталса в Архангельске.
И захотел маму видеть. Такая охота маму повидать, што были бы крылья, так на крыльях бы полетел! Заработал маленько, взял да и пошол пешой. Сколько это верст будет, пошшитай-ко! Летним берегом пошол. Каки оставалис деньги, все приел. Морозы ведь уж. Иду гододной, а все маму в мыслях держу. Близко уж Сорока, уж стал из силы выходить. Там знакомець жил. Я зашол в дом, на ево кровать повалилса. Хозейка пришла, видит, спит-храпит на хозейской кровати незнаемой человек, испугалас. Однако муж в скорости пришол:
– Какой это проходяга? Это Олександр Останин! Не тронь! Пусть спит!
Ну, проснулса я, напоїли-накормили.
– Што же ты, говорит, горной дорогой идешь? Какая такая нужда?
– Маму охота повидать.
Он мне три рубля дал. Немного я тут на лошади подъехал, а там опять побежал. Уж недалеко. И пришол в самую минуточку: мама помирать стала и все меня звала. Все же застал ее.
Все смолкли. Московка вопросительно взглянула на Кулоянина, но он продолжал угрюмо вязать петли. Махонька выручила.
33. Мать и львица
Был-жил царь; у этого царя была жена молода и была у его мачеха. Сколько он жил с женой, и жена стала беременна и родила, а он выбыл куда-то не надолго время. Родила два мальцика. Она намаялась и уснула, а мачеха была зла, подкупила солдата:
– Вались к ей на кровать, брюки-ти верхни сдерни, вались в одних почтаниках.
Он так и сделал. Она донесла царю:
– Вишь у тебя жена, не успела родить, а спит с другом.
Царь схватил саблю, солдата сказнил этого и собрал собранье: как жену, куда девать, – дети незаконны.
Для людей она была милослива, добра; люди ей жалеют, сказали:
– Если они незаконны, дак закопать ей с детьми на полгода. Если незаконны, дак погибнут.
Ну и спустили їх в погреб.
Жили они полгода и выкопали їх на верьх. Ну, эти дети хороши прехорошеньки, как налиты чем, полны.
И ползают по полу, у царя, у башмаков пряжки шшиплют.
Он не замог терпеть, ногами стоптал с глаз.
Отвезли ей в цисто поле: поди там, куда знаешь.
Посадила одного мальцика по праву руку, другого на леву и пошла. Шла, шла, приустала. День был солнешной, теплой, повалилась с детями и уснула: один на правой руки, другой на левой. С левой-то руки прибежала львиця и унесла мальцика. Она разбудилась: мальцика-то у ней нету. Вот тебе жалко, тут и зажал ела и походила, походила, увидала в пещоре лежит львиця и лапками тешит мальцика; наносила яблоков, всего и грабит, грабит лапками, тешит, веселит его.
Мать вышла на угор, перекрестилась:
– Слава богу, мое дитятко не погинет!
И сама пошла с одним. Приходит в деревню. У старицка и старушки попросилась ноцевать. Ноцку ноцевала, и другу ноцевала и понравилась эта молодиця їм.
– Живи, молодиця, у нас ты, рости сына; у нас детей нет, станет ростить, дак будет сын, хлебы будут.
Скольки-ле время прошло – сын стал годов петнадцати, а старик был раньше боhатырь. У его в комнаты были складены латы булатные.
Этот сынок ходит, оденет латы булатные и маширует там.
Старушка эта подсмотрела его, сказала старику:
– Это нам не хлебы, этот сынок. Он одел латы булатные и маширует.
– Как тут не хлебы? Нам эти самые тут и хлебы.
Време идет, этот сынок – подходит ему двадцать лет. У этого царя сделалась война.
Он разослал везде бумаги, вот требовать на войны.
Этот сын средилсе на войну. Стал просить у дедушка, у бабушки блаословенья.
Они поплакали, блаословили и спустили его.
Он на судно и отправилсе. Идет это судно морем, увидели на берегу человек нагой.
Бросили ему поштаники. Он поворочял, поворочял и стал надевать. Бросили рубашку ему, – он тоже поворочял, поворочял, надевать стал рубашку.
Потом они стали к берегу приставать. Пристали к берегу. Этого целовека стали їмать, он и зеревел. Львиця и подбежала, тут и есь. Стала людей забирать, горячице стала, а он стал ей унимать. Ну его на судно повели. Львицю бы и не взели, она за їм след, он ее приглашат, люди и не посмели ей оставить.
Они сошлись на судне, и вот брат брату рассказал: «ты мне брат!» Научили его говорить по-русьски.
И пришли в осударьсво. Стали срежаться воевать в чисто поле с противником, и поехали, отправились: один на кони, а другой на львици. Один брат едет по праву руку на кони – народ улицами валитце. По леву руку львиця кинетця – так улицей с переулком, втрое валит народ. И всех перебили и отправились на пир к царю. Тут царь принимает воїнов, ужинает.
Они из застолья вышли, да и в ноги пали.
– Батюшко – мы тебе сыновья. Ковда вы нас отвезли в цисто поле, одного из нас воспитывала львиця, а другой – жил у дедушка с бабушкой и мати также.
А бабка злая слушает.
Он їх зашеїл, в уста поцеловал:
– Дети мои возлюбленные! Где наша бабушка? Мы на одну ногу наступим, другу разорвем.
А бабушка уж в петлю полезла да задавилась.
Московка пошепталась с Махонькой, так просияла и запела.
Махонька закончила эту древнюю былину, которую она одна знала во всей стране, [75]а Скоморох прерывал пенье заливистым смехом.
Кулоянин заметил:
– Ты бы замест смеха Вавиле молился: твой покровитель.
– Даже їконы еговой не живет!
– Нет, живё.
– А ты видал?
– Видал!
У Московки, что называется, в зобу дыханье сперло. Хочется спросить, а страшно: вдруг опять носырей назовет. Не вытерпела:
– А hде видал? А какая она?
Дед строго посмотрел, помолчал и милостиво ответил:
– Недалеко от нас Онуфриевы Кельї были. Етот скит Александр Третей розорил. У нас скитница оттуда жила и їкону ету оставила. Хороша. Писана по старому правилу. Вьюноша Вавило воссел, в руках гусли, и воспеват и возыгрыват. Он играет-то в Киеви, а на выигрыш берет в Цари-гради. Для скоморохов полезна їкона.
– Дедушко, рассказал бы ты каку-ле сказку про мать!
– Матери разны бывают. Бывают и хуже мачехи. Вот расскажу…
Сменил гнев на милость и рассказал.
351. Талань
Не в каком царсви, не в каком осударсви, а именно в том, в котором мы живет, жили были два брата. Один жил боhато, у его была лавка, он торговал, а другой жил бедно, бился, бился. Дошли до того, што завтре детем їсь нечего дать.
Жона говорит: сходи на заре к свешшенику: попроси у его хлеба.
Он пошол, ешше тёмно, свешенник спит, и не посмел он заколотитьсе, пошел домой.
Идет мимо гумнишша и слышит, как два роботника заспорили, он стал слушать. Стал слушать, а ето спорят Талань да Учась. Учась говорит:
– Што ты, говорит, над своїм рабом сделала? Што он так бьетсе, и довела его до того, што детем и їсь нечего дать сегодня.
– А ето за то, што он бедным не внимает, над старыма смиется.
Вот пришел он домой, жона спрашивает:
– Ну, што, достал хлеба?
– Нет, не посмел заколотиться, поманя пойду.
А сам задумался, как ето он бедным не внимал и над старыма надсмиялсе? «Теперь уж таков не буду!» Вышел он из дому, а под ноги ему Талань и порснула. Он взял ее, в кладовушку занес и на латку посадил. Сходил к свешшенику: опеть у того ешше темно – спят. Вернулся в кладовушку, смотрит: а Талань кругом златинками обложилась. Он взял одну златинку и говорит жоны:
– Я пойду у брата куль муки куплю.
– Да што ты? Откуль у тебя столько денег?
Он пошел, подал брату златинку, – он ему и куль муки, и круп и всего надавал, што и не унести, а на лошади нать везти.
Привез домой и говорит:
– Мне ешшо и красной товар какого ле нать.
Жона ему:
– Да што ты? Да кольки у тебя денег?
Пошел, взял у Талани с латки две златинки и пошел к брату, подал ему две златинки. Брат посмотрел и говорит:
– Дак за эти златинки и товару тебе не нарезать. А, знать, бери половину всего, што в лавки есть и в кладовой, и торгуй так же, как я.
И повезли ему всякого товару, половину, што в лавки было и што в кладовой. Стал торговать, и торговля пошла такая, што только поспевай лавки строить.
Строил лавки в разных городах и заграницей уж стал.
Вот он уехал заграницу на долго, а тут стал к его жоны солдат из казармы ходить, Васильем звали. И стал он удивлятся, откуда у їх такое боhасьво: «што нибуть у їх уж есь». Стал спрашивать ее:
– Скажи, што ето, откуда у вас такое боhасьво? Што такое у вас торговля идет: никогда никакой утраты нету. Што-нибуть есь?
– Есь, да сказать не смею – она отвецят.
– Да хто жа нашу таїнку узнать? Знать только будем ты да я, да мы с тобой.
Она ему и сказала:
– У нас Талань есь… и росказала.
Вот и задумал он напустить на себя лютую немочь, и што будто во снях ему привиделось, што надо ету Талань подколоть и изжарить: я съем серьце этой Талани, и она уж во мне будет.
Вот он и напустил на себя лютую немочь: на коецьке лежит и в больницю не хочет.
Она ждет, ждет Василья: не ходит к ней, вот уж сколько дней. Взяла там дессерту, конфетиков собрала, надернула платок и отправилась. Там дневального солдата спрашивает:
– Где у вас тут Василей?
Дневальной отвецят:
– Есь такой у нас, очень болен, на коецьке лежит и в больницу не хочет.
– Нельзя ли к ему?
– Можно.
Он ее провел.
– Василей, да што с тобою?
– Ах, мне как не можется…
Упала она к ему на белы груди, слезами заливается.
– Да не надо-ли тебе чего? Не хочешь-ли чего?
– Да, во снях мне виделось, што подколоть бы мне Талань, да зажарить, да серьце съесть, дак я бы оправился.
– Ах, как же я могу подколоть ей, муж вернется, узнает.
– Да, знать, ребята пулях ловят, купи у їх пуляху, да подмени. Талань подколи, да зажарь, а на место ей пуляху посади.
Вот она так и сделала. Купила у ребят пуляху, лапки свезала и на место Талани опутинками к латке привязала, а Талань подколола и кухаркам наказала скоро изжарить.
Вот кухарки скоро справились, из пецьки ето жарко вынели, поставили, а двое детишек тут бегали, стали жаркое пробовать, да так подравилось, што пробовали, пробовали, да все съели.
Кухарки хватились.
– Вот, што теперь вам будет? Матка теперь вам уши нарвет, што как ей ето жаркое скоро куда-то нести было нать.
Ребятишки придумали:
– Вот поймайте цыпленка у куры, да поджарьте. Она не узнает.
Они так и сделали и в пець опеть поставили. Хозяйка справилась итти:
– Што жарко? Готово-ли?
Кухарки отвечают:
– Да вынели было из пецьки, да нам показалось, как сыровато, дак опять в пець поставили.
Она тут ногами затопала:
– Ах вы такие, сякие, ницего справить скоро не можете.
Ну, потом дождалась наконец, как жарко скоро поспело, и снесла в казарму. Василей цыпленка съел.
– Ну, што? Как тебе, Васильюшко?
– Да будто как лединка от серьця отвалилась.
Ну, и повеселела она.
А ребятишки к матери бегут, што обрать себя не могут, сколько у їх денег.
Она їх давай бить:
– Это вы все воруете, бегаете все в лавки.
И жалуется етому Василью на їх. Он догадался, што в їх Талань, а не в ем, и опять надумал лютую немочь на себя напустить и што надо ему етих детей подколоть, серьце зажарить и съесть. Вот он опять перестал к ей ходить. Колько то у ней не бывал, она в узелок конфетиков свернула, пошла в казарму, дневального спрашивает:
– Где у вас тут Василей?
Дневальной отвецает:
– Очень больной: на коецьке лежит, а больницю не хоцет.
Она пошла к ему:
– Што ты? Што с тобой?
– А ничего не могу, оцень я больной, ослаб совсем.
Пала она ему на белы груди, слезами залилась:
– Да может тебе чего нать?
– Да… виделось во снях, да только сказать страшно…
– Да ты скажи. Да хто нашу таїнку с тобой знать может, как только ты, да я, ды мы с тобой.
– Видилось мне во снях, што еслиб твоих детей убить, да серьца іхны зажарить, да я б їх съїл, так и полехчало б.
– Да как ето сделать? Убить їх не жалко: такие дрянные, все воруют, денег у їх нельзя обрать, и вот муж вернется да узнат…
– А ты подговори дворника. Пусть повезет кататься, за городом, под мостом убьет да там бросит. Нихто не узнает. А серьця пусть вырежет.
Она пришла домой и говорит дворнику:
– Наймись мне-ка детей убить.
– Да как можно…
– Она такие дрянные, все кругом воруют, денег у їх обрать нельзя…
Ну, и нанела его. Вот он повез детей кататься. Катает целой день, уж пора домой, он повез їх по край города. Дети говорят:
– Што ты, говоря, везешь нас куда-то по край города, как нам домой нать…
А тут уж и мост. У дворника рука не подымается їх убить, он сказал їм:
– Велено мне вас убить, а серьця вырезать и принести. Мне за ето пятьсот рублей.
Они говорят:
– Ах, не убивай нас, мы тебе за ето колько денег дадим, как мы їх обрать не можом. Ты убей двух дворняжек, вырежь у їх серьця, а мы уйдем жить со своима деньгами за три девять земель, и нихто про нас знать не будет.
Так и сделали. Он детей спустил, а сам назать поворотил.
Выскоцили две дворняжки, бросились лаять. Он їх топором зарубил, серьця вырезал и хозяйки принес. Она їх сейчас же велела зажарить и в казарму снесла Василью. Василей съел.
– Ну, што? Как тебе?
– Будто как лединка от серьця отпала.
Время пришло. Хозеин воротился. Она его со слезьми встрецяет:
– У нас в доме не постарому, у нас не по прежнему: утерелись дети…
Ну, отец загоревал, да штож сделаешь?
А ети дети ездили, ездили по разным царьсвам, и попали в такое осударьсво, што там холера всех людей выморила, и не было царя. И было там положено, што, у кого в церквы перед їконой свешча загорит, тому жониться на царевны и сесть на царьсво.
Ети браться зашли в церкву помолиться, и у одного на головы свешча загорела.
Его жонили на царевны, посадили на царьсво, а другому брату быть наследником и великим князем. Вот они живут и приезжает к їм гостить королевишна. (Так вот одна жила и ездила, – как у нас прежде агличанка была.) Стала она с великим князем в картоцки-тахмоцьки играть и все ему проиграла: все свої корабли, вообще имушшесьво. Штож делать? Она догадалась, што в ем Талань есь. Стала его просить взеть ее в замужесьво. Но он не согласился. Тоhда она стала его угошшать… кормить, и до того наугошшала, што он стал блевать и выблевал Талань нетленную. Она ету Талань схватила, вымыла и съела. Стала с їм в картоцьки-тахмоцьки играть и отыгралась и развеселилась, стала угошшаться, наугошшалась и заблевала. Он ету Талань схватил, вымыл и съел. Вот опять в ем Талань, опять он ее обыграл, и опять стала она в замужесьво проситься. Он отвечяет:
– Я так не могу, я должен со своим осударем посоветоваться.
Стал с братом советоваться. Он и говорит ему:
– Я тебе советую, поезжай и посмотри ее королевсьво, какое там житьё; как ты теперь не наследник, а только великой князь, у меня свой наследник родился, а ты сделаешься королем.
Ну, он совету послушал, поехал с королевишной, посмотрел ее осударьсво и жонился.
У нее был ковер-самолет.
И придумалось етим братьям – царю да королю – полететь на свою родину: «Посмотреть нашего отца, да мать-поганку».
Полетели в свой город. И к богатому купцю в гости.








