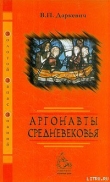Текст книги "Геммы античного мира"
Автор книги: Олег Неверов
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Как бы то ни было, даже при незначительности данных, которыми мы пока располагаем, связи Дексамена и [48] его мастерской с Северным Причерноморьем предстают, на наш взгляд, в несколько ином свете, чем это общепринято. Они не исчерпывались посреднической торговлей Афин с Боспором, а носили более прямой характер контактов знаменитого мастера с этим районом периферии античного мира.
В этой связи представляет интерес еще одно наблюдение. Вопреки закону, воспрещавшему резчику печатей сохранять их оттиски, когда печать продана, в мастерской Дексамена мы несколько раз встречаемся именно с копиями работ. Упомянутый сердоликовый скарабей из Керчи с изображением купальщицы имеет точную реплику, найденную в Афинах, хранящуюся в Берлине. Гемма с изображением орла и лани, найденная в окрестностях Керчи, повторяется в печати, происходящей с о-ва Крит. И наконец пять повторений имеет эрмитажная гемма с изображением пасущегося оленя, сохраняющая все приметы, мастерской Дексамена. Быть может, работая для заказчика на самом краю античной ойкумены, мастер сознательно нарушал древнее правило, так как знал, что оба владельца одинаковой печати разделены горами, морями, тысячами километров суши?[9]9
Неверов О.Я. Дексамен Хиосский..., с. 58, сл.
[Закрыть]
Множество гемм эпохи классики было найдено на юге нашей страны. Но, помимо Дексамена, сохранилось всего лишь еще два имени резчиков: Пергама и Афинада. Работа первого – с изображением юношеской головы в иранской тиаре – несет отзвуки фидиевского стиля, напоминая эфебов Панафинейского фриза Парфенона. Имя мастера, пожалуй, говорит об Ионии. Несомненно, ионийцем, судя по написанию имени, был второй современник Дексамена – мастер Афинад. Он оставил свою подпись на электровом перстне с изображением персидского воина, сидящего на складном стуле и держащего в руке наточенную стрелу. Смелые ракурсы, фасовое изображение лица, зоркое видение, замечающее необычную для эллина внешность перса, свойство – применительно к эпохе классики его иногда называют «этнографическим реализмом» – выгодно отличают Афинада. К сожалению, и здесь, как в случае с другими современниками Дексамена – Сосием, Олимпием, Онатосом и Фригиллом, от каждого из резчиков дошло лишь по одной подписной работе, что не даег возможности представить развитие творчества каждого из них.
Помимо влияния Дексамена, наиболее талантливого их [49] собрата, мастера современники могли испытывать воздействие других видов искусств – живописи, скульптуры, торевтики. Эти воздействия могли идти из самых разных центров, как восточных, так островных и материковых.
Известно, какое плодотворное влияние на искусство пластики оказал глава афинских скульпторов Фидий. Но этот ваятель обладал универсальным характером дарования. В юности он с успехом подвизался в качестве живописца, а также прославился как торевт. Своим резцом Фидий создавал столь изысканные миниатюры, что много столетий спустя, на закате античного мира о них с восторгом упоминают греческие писатели. Особенно восхвалялись такие чудеса микротехники Фидия, как изображения мух, пчел и цикады. Исследователь Д. Бордман считает возможным видеть в этих утерянных миниатюрах произведения глиптики, но источники недвусмысленно утверждают, что это была резьба по металлу. В геммах современников Фидия эти темы варьируются не однажды и, видимо, не без влияния прославленных образцов, вдохновлявших и Дексамена, и его современников.
В металлических перстнях эпохи классики можно отметить те же важные изменения тематики изображений и стиля, которые выявляются в каменных геммах-печатях, крепившихся на вращающемся кольце. До конца классической эпохи эти два вида греческой печати сосуществуют и их эволюция проходит параллельно. И здесь в репертуаре тем все большее место занимают образы богов любви и красоты – Эрота и Афродиты, изображения женской наготы уже не боятся религиозных «табу», делают заметные успехи анатомические штудии, разрабатываются элементы линейной перспективы.
Начиная с середины V в. до н.э. форма греческих перстней изменяется, дужка из округлой становится граненой, щиток из листовидного сперва – овальным, а в IV в. до н.э. – полностью круглым. Перстни этого времени обычно массивны и тяжелы. Иония и центры Восточного Средиземноморья – вот исходные пункты импорта, поступавшего в это время в города Северного Причерноморья. Но можно отметить и изделия, несомненно исполнявшиеся местными ювелирами и резчиками.
Особенно богат металлическими перстнями некрополь родовой и торговой знати Пантикапея – курган Юз-Оба. Здесь нередко в одном погребении можно встретить и каменную печать и золотой перстень с резным щитком.[50] Трижды в Северном Причерноморье встречены перстни с изображением Пенелопы – символом верной жены. Интересный набор перстней и печатей из металла обнаружен был в кургане Большая Близница на Таманском п-ове (IV в. до н.э.). Мягкий, человечный юмор оживляет сценки, где изображены девушка, играющая с собачкой, или Афродита с Эротом. Эта чета, ставшая такой популярной в эпоху классики, один раз предстает с любовным оракулом в виде волчка (юнкс), к которому тянется малыш-Эрот, в другой раз – божок любви, встав на колени, завязывает сандалии Афродиты. Эта сценка вырезана на редкой металлической печати в виде золотого скарабея.
В этом же погребении был найден золотой псевдоскарабей в виде льва, на его плоской части вырезана статуарная фигура Артемиды. Уникальное изображение песет пятая печать из кургана – фантастическое существо, дева-цикада, с лирой в руках, до пояса – человек, а ниже – насекомое. Шестая и седьмая печати несут изображения не греческие, а восточные; на халцедоновом ахеменидском многограннике вырезан персидский царь в единоборстве со львом, а на золотом перстне из мужского погребения – иранский ритон и пчела.
Значительная группа золотых перстней IV в. до н.э. из Северного Причерноморья может быть приписана местным мастерским. У исследователей эти перстни получили название «понтийских». Большинство из них имеет характерный признак – несомкнутую дужку, позволяющую менять размер ее кольца. Такая особенность становится понятной, если учесть, что большинство из подобных перстней было найдено в скифских курганах: исполнявшиеся для далеко живущих кочевников, они должны были подойти на любой палец. Двенадцать перстней этого типа было найдено в скифском кургане Чертомлык, десять из них украшали пальцы женщины «царицы». Один перстень имел резной щиток с изображением утки – упоминавшаяся выше вариация дексаменовской темы. Но вряд ли владелица его употребляла как печать. В скифском мире, не знающем развитого института собственности, отношение к перстню было совсем иным, чем у греков. Здесь он не был печатью в первую очередь, а скорее – чисто репрезентативным украшением, подчеркивавшим социальное положение его владельца.
Греку нужна была лишь одна печать. Над людьми, с варварским вкусом украшавшими себя многочисленными [51] геммами и перстнями, эллины посмеивались. Обычай же украшать каждый палец перстнем – явление, характерное только для варварского мира.
Отнюдь не все изображения на «понтийских» перстнях поддаются легкой интерпретации, некоторые несут какую-то загадочную символику, ключ к которой потерян. Таково изображение змеи, стреляющей из лука, или устрашающего восточного грифона, неожиданно превращающегося в петуха. Правда, наряду с такими изображениями встречаются привычные для эллинского мира орел, утка, собака или палица и лук —атрибуты Геракла. Поражает идиллическая картинка утра на перстне из Пантикапея – кузнечик, пьющий росу из распускающейся розы.[10]10
Неверов О.Я. Античные перстни (VI в. до н.э. – IV в.). Л., 1978, с. 5, сл.
[Закрыть]
Отношение к перстню в греческом мире было суеверно-почтительным и всегда – персональным. Вместе с перстнем царя наследник получал его власть и престол. Так, Александр Македонский, как сообщают его биографы, умирая, протянул свой перстень окружавшим его со словами: «достойнейшему» ...и оказался виновником долгих братоубийственных войн эпигонов и диадохов за власть.
Возможно, этот злополучный знак власти не утерян и сохранился до наших дней. Золотой перстень конца IV в. до н.э., найденный в Керчи и ныне хранящийся в Британском музее, украшен изображением крылатой Ники, воздвигающей победный трофей. Эмблема, вполне подходящая для удачливого полководца, завоевавшего почти весь известный тогда мир. Рядом с богиней победы начертана надпись: «Парменион – царю» (по другому чтению – «из принадлежащего царю»). Имя дарителя плохо сохранилось, но если согласиться с чтением, предложенным в свое время А. Фуртвенглером, то придется признать, что это – перстень Александра, видимо, подаренный царю его полководцем. Не может удивлять место его находки в Пантикапее. Здесь в 63 г. до н.э. покончил жизнь самоубийством царь и удачливый полководец Митридат VI, в какое-то время надеявшийся повторить опыт, удавшийся Александру, – создать огромную средиземноморскую державу. Все средства казались хороши Митридату для достижения этой грандиозной цели. Он утверждал, что по матери он – потомок македонского царя. Известно, что перед своими солдатами Митридат любил появляться в уборе своего полулегендарного предка, он [52] одевал в таких случаях панцирь и плащ Александра. В этом контексте не удивляет, что в гигантской, известной всему тогдашнему миру дактилиотеке Митридат хранил и перстень своего предшественника.
Глава III. Геммы загадочных этрусков
Не только в сочинениях публицистов и популяризаторов науки можно встретить эпитет «загадочные» или «таинственные» в приложении к племени этрусков, создателей одной из интереснейших культур античного мира I тысячелетия до н.э. Действительно, наши сведения об этрусской цивилизации остаются отрывочными и неопределенными, язык не разгадан, хотя чтением и интерпретацией этрусских надписей занимаются специалисты многих стран мира. Не решена и проблема происхождения этрусков. Уже древних греческих и рямских историков волновали многие из этих проблем. Так, Геродот (историк V в. до н.э.) может быть поставлен во главу сегодняшних сторонников «восточной» или «миграционной» теории происхождения этрусков, а Дионисий Галикарнасский, писавший в I в. до н.э., когда этрусского народа уже не существовало, был первым «автохтонистом». Его современник, латинский поэт Проперций, [53] писал об одном из цветущих городов этрусской федеративной державы:
Этруски оставили великолепные и очень своеобразные памятники искусства, в них отразился духовный мир этого загадочного народа. Однако для понимания изобразительного искусства необходимо знать философские, этические и религиозные воззрения народа. Отсутствие этрусской литературной традиции лишает нас этой возможности. Видимо, в силу этого обстоятельства долгое время отрицалось само существование самостоятельного этрусского искусства. Это мнение было порождено формальной точкой зрения и своеобразным «эллиноцентризмом» историков искусства, которые в качестве высшего эталона предполагали шедевры греческого искусства эпохи классики. Наличие параллелей между греческими и этрусскими памятниками было сочтено доказательством того, что этруски просто копировали недосягаемые греческие образцы. Установилось мнение, что искусство этрусков является лишь несовершенной тенью греческого. Так нормативная эстетика XVIII и XIX вв. мешала увидеть своеобразие богатейшего художественного мира этрусков, во многом непохожего на греческий художественный опыт, а кое в чем – и прямо ему противоположного. Только в XX в. была оценена яркая самобытность творчества этрусков, а одной из самых притягательных его черт объявлен «дух антиклассики».
Об этрусской глиптике уже на пороге XX в. А. Фуртвентлер писал: «Теперь выявляется ее двойная высокая значимость, во-первых, потому, что многие находки греков дошли до нас только в ее переработках, а затем-потому, что это – самое лучшее и совершенное, чего вообще смог достичь художественный дух этрусков».[2]2
Furtwangler A. Die antiken Gemmen. Bd. III. Leipzig, 1900, S. 170.
[Закрыть] Как ни высока здесь оценка этрусского искусства маститым ученым, в ней все же звучит, пусть и скрытое, утверждение абсолютного приоритета греческого художественного опыта. А между тем многие виды памятников, которые со времен А. Фуртвенглера приписывались эллинам и специально—грекам-ионийцам, отнесены теперь к творчеству этрусских мастеров, Достаточно упомянуть [54] «понтийские, церетанские, халкидские» вазы или так называемые «ионийские» золотые перстни в труде Фуртвенглера, которые теперь считаются изделиями этрусских ювелиров.
Экспрессивная атектоничиость этрусских статуй, «иллюзионизм» погребальных портретов, эмоциональная мажорность фресковой живописи – все это было оценено лишь нашими современниками, сумевшими оценить не только своеобразие искусства Этрурии, но и творческий опыт народов Африки, Востока, доколумбовой Америки.
Начало этрусской глиптики относится к концу VI в. до н.э., и следует признать, что оно связано с деятельностью греков-эмигрантов, глухие сведения о которых содержит историческое предание, сохраненное Страбоном и Плинием. Греческие резчики были первыми учителями этрусков в резьбе на камне. Вот почему этрусская глиптика не знала первоначального периода поисков, срывов, неудач, она начинается сразу с шедевров, родилась вооруженная богатым опытом, как, по легенде, Афина, родившаяся в полном вооружении из головы Зевса. Высокий художественный уровень самых ранних работ, подлинных шедевров микротехники, их стилистическая и техническая близость говорят о деятельности одной-двух первых мастерских. В этих мастерских, по-видимому находившихся в богатейших городах этрусского двенадцатиградия – Тарквиниях и Вульчи, и прошло свою школу поколение местных мастеров глиптики эпохи архаики и строгого стиля. Как и свойственно послушным ученикам, этрусские резчики очень долго оставались под обаянием архаического искусства Эллады, хотя все этапы «строгого, переходного и свободного» стилей классического периода можно увидеть в их изделиях. Нельзя не отметить своеобразного консерватизма, долго царившего в локальных мастерских; верные ученики словно не решаются отказаться ни от материала (это почти исключительно сердолик), ни от формы гемм (это всегда скарабеи), ни от усвоенных однажды приемов и полюбившегося стиля своих учителей.
Свою самостоятельность этрусские резчики обнаруживают в украшении спинки геммы жука-скарабея. Помимо подробнейшей правдивой передачи всех деталей строения насекомого, они покрывают узорочьем наружную базу, крылья, голову насекомого, что никогда не встречается на греческих скарабеях. Это дало повод Фуртвенглеру [55] несправедливо сравнить поведение этрусских резчиков с обыкновением ремесленника-копииста «больше внимания придавать раме, чем картине». Но, справедливость требует признать, что в лучших этрусских скарабеях, являющихся подлинными шедеврами микротехники, равных которым нелегко найти в глиптике Греции, местные резчики обнаруживают не только виртуозное мастерство хорошо обученных ремесленников, но и тончайшее чувство ритма, изощренное декоративное чутье художников-творцов.
Этруски использовали произведения глиптики на свой лад. Если для греков геммы служили печатью, то в Этрурии они употреблялись, по-видимому, исключительно как украшения. Ранний скарабей из раскопок в Спине, входивший в состав янтарного ожерелья; так называемое «колье князя Канино» в Лондоне, состоящее из 21 скарабея; ожерелье из скарабеев в Копенгагене – доказывают это. Особенность этрусских гемм V—IV вв. до н.э. – надписи на них, ценные следы загадочного языка этрусков. Но если на греческих геммах этой эпохи мы обычно встречаем подписи мастеров или имена владельцев печати, то на этрусских скарабеях – это исключительно имена изображенных персонажей. Часто это имена героев греческих легенд, переданные в их этрусских вариантах, иногда – наименования местных богов Туран (Афродита), Тиния (Зевс) и т.п. Характерно, что эти надписи читаются лишь на самой гемме, а не рассчитаны на чтение в оттиске. Это подтверждает заключение о том, что в качестве печатей этрусские скарабеи не употреблялись. Точно так же архаические перстни Этрурии обычно имеют тонкие, изящные щитки, легкую, неглубокую, линеарную резьбу, что делает мало вероятным их употребление в качестве печатей. Большинство золотых перстней V—IV вв. до н.э. имеет к тому же рельефные изображения. Часто на этрусских саркофагах мы видим по пять и больше перстней на руке одного персонажа. Видимо, как и в варварском мире Северного Причерноморья, перстни здесь употреблены для репрезентативных или чисто декоративных целей.
Богатое и разнообразное собранно этрусских гемм хранится в ленинградском Эрмитаже. Основное ядро его сложилось уже к концу XVIII в. Некоторые из этрусских скарабеев, в 80-е и 90-е годы XVIII в. поступивших в приватный музей Екатерины II, в начало XVIII в. входили [56] в собрание венецианского коллекционера А. Капелло и наряду с гностическими амулетами считались талисманами. Верное объяснение италийского происхождения их сюжетов и надписей дают в XVIII в. И. Винкельман и аббат Ланци. Однако первую строгую систематизацию этрусских гемм, опираясь на петербургское собрание, дал лишь академик Г. Келер в самом начале XIX в. Работа Келера «О скарабеях и этрусском искусстве» получила высокую оценку у современников-специалистов, и еще на пороге XX в. А. Фуртвенглер отметил верность метода петербургского академика. Поправляя Винкельмана, Келер заложил основы строго научной периодизации развития этрусской глиптики, отнеся «самые грубые и примитивные» из. этрусских гемм не к началу камнерезного искусства в Италии, а к эпохе его упадка у этрусков.[3]3
Neverov O. Die Sammlung Etruskisoher Glyptik in der Ermitage. – Studi Etruschi, v. XLIX (ser. III), 1981, p. 13.
[Закрыть]
К начальному периоду этрусской глиптики – концу VI в. до н.э. – в собрании Эрмитажа можно отнести, пожалуй, лишь две геммы. Первая из них – отпиленная от первоначального агатового скарабея – как все ранние этрусские резные камни, очень небольших размеров (1,1*0,8 см). Она, видимо, вышла из рук первого выдающегося местного резчика, чья мастерская находилась в Вульчи. Все поле геммы, обрамленное штриховыми ободками, занимает приземистая большеголовая фигура в богатых одеждах и в полном вооружении. Первый владелец – римский антиквар П. Веттори – и ученые XVIII в. видели здесь изображение воина, а Г. Келер – Агамемнона., вождя греков под Троей. Однако это, несомненно, изображение Афины, а то, что Келер принимал за украшенный парадный плащ военачальника, является эгидой, окруженной змеями. Точно такое же изображение эгиды мы встречаем на «халкидских вазах» из Вульчи.
Сходный скарабей из некрополя Популонии и там же найденные расписные вазы позволяют установить точную дату изготовления эрмитажной геммы – 520—500 гг. до н.э. Репликой ее является более крупный, агатовый скарабей в Женеве, несомненно, вышедший из той. же самой мастерской.
Красота крошечного эрмитажного шедевра – этрусской микротехники состоит в богатой линейной орнаментации плоскостного, не объемного, а словно графического изображения Афины. Богатство орнаментики строится на декоративно прочувствованном и сознательно подчеркнутом [57] чередовании горизонталей, округлых линий и диагоналей, повторяющихся в заштрихованном сегменте под ногами богини, на внутренней поверхности ее эгиды и в оперении шлема.
Любопытно отметить, что в отличие от поздних греческих изображений Афины, где эгида покрывает лишь плечи богини, здесь, в раннем этрусском памятнике, она спускается ниже колен и помимо змей по краю имеет шарики, вырезанные мастером с помощью тончайшего сверла. По-видимому, следуя древнейшей иконографической традиции, восходящей к Гомеру, резчик хотел изобразить золотые кисти, свисающие с эгиды. Вот как описывает появление богини в стане греков под Троей певец «Илиады»:
На втором архаическом скарабее из эрмитажной коллекции вырезано изображение гиппалектриона, фантастического соединения коня и петуха. Эта гемма еще миниатюрнее, чем предыдущая, но в обоих случаях мастер избегает свободного пространства. С виртуозным мастерством заполнив изображением все овальное поле скарабея, обрамленное штриховым ободком, на оставшиеся участки он наносит еще сверлом «заполнительные» шарики. Прелесть геммы —в чередовании объемных, скульптурных частей тела и графического оперения на хвосте и на загнутых вперед «ионийских» крыльях фантастического животного.
Всего пятью геммами ограничена вторая группа эрмитажных скарабеев – эпохи «строгого стиля» начала V в. до н.э. Однако здесь сосредоточены лучшие памятники этого рода, дошедшие до нас. Таков сердоликовый скарабей с изображением борьбы Геракла с крылатым демоническим существом-женщиной. Геракл изображен безбородым, он занес палицу над головой змееногого крылатого существа, по-видимому, порождённого мрачными легендами местной мифотворческой традиции. Келер видел здесь сцену из гигантомахии. Возможно, мы имеем здесь случай этрусской интерпретации иных греческих [58] мифов – о борьбе Геракла с Ехидной или же со скифской змееногой богиней, о которой повествует Геродот.
В мастерски скомпонованной, четко уравновешенной двухфигурной композиции еще не разрушена статичность архаической схемы, хотя в деталях утрированно подчеркнута объемность и угловатые движения. Можно отметить частое употребление резчиком одного вида сверла («рундперла»), оставляющего шарики («глоболо»). Этому приему впоследствии суждена в этрусской глиптике особая роль. С его помощью мастер подчеркивает словно вздувшиеся мышцы на животе и коленях. Из шариков скомпонована палица Геракла.
Замечателен ленинградский псевдоскарабей с изображением Аякса и Ахилла. На линии почвы, словно в момент перехода из одного состояния в другое, изображен преклонивший колено бородатый воин в панцире, шлеме и кнемидах. Через плечо он перекинул безжизненно обмякшее обнаженное тело своего поверженного товарища по оружию. Рядом с каждым начертаны этрусские надписи, называющие имена изображенных —Аякса и Ахилла. Надписи, вырезанные на ленинградской гемме, позволяют идентифицировать подобные группы на близких скарабеях из собраний Лондона и Флоренции. У ног Аякса изображена небольшая крылатая фигурка. Келер счел, что мастер добавил ее для масштаба, чтобы, подчеркнуть якобы огромный, «как у колоссов на Монте Кавалло», рост героев. По-видимому, эта крылатая фигурка должна изображать «ейдолон» – душу Ахилла, символизируя его недавнюю гибель.[5]5
Neverov О. Op. cit., tav. V, 6-7, VI, 7-8.
[Закрыть]
Богато украшенная рельефной резьбой обратная сторона геммы связана со сценой на лицевой стороне. На месте спинки жука, где должно быть, казалось бы, типичное для этого периода детальное изображение крыльев скарабея, блистательно выполнена фигура – виртуозный образец выпуклой резьбы в технике камеи. Крылатая женщина-птица, печально склонившая голову и бьющая в грудь кулаками – конечно, не Фетида, мать Ахилла, как считал Келер, а сирена – обычный стаффаж древних погребальных памятников. Любопытно, что этот трагический образ сочетается с остатками натуралистически-детально трактованного жука, его головы и членистых лапок. Возможно, здесь мы имеем дело со своеобразным глиптическим «палимпсестом», с первоначальным, архаичным и традиционным исполнением спинки скарабея к более развитым, [59] индивидуальным и лирически-выразительным новым. Так же как крылатый змееногий демон-женщина на предыдущей гемме, Сирена здесь может считаться мотивом, принадлежащим этрусскому резчику, ибо в греческой глиптике мы не находим подобного украшения на спинке псевдоскарабеев. Да и самим символом носителя души умершего, в качестве которого предстает здесь Сирена, в греческих архаических геммах обычно является сфинкс. Эрмитажная гемма с Аяксом и Ахиллом относится к первой четверти V в. до н.э. и, должно быть, исполнена местным резчиком в Вульчи или Цере, так как ближайшие аналогии в торевтике указывают на близость именно к этим цветущим центрам этрусского ремесла эпохи «строгого стиля».
На берлинском скарабее этого же времени, на который первым обратил внимание Винкельман, вырезана сложная многофигурная композиция из пяти воинов, каждый из которых обозначен именем. Это герои фиванского цикла греческих сказаний: Адраст, Тидей, Полиник, Партенопей и Амфиарай. Трое из них сидят, укутавшись в плащи, с жестами, обозначающими раздумье и глубокое отчаянье, двое в полном вооружении стоят за ними. Амфиарай, опирающийся на копье и опустивший голову в мистическом трансе, восседает в центре и явно представляет центральное лицо сцены, он предсказывает гибельный исход фиванского похода. Ученые считают, что источником вдохновения для этрусского резчика могла быть греческая монументальная фреска, в берлинском скарабее виден отзвук высокого «этоса» живописи Полигнота. Упоминаемая Павсанием картина Онасия «Семеро у Фив» известна лишь по названию, но центральный персонаж, сидящий в раздумье, окруженный своими товарищами, восходит к изображению Ахилла в «Гибели Трои» Полигнота. На лондонском скарабее изображение скорбящего героя, напоминающего Полиника берлинской геммы, сопровождается именем Ахилла.
Третий вариант героя, изображенного точно так же, мы встречаем на эрмитажной гемме. Это древняя паста – стеклянная отливка утраченного скарабея. Юный герой в грустной позе сидит на стуле, подперев рукой склоненную голову. Рядом начертано имя – Тезей. Эти три одинаковые фигуры, сопровождаемые каждый раз новым именем, позволяют нам словно заглянуть в самую «кухню» работы этрусского резчика гемм: мотив сидящего в печали героя, [60] заимствованный из прославленной фрески Полигнота, затем без всяких трансформаций, одним изменением имени превращался в любого подходящего персонажа – Тезея, Ахилла или Полиника.
Фрагментировэнный скарабей эрмитажного собрания с изображением юноши, моющего волосы в лутерии, помещается на границе «строгого» и «свободного» стилей этрусской глиптики, где-то около 470—460 гг. до н.э. Судя по надписи «Пелей», сопровождающей подобное изображение на утраченной гемме из бывшего собрания С. Понятовского, здесь изображен Пелей, отец Ахилла. Уместно отметить особую любовь этрусских резчиков к репертуару греческих мифов в данный период развития глиптики Этрурии. Ахилл, Пелей, Тезей, Тидей, Капаней, Амфиарай, Язон – таковы имена, пользующиеся наибольшей популярностью. Порой они добавлены без особой, на наш взгляд, мотивировки к фигуркам атлетов, моющих волосы, подобно эрмитажному «Пелею», или очищающих тело стригилем, подобно берлинскому «Тидею». Ученые XIX в. с большим трудом подбирали соответствующие места из греческих мифографов, чтобы дать хоть какое-либо объяснение этим странным сочетаниям. Так, пытаясь объяснить занятие «Пелея» на эрмитажном скарабее, Г. Келер, вступив в спор с Винкельманом, утверждал, что древний герой изображен здесь не в момент, предшествующий посвящению шевелюры богам за возвращение его сына из-под Трои, а в момент ритуального очищения после убийства брата Фока.
По-видимому, точно так же, как в случае с берлинским Полиником – лондонским Ахиллом – ленинградским Тезеем, мы имеем дело с особым этрусским пониманием греческого художественного и нарративного предания, интерпретировать которое за отсутствием письменных свидетельств самих этрусков мы считаем слишком смелым предприятием.
Прекрасный образец анималистического жанра в этрусских скарабеях строгого стиля являет собой лев на эрмитажной сердоликовой гемме начала V в. до н.э. Виртуозная орнаментальная схема, восходящая к архаическим трактовкам хищника, типа льва ионийского мастера Аристотейха, воспроизведена здесь с блеском этрусским резчиком-миниатюристом.
Постепенно в эпоху. классики в этрусскую глиптику, словно находившуюся под гипнозом архаического [61] искусства Греции, проникают местные мифологические образы. Попытка исследователей интерпретировать их с традиционных «эллиноцентрических» позиций приводила подчас к совершенным курьезам. Таков крупный сердоликовый скарабей с изображением крылатой женщины на троне, держащей, в руке крошечного крылатого человечка. Основываясь на жезле Меркурия, лежащем у ног женщины, и опираясь на греческую художественную традицию, Г. Келер предложил имена Меркурия (!) и маленького Вакха. Современный немецкий исследователь И. Цацов, не пытаясь конкретизировать изображенные здесь персонажи, называет их «крылатая женщина и крылатый демон». Нам думается, все же, что круг изображений следует связать с этрусскими загробными верованиями. Керикей явно указывает нам на функцию хтонического Меркурия-психопомпа, проводника душ в Аид. Сидящая женщина может быть этрусской Прозерпиной или, возможно, – Лазой, а крылатая фигурка, по аналогии с упоминавшимся выше эрмитажным псевдоскарабеем, – душой умершего. Итак, душа, вручаемая Лазой Меркурию, или врученная им царице подземного мира Прозерпине, – таково наиболее близкое объяснение сюжета эрмитажного скарабея второй половины V в. до н.э.[6]6
Ibidem, tav. V, 3.
[Закрыть]
Возможно, свое, связанное с италийской мифологией содержание вкладывал этрусский мастер и в фигурку спутника Одиссея, превращенного в животное волшебным напитком Цирцеи. Скарабей с этим изображением, наверное, должен быть связан со сходной сценой на одной из кьюзинских урн. По-видимому, оба изображения входят в круг специфически этрусских представлений о посмертном воздаянии.
В многочисленной серии этрусских гемм раннего «свободного стиля» в эрмитажном собрании особого внимания заслуживают две. Первая – агатовый скарабей, из собрания гр. Л.А. Перовского – поступил в Эрмитаж в 1873 г. Фигура коленопреклоненного скифа со стрелой изображена этрусским резчиком с поразительно точным знанием этнографических особенностей и костюма далекого восточного народа, сопровождается надписью: «скиф». Гемма относится к середине V в. до н.э. Соблазнительно предположить, что в собрание графа Перовского она могла попасть из раскопок на территории России.
Вторая гемма поступила в Эрмитаж в 1893 г. из коллекции одесского собирателя Ю.X. Лемме. Изображенные [62] на ней два персонажа много раз подвергались обсуждению археологами. Один из них, с посохом и полностью обнаженный, изображен в фас, другой, в плаще и остроконечной шапке, поддерживающий первого под руки, предстает в традиционном профильном изображении. Одиссей с Филоктетом, Тиресием или Телефом? Имена вызывали оживленные споры, пока, наконец, Прометей и Гефест, предложенные Фуртвенглером, не положили конец ревизии сюжета. Драматический эпизод наказания гиганта Прометея Зевсом, повелевшим Гефесту приковать его к Кавказской скале, по мнению Фуртвенглера, заимствован здесь с картины афинского живописца Паррасия.