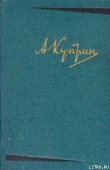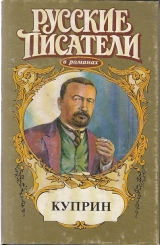
Текст книги "Куприн"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
5
– Я бы чего-нибудь еданул, Маша, – утром после чая попросил жену Куприн. – Хорошо немного заправиться перед работой.
И с большим аппетитом съел яичницу и холодное мясо.
Вот уже несколько дней сразу после завтрака он отправлялся к себе на чердак, где устроил рабочий кабинет. Подымаясь из-за стола, Куприн как-то необычно, боком начал выходить из комнаты, и наблюдательная Мария Карловна заметила, что спереди блуза на нём странно оттопыривается.
Она подошла и одёрнула рубашку. И вдруг оттуда вывалилась небольшая подушка.
– Это что же такое? – строго спросила Мария Карловна.
Куприн смутился, как нашаливший кадет.
– На табурете сидеть слишком жёстко, так я беру с собой подушечку.
– А вот я посмотрю сейчас, как ты там устроил свой рабочий кабинет! – ещё более строго сказала она.
– Да нет, зачем! Лучше не ходи, Маша, – просительно ответил он.
Но Мария Карловна уже шла по лесенке.
Никакого табурета на чердаке не оказалось.
Около стены было густо уложено сено, покрытое каким-то рядном.
– Вот так рабочий кабинет! – вовсе разгневалась она.
– Видишь ли, – оправдывался Куприн, – я лежу, обдумываю тему, а потом незаметно засыпаю.
– Хорошо, – отрезала Мария Карловна. – С завтраками отныне будет покончено!..
Теперь Куприн работал по-настоящему. Мария Карловна тихо подбиралась к чердаку и сразу успокаивалась, слыша наверху шаги и бормотанье: Куприн ходил взад и вперёд, наговаривая себе фразы по своей любимой методе. Но над чем он работал, этого не знал никто. За чаем Любовь Алексеевна иногда спрашивала:
– О чём ты пишешь, Саша?
Куприн сердился и с недопитым чаем уходил к себе на чердак.
Однажды он спустился в библиотеку, где Мария Карловна с увлечением перечитывала старые журналы – «Современник» и «Отечественные записки», поэтов XVIII века.
– Сегодня вечерком, Маша, – сказал он, – я начну учить тебя преферансу. Я понимаю, тебе не хочется уходить из библиотеки, но без преферанса очень скучает мама. Читать она уже почти не может – слишком слабы стали глаза… А ты что читаешь? – Он взял из её рук книгу. – А, Державин! «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил…» Дай-ка я открою что-нибудь наугад.
Он развернул том и прочёл:
Река времён в своём стремленье
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
– Какое великолепное стихотворение! – изумился Куприн, возвращая книгу. – Звучное, торжественно-пышное и в то же время полно глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Всё казалось мне мелким и некрасивым. «Река жизни» – так он будет называться. На днях перепишу его ещё раз и тогда прочту тебе, Маша…
Рассказ «Река жизни» был превосходен, читал Куприн великолепно. Герои произведения – мадам Зигмайер и всё её семейство, поручик Чижевич, околоточный, – как живые, возникли перед Марией Карловной. Но вот дело дошло до последней главы, где появляется студент со своим монологом и близится трагическая развязка:
«Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, по нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку… Меня заставляли целовать ручки у благодетелей – у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трёпаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: „А вот нос моего сыночка Лёвушки…“ Я проклинаю свою мать…»
Куприн дочитал, нигде не останавливаясь. Он кончил. Мария Карловна молчала.
– Так что же, Маша? – наконец нетерпеливо спросил он. – В чём дело?
Мария Карловна медленно начала:
– Ты сам отлично знаешь, в чём. То, что ты пишешь о детстве, о своей матери, оскорбительно. Чем она виновата? Ей, урождённой княжне Кулунчаковой, пришлось выйти замуж за мелкого чиновника. После его смерти она осталась без копейки, в глухой провинции. Ради детей Любовь Алексеевна сломила свою гордость, свой прямой, независимый характер. Только материнская любовь поддерживала её. А ты – ты думаешь о себе, о своих детских обидах. – Голос Марии Карловны задрожал. – У тебя хватило духу написать: «Я проклинаю свою мать». И ещё о том, что после посещения богатых подруг мать была настолько неприятна герою, что тот вздрагивал, слыша её голос. А эпизод со старым портсигаром? Любовь Алексеевна сразу поймёт, что ты рассказываешь о ней. Это невозможно!
– Что же ты предлагаешь? – более чем сухо осведомился Куприн.
– Ты должен всё смягчить, чтобы это не носило портретного сходства…
– Я обязан был написать об этом подлом времени молчания и нищенства и этом благоденственном мирном житии под сенью благочестивой реакции, – непреклонно возразил Куприн. – Дать правдивую картину этого прошлого я не мог, не описав того, что пережил сам.
Он молча ходил по комнате; Мария Карловна тихо плакала.
Прошло несколько дней, однообразных, с каждодневным послеобеденным преферансом. Как-то за картами Любовь Алексеевна спросила:
– Что же, Саша, когда наконец ты прочтёшь нам свой новый рассказ?
– Рассказ? – быстро отозвался Куприн. – Хорошо, я прочитаю его сейчас.
Он вычеркнул из «Реки жизни» только одну фразу о том, что проклинает свою мать…
Поначалу Любовь Алексеевна смеялась, слушая, как её сын мастерски, в лицах изображал семейство Зигмайер:
«– Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заеда-а-ешь!..» – «Нашу копейку заедаешь!» – орал гимназист Ромка, кривляясь за материнской юбкой. «Заеда-аешь!» – вторили ему в отдалении Адька с Эдькой».
Но вот пошла последняя глава. Мария Карловна сидела, не подымая лица.
«Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью…»
Куприн продолжал читать. У Любови Алексеевны затряслась голова, она поднялась из кресла и вышла из комнаты.
Долго сердиться на сына, однако, Любовь Алексеевна не могла. Ради любимого Саши она готова была вынести всё. Куприн убедил её, что воспоминания эти были так же тяжелы ему, как и ей, но вновь пережить это ему – писателю – было необходимо. Возобновился послеобеденный преферанс, сопровождавшийся шутками и карточными фокусами Александра Ивановича.
Вскоре в Даниловское приехал «погостить» Батюшков.
Теперь они почасту ходили вдвоём с Куприным, забираясь в самую лесную и болотную глухомань.
– Как красиво! – восхищался Куприн, с трудом выдирая сапоги из вязкой трясины.
Болото растянулось на бог знает сколько сот, может быть, даже тысяч десятин. Волнистым синим хребтом вставал сосновый лес. Вся же окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли ртути, изгибы местных болотистых речонок.
– Ещё бы! – вторил ему Батюшков, хлопая себя по породистым щекам, мокрым от раздавленных комаров. – Красота движет миром!..
– О нет! – пылко возразил Куприн, останавливаясь в глубокой, заросшей кугой луже[41]41
...заросшей кугой луже.— Куга – болотистое безлистное растение с круглым стеблем, осока, ситник.
[Закрыть]. – Миром движет любовь. Только любовь!
Батюшков помог ему выбраться на сухое место.
– Под красотой я разумею не просто эстетическое чувство, – пояснил он, – но всё прекрасное, что умещает в себе наше «я»: общественное благо, мировую справедливость и мировую душу…
– Простите, Фёдор Дмитриевич, – освобождаясь от налипшей тины, сказал Куприн, – но в ваших возвышенных границах моё «я» чувствует себя так же, как прошлогодний клоп, иссохший между двумя досками. Моё «я» требует полного расширения всего богатства моих чувств и мыслей, хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно непринятых в обществе. И конечно, требует любви… Любовь – это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего «я».
Он взошёл на поросшее брусникой взлобье, прислонился спиной к огромной мрачной ели и с пафосом воскликнул:
– Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви…
– Э, друг мой! – удивился Батюшков, останавливаясь рядом. – Вы говорите так романтически, словно сами влюблены, влюблены юношески…
– Так оно и есть, – тихо сказал Куприн и попросил: – Фёдор Дмитриевич! Я давно хотел предложить вам перейти на «ты»…
– С удовольствием, только, конечно, без брудершафта, – улыбнулся Батюшков. – Так, Александр Иванович, ты, оказывается, влюблён? Бог мой! В кого?
– Я люблю Лизу Гейнрих…
– И это серьёзно?
– Как никогда в жизни, – упрямо проговорил Куприн. – И не знаю, что мне делать. Посоветуй, Фёдор Дмитриевич!
– Ты говорил ей об этом? – Батюшков внимательно поглядел на Куприна.
– Нет… Может быть, она о чём-то и догадывается, но у меня не хватает сил.
– Ты обязан с ней объясниться! – взял его за руку Батюшков. – Понимаешь? Это совершенно необходимо сделать, чтобы не быть в двусмысленном положении…
Поздно вечером того же дня Куприн назначил свидание Лизе в парке возле пруда.
При свете месяца, вспыхивавшего холодным металлическим диском в разрыве туч, Куприн увидел милое лицо, в детских чистых глазах которого прочёл страх и надежду. Он не знал, с чего начать. В наступавшей ночи, в свежести воздуха и слабых, неясных отзвуках далёкой грозы, казалось, вот-вот вспомнится что-то очень важное, давно забытое, связанное с молодостью, подъёмом сил, надеждами, ожиданием счастья.
Низкие тучи надвигались быстро, цепляя верхушки лип. Скоро не стало видно ничего: ни туч, ни кустарников, ни Лизы. Куприн нашёл в темноте её маленькую холодную ручку.
– Лиза, – сказал он горячечным шёпотом, – я понял, что больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю вас… Понял, что без вас не могу жить…
Наверху загрохотало и оборвалось с сухим треском – молния и гром явились почти одновременно, с ничтожным разрывом.
– Что вы, что вы! – в отчаянии ответила Лиза. И хотя говорила она чуть слышно, Куприну показалось, что гром, уже непрерывно грохотавший, не может заглушить её шёпота. – А как же Люлюшка? Как же вы можете даже подумать о том, чтобы оставить её?..
– Я не знаю, что мне делать, но я не могу без вас, – тупо повторил Куприн. – Выслушайте меня до конца…
Она вырвала руку и побежала. Куприн, натыкаясь на деревья и кусты, бросился за ней к усадьбе, где уже не светилось ни одно окно.
Рано утром Лиза Гейнрих, никого не известив, покинула Даниловское.
6
– Прохор! Про-охор!
Крошечный седой старичок, совмещавший в «Капернауме» обязанности швейцара, официанта и слуги за стойкой, на ходу кланяясь, семенил к Куприну.
– Ещё четвёрочку!
Куприн бушевал в Петербурге. Он переезжал из роскошных ресторанов в затрапезные кабачки вроде «Давыдки» и «Капернаума», пил в «Вене», загонял лихачей, гулял с цыганами и не отпускал от себя никого из честной компании – Трозинера, Трояновского, Рославлева, Регинина. Лиза Гейнрих исчезла. Все розыски, предпринятые Куприным, оказались безуспешными. Утром, ещё не расцепив веки, он звал Маныча и через несколько минут после бокала шампанского погружался в мутно-сладостный водоворот похмелья. За завтраком с водкой обсуждался только один вопрос: куда отправиться сегодня…
– Александр Иванович! Вас спрашивают… – Прохор принёс четверть бутылки коньяку. Такими же четвёрочками, уже пустыми, был заставлен угол стола.
Куприн, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со злобой и скукой. Он узнал редактора газеты «Понедельник» Илью Василевского.
– Чего тебе?
– Рассказ… Только обещайте, Александр Иванович… – вкрадчиво сказал тот. – Гоняюсь за вами вторые сутки… Гонорар даю вперёд. Плачу семьсот пятьдесят за лист… – И потянулся за бумажником.
Маленькие глазки Куприна налились кровью.
– Геть отсюда! – так страшно закричал он, что Василевского сдуло.
Потом схватил салфетку, свернул её жгутом и начал крутить. Шея у него надулась, и нижняя губа оттопырилась. Салфетка лопнула.
– Экая силища! – восхитился Трозинер и потребовал ещё четвёрочку.
– А я, – проговорил Рославлев, огромного роста, непомерно толстый, – так не могу. У меня слабые руки… Зато на спор оглушу сейчас двадцать пять бокалов пива.
– Держу пари, нет! – воскликнул Трояновский, откидываясь на спинку стула.
– Держись, юнкер! Не лопни, Рославлев! А то опять тебе баранью котлету к брюху! – восторженно завопил Вася Рапопорт.
Прохор принёс пива на подносе. Рославлев откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить.
Куприн пристальным невидящим взглядом вперился в него. Трозинер гладил Трояновского по волосам, напевая на мелодию Оффенбаха:
Ах, наш юнкер проиграл,
Проиграл, проиграл!
Ай-яй-яй, какой скандал,
Ах, скандал! Да!..
Рославлев, охая и повторяя: «Кишочки болят», – приканчивал двадцать третью кружку. Вася Рапопорт возгласами подбадривал его. «Где я? – с тоской подумал Куприн. – Что они тут делают? И Маныча где-то потеряли… Лиза! Лиза! Лиза! – Билась кровь в запястьях, под левой лопаткой, в висках. – Всё погибло! Назад пути нет. Но и Лизы нет тоже!»
Куприн вскочил на стол и принялся топтать по нему, разбивая крепкими ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Друзья, сидя на стульях, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Рославлев хотел было тоже встать, приподнялся, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на пол. Куприну вдруг представилось, что он в Даниловском танцует на ёлке, а навстречу идёт Батюшков.
– Федя! – прорыдал он. – Мой единственный друг!
Батюшков помог ему слезть со стола.
– Саша, я нашёл Елизавету Морицовну. Она работает в отдалённом госпитале, в отделении заразных больных…
Куприн, медленно трезвея, слушал его. Младенцем ревел завалившийся под стол Рославлев.
– Я постарался объяснить ей, – продолжал Батюшков, – что твои разрыв с Марией Карловной окончателен, что ты погибаешь и что только она может тебя спасти.
– Да-да, спасти… – механически повторил Куприн. – Спасать – её призвание!
– Саша, она согласна. Но её твёрдое условие: ты тотчас же перестаёшь пить и отправляешься лечиться в Гельсингфорс…
19 марта 1907 года Куприн с Елизаветой Морицовной выехали в Финляндию.
7
Счастье, всеохватывающее бурное чувство, близость любимой и любящей женщины. Но покой не приходил. Теперь, когда Куприн ясно понимал, что закладываются основы простого и прочного быта, семьи, особенно остро ощущались отсутствие очага, дома. Куприн мечется по России, ненадолго останавливаясь то в Гурзуфе, то в Гатчине, то в Ессентуках, куда его загоняет ревматизм, то снова в Финляндии, то задерживается в Житомире, где в это время была его любимая сестра Зинаида Ивановна Нат. В этот сравнительно короткий период кочевья, переездов, нахлынувших забот он пишет много и вдохновенно: «Суламифь», «Изумруд», начало «Листригонов», первая часть «Ямы»…
Над «Ямой» он работал в Житомире, создавал картины «дна», стремился привлечь внимание общественности к проституции как тяжкому социальному явлению, а на его взгляд, более страшному, чем мор или война.
Но литературные страсти, общественные столкновения докатывались и до тихого Житомира, выбивая впечатлительного Куприна из рабочего настроения, понуждая волноваться, сопереживать и злиться на себя от сознания бессилия изменить что-либо.
Из газет он узнал об очередном разразившемся литературном скандале, жертвой которого стал его хороший знакомый, прозаик и драматург Евгений Иванович Чириков.
Суть была в следующем.
У известного петербургского артиста Н. Ходотова в присутствии большой группы литераторов и журналистов читалась новая пьеса Шолома Аша «Белая кость». Сам Ш. Аш, ещё недавно воспевавший в своих рассказах силу и жизненность социальных «низов» местечка и обличавший бессилие и клерикальную реакционность «верхов», в годы общественной реакции всё более обращался к идеализации национально-религиозных традиций, истории Израиля, а затем (по словам советского критика И. Нусинова) стал создавать произведения, насыщенные «националистической апологетикой библейской красы и средневековой героики народа-богоносца». Драма «Белая кость» явилась переломной в этой эволюции, обнаружив в себе идеализацию патриархального прошлого и многовековых устоев зажиточной торгово-мещанской среды.
Мнения слушателей разделились. Часть литераторов недоумевала, почему Ш. Аш в своей пьесе идеализировал заядлую мещанку-хищницу Розу; другие – журналисты, критики и писатели, в том числе и модернистского толка, обычно отрицавшие реализм и презрительно третировавшие «бытовиков», всячески превозносили драму Ш. Аша и его героиню.
В ответ на критику автор пьесы сказал искреннюю и горячую речь, суть которой неожиданно для присутствующих свелась к тому, что русский человек вообще не способен понять его пьесы и чтобы Роза предстала перед слушателями в истинном свете, как героиня фантастического склада, спасающая аристократическую кровь своих предков, необходимо либо самому быть евреем, либо по крайней мере прожить среди этого народа пять тысяч лет. Ошеломлённое таким доводом собрание молчало, никто Шолому Ашу не возразил.
Только Чириков поднялся и, отдав должное художественным достоинствам произведения, всё же заметил:
– Если, по вашему мнению, мы не способны понять вашу пьесу, то отсюда следует и обратное: тогда и вы не способны понимать нас, наш быт, психологию, характер…
Затем Чириков говорил о том, что национальность и быт действительно всегда неразрывно связаны между собой, но высказал сожаление, что в некоторой части интеллигенции вопрос о национальности превалирует над всеми прочими.
– Это началось, – заявил он, – со времени отделения Бунда от единой социал-демократической партии[42]42
...со времени отделения Бунда от единой социал-демократической партии...— Бунд (на идиш — союз) – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» – оппортунистическая мелкобуржуазная националистическая партия. Основан в Вильно в 1897 г. В 1898—1903 гг., с 1906 г,– автономная организация в РСДРП. Поддерживал «экономистов», меньшевиков, ликвидаторов, троцкистов. В 1912 г. исключён из РСДРП 6-й (Пражской) партийной конференцией. В Первую мировую войну стоял на позициях социал-шовинизма. В 1917-м поддерживал буржуазное Временное правительство. После Октябрьской революции руководство Бунда примкнуло к контрреволюции. В 1920 г. Бунд отказался от борьбы с советской властью и в 1921 г. самоликвидировался.
[Закрыть], что когда-то на меня, русского интеллигента, вскормленного идеалами братства и равенства, произвело весьма огорчительное впечатление. И когда мне, русскому, противопоставляют лозунг «Мы – евреи», в таком случае мне позволительно ответить: «А я – русский…» Да, я русский! Не из «Союза русского народа», а просто русский.
Услышав тихий, но явственный ропот, Чириков закончил:
– Впрочем, как вам будет угодно… – и махнул рукой.
Эти слова, высказанные в узком кругу профессиональных литераторов, тем не менее послужили предлогом для шумной и бранчливой кампании, которую открыла петербургская просионистская газета «Фраинд» и которую подхватили и некоторые другие органы печати, включая популярное «Русское слово». Чириков был назван ярым антисемитом, ему голословно приписали неизвестно кем придуманные высказывания о «захвате русской литературы», угрозы вроде того, что «мы вам покажем», «мы будем бороться против вас» и т.д.
Без сомнения, о чём пострадавший, конечно, не знал, всё это было инспирировано сионистскими кругами, которым была нужна идейная платформа для переманивания на свою сторону еврейской интеллигенции, и прежде всего той, которая тянулась к социал-демократии, любым путём, вплоть до клеветы, шантажа, дезинформации.
Напрасно пытался Чириков со страниц газеты «Новая Русь» отвести наветы, напрасно повторял, что не говорил «ни о каком захвате русской литературы», «ибо русскую литературу с такими колоссами, как Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Лев Толстой, Чехов, никто захватить не может» и такой чести он оказать никому не волен. Напрасно с коллективным протестом против искажения речи Чирикова выступили присутствовавшие при чтении пьесы А. Санин, С. Найдёнов, А. Рославлев[43]43
Найдёнов Сергей Александрович (наст, фам. Алексеев; 1868—1922), драматург.
Рославлев Александр Степанович (1883—1920), поэт, прозаик, публицист.
[Закрыть], К. Арабажин, Дм. Цензор[44]44
Арабажин Константин Иванович (1866—1929), критик, журналист, литературовед.
Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947), поэт. Печатался в 1894 г. во многих толстых журналах. Был постоянным посетителем «башни» Вяч. Иванова. Один из самых прилежных последователей символизма.
[Закрыть], сам хозяин – Н. Ходотов и другие. Газетные страсти разгорались, направляемые какой-то невидимой, опытной и достаточно могучей рукой.
Этот, казалось бы, незначительный эпизод глубоко взволновал и Куприна. В его душе давно уже копился протест против узкого фанатического национализма в любых его проявлениях – от черносотенного «Союза русского народа» и до сионистских идей. Особенное несогласие и даже возмущение вызвали у него фельетоны Владимира Жаботинского, посвятившего «чириковскому инциденту» четыре выступления.
В. Жаботинский – один из самых крупных идеологов сионизма в России, который пытался в 1900-е и 1910-е годы использовать в своих целях любые силы, начиная от «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России» (Бунда) и кончая Петлюрой, а ещё позднее выказал себя заклятым врагом палестинцев и, по определению современного фашиствующего сиониста Кахане, «легендарным создателем еврейского легиона». Не скрывая своих расистских убеждений, В. Жаботинский печатно приветствовал погромы и антисемитизм как прекрасный «повод для сионистской агитации». Он пропагандировал необходимость презрительной отчуждённости еврея, «гостя на чужой земле», к другим народам. В статье «О евреях в русской литературе» Жаботинский писал: «… при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареви, а божие держу при себе. Исповедуя лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше».
Смысл и суть фельетонов В. Жаботинского о «чириковском инциденте» сводится к тому, что в глубинах русского общества и русского народа якобы таится если не антисемитизм, то «асемитизм», что вся русская литература в лице её великих представителей, художественного таланта которых он, Жаботинский, не склонен умалять, – от Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Лескова, Чехова и т. п. – якобы несёт в себе семена «национальной исключительности» и с глубоким презрением касается всего, что связано с «нерусским»… В итоге В. Жаботинский обращается к нерусским народностям России и призывает их к «фактическому разрыву с великорусской культурой».
Статьи В. Жаботинского заставили Куприна задуматься над тем, мимо чего он ранее проходил, мирясь как с чем-то неизбежным, от века существующим. И когда в Житомире он получил письмо от «тишайшего» Батюшкова, который горячо принял сторону Е. Чирикова, всё давно копившееся прорвалось в ответном послании к другу.
Творчество Куприна, как и его взгляды, всегда отличали широта, демократичность, подлинный интернационализм. С любовью и теплотой описывает он в своих произведениях людей самых разных национальностей – русских, украинцев, татар, евреев, черемисов, греков, японцев, французов и не раз с гордостью повторяет слова о текущей в его жилах «бешеной» татарской крови князей Кулунчаковых. Именно он, русский писатель Куприн, в опровержение националистических высказываний Шолома Аша о «герметичности», глубоко проник в быт и характер еврейского народа. Но тот же Куприн увидел и опасность узкого религиозного фанатизма и сионизма, исповедуемых многими и многими буржуазными идеологами и насаждавшихся ими.
И когда он писал своё ответное послание Батюшкову – послание страстное, с перехлёстами, даже несправедливыми крайностями и грубостями, срывавшимися под горячую руку, то стремился защитить родную культуру, русскую литературу и русский язык.
Кто, как не Куприн, воспел в своих рассказах неповторимую прелесть, готовность к протесту, поэзию и красоту еврейского характера? Вспомните прекрасную рыжекудрую Суламифь, «высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет»,– возлюбленную мудрого царя Соломона Шуламит («Суламифь»), отважного и доброго «балагулу»[45]45
Балагула – еврей-извозчик.
[Закрыть] Мойше Файбиша («Трус»), красавицу Этлю («Жидовка»), наконец, незабвенного скрипача Яшку, которого искалечили одесские погромщики, но не могли отнять у него крылатой души, порыва к свободе («Гамбринус»).
Однако порою и сам Куприн невольно подпадает под воздействие сионистской пропаганды, готовый видеть в еврейском народе нечто обособленное, противостоящее всем остальным нациям. В его письме Батюшкову попадаются прямые заимствования и раскавычённые цитаты из фельетонов Жаботинского.
Как бы то ни было, из песни слова не выкинешь. И Куприна надо принимать таким, каков он был,– со всеми противоречиями и крайностями его личности, необыкновенно страстной и пристрастной. Елизавета Морицовна, страдавшая от вспышек его неуправляемой натуры, по разным поводам говорила:
– Его татарский характер – просто предлог. Надо уметь сдерживаться.
На что Александр Иванович возражал:
– Нет, это не предлог. Чтобы сдержаться, мне приходится сделать во много раз большее усилие, нежели многим другим, включая и мою жену.
И здесь купринский бешеный татарский темперамент выплеснулся через край. Он в ярости писал Батюшкову:
18 марта 1909 года. Житомир
«Чириков (хотя у меня вышел не то Водовозов, не то Измайлов) прекрасный писатель, славный товарищ, хороший семьянин, но в столкновении с Ш.Ашем он был совсем не прав. Потому что нет ничего хуже полумер. Собрался кусать – кусай. А он не укусил, а только послюнил.
Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но в сто раз ужаснее то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно и иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг подымется среди всех этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей – ибо, как сказал один очень недурной беллетрист Куприн, каждый еврей родится на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем.
Я помню, что ты в Даниловском возмущался, когда я, дразнясь, звал евреев жидами. Я знаю тоже, что ты – самый корректный, нежный, правдивый и щедрый человек во всём мире,– ты всегда далёк от мотивов боязни, или рекламы, или сделки. Ты защищал их интересы и негодовал совершенно искренно. И уж если ты рассердился на эту банду литературной сволочи – стало быть, они охалпели от наглости.
И так же, как ты и я, думают – но не смеют об этом сказать сотни людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, кто распинаются за еврейские интересы, ставя их куда как выше народных, мужичьих. И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам, шёпотом: «Ей-богу, как надоело возиться с их болячками!»
Вот три честнейших человека: Короленко, Водовозов, Иорданский[46]46
Иорданский (Негоев) Николай Иванович (1876—1928), меньшевик. В 1910—1912 гг. сотрудник газеты «Звезда».
[Закрыть]. Скажи им о том, что я сейчас пишу, скажи даже в самой смягчённой форме. Конечно, они не согласятся и скажут обо мне несколько презрительных слов как о бывшем офицере, о человеке без широкого образования, о пьянице, ну! в лучшем случае как о сукином сыне. Но в душе им еврей более чужд, чем японец, чем негр, чем – говорящая, сознательная, прогрессивная, партийная (представь себе такую) собака.
Целое племя из 10 000 человек каких-то Айно, или Гиляков, или Орбинов где-то на Крайнем Севере перерезали себе глотки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком пустяке думать, когда у Хайки Миньман в Луцке выпустили пух из перины? (А ведь что-нибудь да стоит та последовательность, с которой их били и бьют во все времена начиная от времён египетских фараонов!) Где-нибудь в плодородной Самарской губернии жрут глину и лебеду – и ведь из года в год! – но мы, русские писатели, т.е. ты, я, Пешехонов, Водовозов, Гальперин, Шполянский, Городецкий, Тайкевич и Кулаков[47]47
Пешехонов Александр Васильевич (1867—1933), публицист, общественный деятель. В начале 1900-х гг. был близок к эсерам. С 1904 г. член редакции журнала «Русское богатство». В мае-августе 1917 г. министр продовольствия Временного правительства. После Октябрьской революции – участник антиправительственных заговоров. В 1922 г. выслан из СССР.
Гальперин Лев Ефимович (1872—1951), участник российского революционного движения с 90-х гг. XIX в., социал-демократ. В 1901 г. один из организаторов подпольной типографии «Нива» в Баку. Агент «Искры».
Шполянский Аминад Петрович (Аминадав Пейсахович) (псевд. Дон Аминадо; 1888—1957), поэт, сатирик, мемуарист. Участвовал во многих изданиях, в том числе «Новый сатирикон», «Красный смех» и др. В 1919 г.
из Киева через Константинополь уехал во Францию, где стал одним из популярнейших поэтов эмиграции.
Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт, прозаик, переводчик-драматург. Один из организаторов «Цеха поэтов». Сменил много литературных направлений. Один из самых ранних друзей А. Блока. Дебютировал в 1906 г. на «башне» у Вяч. Иванова и в том же году – в «Весах» у Брюсова.
Тайкевич, Кулаков — сведений обнаружить не удалось.
[Закрыть], испускаем вопли о том, что ограничен приём учеников зубоврачебных школ. У башкир украли миллионы десятин земли, прелестный Крым обратили в один сплошной лупанарь[48]48
Лупанарь — публичный дом.
[Закрыть], разорили хищнически древнюю земельную культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают по-хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу как государство, устроили бойню на Д<альнем> Востоке – и вот, ей-богу, по поводу всего этого океана зла, несправедливости, насилия и скорби было выпущено гораздо меньше воплей, чем при «инциденте Чириков – Ш. Аш», выражаясь тем же жидовским, газетным языком. Отчего? Оттого что и слону и клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет.
Мы, русские, так уж созданы нашим русским Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаём за неё жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за Болгарию, идём волонтёрами к Гарибальди и пойдём, если будет случай, даже к восставшим ботокудам[49]49
Ботокуды – африканское племя.
[Закрыть]. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренно бросить идеи о счастии будущего человечества, как мы. И не оттого ли нашей русской революции так боится свободная, конституционная Европа, с Жоресом и Бебелем, с немецким и французским буржуем во главе.
И пусть это будет так. Твёрже, чем в мой завтрашний день, верю в великое мировое загадочное предназначение моей страны и в числе всех её милых, глупых, грубых, святых и цельных черт – горячо люблю её за безграничную христианскую душу. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из её материнских забот.
И чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, я тебе приведу тридцать девять пунктов.
Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал «извините», побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и, когда его клиент окоченел от изумления, фигаро спокойно объяснил: «Ничего-с. Всё равно завтра переезжаем-с».
Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим сионом, за которым он всегда бежит, бежит и будет бежать, как голодная кляча за куском сена, повешенным впереди её оглобель. Пусть свободомыслящие Юшкевич, Ш. Аш, Свирский[50]50
Свирский Александр Иванович (1865– 1942), писатель. Известна его повесть для детей «Рыжик» (1901) и др. произведения из жизни бедноты в дореволюционной России.
[Закрыть] и даже Васька Рапопорт не говорят мне с кривой усмешкой об этом стихийном стремлении как о детском бреде. Этот бред лишь рождённым от еврейки – евреям присущ так же, как Завирайке охотничье чутьё и звероловная страсть. Этот бред сказывается в их скорбных глазах, в их неискреннем рыдающем акценте, в плачущих завываниях на концах фраз, в тысячах внешних мелочей. Но главное – в их презрительной верности религии, а отсюда, стало быть, по свойствам этой религии – и в гордой отчуждённости от всех других народов.
Корневые волокна дерева вовсе не похожи на его цветы, а цветы на плоды, но все они – одно и то же, и если внимательно пожевать корешок, и заболонь[51]51
Заболонь — наружные, молодые, не отвердевшие ещё слои древесины под корой.
[Закрыть], и цветок, и плод, и косточку, то найдёшь в них общий вкус. И если мы примем Мимуриса из Проскурова, балагулу из Шклова, сводника из Одессы, фактора[52]52
Фактор — мелкий коммерсант.
[Закрыть] из Меджибожи, цадика[53]53
Цадик – «провидец», «праведник» – звание, присваиваемое представителям духовенства у евреев-хасидов. Этот термин, употребляемый чаще в литературе, заменяется в разговорной речи словом ребе (учитель). От раввина цадик отличается тем, что он является не формальным толкователем религиозных законов, а руководителем и оракулом в житейских делах.
[Закрыть] из Крыжополя, хуседи[54]54
Хуседи – так у Куприна; возможно, искажённое хасид – «благочестивый» – приверженец хасидизма, религиозно-мистического течения в иудаизме.
[Закрыть] из Фастова, бакаляра Шмклера, контрабандиста и т.д. за корни, а Волынского с Дымовым и с Ашкинази за цветы, а Юшкевича за плоды, а творенья их за семена – то во всём этом решении мы найдём один вкус – еврейскую душу и один сок – еврейскую кровь. У всех народов мира кровь мешаная и отличается пестротой. У одних евреев кровь чистая, голубая, 5000 лет хранимая в беспримерной герметической закупорке. Но зато ведь в течение этих 5000 лет каждый шаг каждого еврея был направлен, сдержан, благословен и одухотворён религией – одной религией! – от рождения до смерти, в беде, питье, спанье, любви, ненависти, горе и веселье. Пример единственный и, может быть, самый величественный во всей мировой истории. Но именно поэтому-то душа Шолом Аша и Волынского и душа Гайсинского меломеда мне более чужда, чем душа башкира, финна или даже японца.