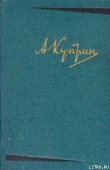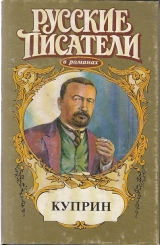
Текст книги "Куприн"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Чехов молчал, водя тростью по песку. Затем просто сказал:
– Знаете, у меня в детстве не было детства.
И сразу собственные слова показались Куприну выспренними, излишне чувствительными. Но как ещё передать тоску детской души по матери, по её теплу? Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку!..
– Сейчас мы должны вернуть детям то, чего недополучили сами, – проговорил Куприн и снова почувствовал, что не в силах выразить свою мысль так просто и глубоко, как Чехов.
– Должны, должны… – рассеянно отвечал тот, поднимаясь со скамейки, так как Мария Павловна знаками подзывала его. – Верно, должны каждой мелочью украшать и отношения между людьми, и саму землю… Послушайте, – остановился он перед Куприным, – при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришёл и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавил он вдруг с серьёзным лицом. – Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна…
«Нет, это не заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это и не жадное любопытство к тому, что будет после меня, не завистливая ревность к далёким поколениям, – размышлял Куприн, оставшись один на скамейке. – Это тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней…»
Голос Чехова, чуть насмешливый, словно таящий лёгкую иронию к собственным недавним словам, вывел Куприна из задумчивости:
– Ну, отважный боксёр! Теперь ваша очередь повторить подвиг Елпатьевского. В мою калитку снова рвётся вдова акцизного чиновника из Чебоксар!
2
– Его сиятельство маркиз Букишон! – торжественно провозгласил Чехов, входя в соседнюю со столовой комнатку, в которой работал Куприн.
Он стал называть Бунина так потому, что в какой-то газете увидал портрет какого-то маркиза, который был на него похож.
– Знакомьтесь: французский депутат и маркиз…
– Здравствуй, Иван, – поднялся навстречу Бунину Куприн.
И в тридцать лет Бунин был юношески красив, свеж лицом, правильные черты которого, синие глаза, остроугольная русо-каштановая голова и такая же эспаньолка[4]4
Эспаньолка – узкая бородка.
[Закрыть] выделяли его, обращали на себя внимание.
– Христос воскрес, Саша! – Бунин поцеловал Куприна.
Бог ты мой! Да сегодня же святое воскресенье! Пасха! За работой Куприн совершенно позабыл об этом… И сразу вспомнился Второй Московский кадетский корпус, маленький седенький священник отец Михаил, трогательно похожий на Николая Угодника, и то, что сам Куприн пять лет пел в корпусном церковном хоре вторым тенором…
– Воистину воскрес! – взволнованно ответил он.
– Господин маркиз напрасно притворяется православным и даже христосуется, – сказал ворчливо Чехов. – На самом деле он рьяный католик. И знаете, кто разоблачил его? Наша просвещённая Варвара Константиновна.
Начальница Ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич была обожательницей писателей, собирала о них всё, что только было можно – рецензии в периодике, открытки, пародии, шаржи, – и восторженно читала наизусть их произведения целыми страницами.
– Антон Павлович! Говоря так, вы не совсем ошиблись, – отозвался Бунин характерным южнорусским говором с мягким «г» (совсем таким же, как у Евгении Яковлевны, подумал Куприн). – По преданию, наш род основал муж знатный Симеон Бунковский, который выехал из Польши на служение к великому князю Василию Васильевичу… Он-то, верно, был католиком…
– Вы же дворянин, последний из книги «Сто русских литераторов»… – не без лёгкого лукавства сказал Чехов и добавил твёрже, серьёзнее: – А я мещанин и горжусь этим!..
Он обратился к Куприну:
– Как ваш рассказ?
– Перечитал дважды и ставлю точку.
«…В его мозгу резким, высоким звуком – точно лопнула тонкая струна – кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом всё исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в тёмной комнате, и погасил её…» – пробежал глазами Куприн последние строки.
– Тогда оставим мрачные материи и направимся немедля на набережную… – Чехов положил на плечо Куприна сухую сильную руку.
Вся ялтинская набережная была заполнена празднично одетым народом. Раскланиваясь со знакомыми, Чехов ни разу не последовал массовому примеру ялтинских обывателей, приветствовавших друг друга шумными пасхальными возгласами и поцелуями. Куприн слышал, что ещё истово богомольный отец Чехова, бессменный церковный староста одной из таганрогских церквей, своим аскетизмом и суровой фанатичностью подавил в мальчике религиозные чувства.
В сквере Чехов указал на уединённую скамейку, глядящую на море.
– Ну что, молодые люди, – шутливо сказал он, присаживаясь. – Может быть, подбросите старику какой-нибудь сюжетец или хотя бы красочную деталь? А то я пишу всё меньше и меньше…
– Всё-таки я вам уже пригодился, – в тон ему отозвался Бунин. – Вспомните, Антон Павлович, начало вашей повести «В овраге».
– Да, господин маркиз! Это вы рассказали мне, как сельский дьячок до крупинки съел два фунта зернистой икры. Где это было?
– На именинах моего отца, – улыбнулся Бунин. – Ел, коченея от наслаждения, как его ни пытались от икры оторвать!
Чехов принялся хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.
– Вы замечательно подмечаете художественные подробности, – чуть шепелявя, сказал он и вдруг прибавил: – Только вот вам мой совет – перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно – писать так, как должен был я из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать всё время вдохновения…
Куприн слушал их, втайне завидуя тому, как легко, непринуждённо держится с Чеховым Бунин, почти как с равным. «Как они близки, – подумал он. – У меня так никогда не получится!»
После недолгого молчания Бунин спросил у Чехова:
– Любите вы море?
Море, серо-лиловое, зеркальное, поднималось перед ними очень высоко.
– Да, – ответил тот. – Только уж очень пустынно.
– Это и хорошо, – сказал Бунин.
– Не знаю. – Чехов глядел куда-то сквозь стёкла пенсне и, очевидно, думал о чём-то своём. – По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать весёлую музыку…
И, по своей манере помолчав, без видимой связи прибавил:
– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря я читал недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое».
«Да, Бунин, конечно, близок Чехову, – сказал себе Куприн. – И очень ему далёк. Как он любуется одиночеством, надменной отчуждённостью! Эх, Иван, Иван! Больно уж ценишь ты красивые переживания. Эстет… А по мне, так нет ничего дороже, чем густой мёд обыденной жизни, чем эта толпа на набережной и разношёрстный народ на пристани – русские, украинцы, молдаване, греки, евреи, татары…»
Он уже не раз ощущал, что Бунин, близкий товарищ, талантливый художник, прекрасный поэт, порою раздражает и даже злит его.
– А не отправиться ли нам в греческий ресторанчик? – нарочито бодро предложил Куприн. – К доброму пьянице Кастаки… У него божественная кефаль и прекрасное белое вино…
«Одесские новости» наконец откликнулись, одарив Куприна небольшой суммой, и он самолюбиво желал угостить Чехова и Бунина «на свои».
– Нет, молодые люди. – Чехов поднялся. – Вы обязательно отправляйтесь в ресторан. А мне пора домой. Стетоскоп строгого Елпатьевского уже ждёт меня…
Его высокая фигура ещё долго виднелась в толпе на набережной.
– Знаешь, Саша, – сказал Бунин. – К чёрту ресторан! Давай лучше возьмём у проводника лошадей и закатимся в горы. На Уч-Кош, выше водопада.
– А ты справишься с лошадью? – насмешливо проговорил Куприн. – Я в Проскурове в ресторан въехал верхом на второй этаж. Не оставляя седла, выпил рюмку коньяку и спустился вниз по лестнице. Заметь: всё это на старой одноглазой бракованной кобыле. Цирковой трюк высшего класса!
Бунин холодно ответил:
– Лошадей я знаю не хуже тебя.
– Ты? – Куприн захохотал. – Ведь ты шпак! Штатская штафирка!
У Бунина лицо пошло пятнами:
– Мой отец был лучшим лошадником в округе и посадил меня в седло, когда мне было пять лет!
– Ну прости, прости… – Куприн понял, что не шутя задел приятеля. – Извини меня! Вася! Ричард! Это же не я, это моя злая кровь князей Кулунчаковых бродит во мне!
– Изволь! – Бунин резко встал. – Тогда пошли искать проводника.
…С ялтинского шоссе они свернули на тропинку, узкую и крутую. Маленькие шерстистые лошадки бежали споро, привычно. Куприн с небрежной офицерской ловкостью ехал за проводником. Внезапно Бунин, слегка задев его крупом лошади, обогнал и помчался с гиканьем по тропе. Мелкие камешки с шорохом сыпались вниз, туда, где в бездне расстилалось солнечное поле воды. Куприн, отчаянно понукая свою лошадёнку, поспешил за ним.
– Урус! Шайтан урус! – обалдело кричал оставшийся где-то внизу проводник.
Тропинка пропала в облаке, мгновенно стало очень сыро. Куприн, доверясь чутью татарской лошадки, гнал и гнал её вверх.
Он настиг Бунина на узенькой площадке среди скал, когда туман остался под ногами.
– Ты что? – крикнул он, перехватывая повод. – Совсем спятил?
– Посмотри, Саша, – как ни в чём не бывало мечтательно сказал Бунин. – Вот сюда, на провалы в облаках, там какая-то дивная неземная страна… А скалы? Они известково-серые… Как птичий помёт…
– Издеваешься надо мной? – зарычал Куприн, совсем по-звериному щуря маленькие глаза. – Ты чудовищно честолюбив! Согласен, убедил – ты отлично ездишь верхом. Доволен?
– Я не честолюбив, я самолюбив, – ответил Бунин.
– А я? – быстро остывая, спросил Куприн. И на минуту задумался, сощурив по своему обыкновению глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил: – Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие даже не имею права. Я и писателем стал случайно. Долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, ты же лучше других знаешь! Вот и вся моя история…
Появился проводник, бормоча ругательства. Бунин ласково сказал ему:
– Как тут красиво! Море! Вёрст на пятьдесят, на сто вперёд!
Тот от негодования только почмокал, а затем всё-таки отозвался:
– Эх, барина, как мине всё это надоел! Каждый день видим…
Спускались молча, медленно, не обращая внимания на причитания проводника. Куприн жадно вдыхал горячий южный воздух, остро чувствуя все оттенки запахов и ароматов: нагретого камня, молодого зверобоя, расцветающего миндаля.
– А ведь аппетит разыгрался, и страшенный, – примирённо сказал он Бунину.
– Навестим дражайшую Варвару Константиновну? – ответил тот. – Она-то ублажит нас по первому классу!
– Ещё бы! – Куприн по-мальчишески присвистнул и с лихостью кадета выполнил «ножницы» – гимнастическим движением ног перекинул тело, сев лицом к хвосту, а затем бросил себя назад. – У Харкевич сегодня открытый пасхальный стол!..
Хозяйки дома не оказалось, но её муж, маленький весёлый толстяк, взмолился:
– Варвара Константиновна делает пасхальные визиты и никогда не простит мне, если вы не отведаете всего, что приготовлено…
Он провёл гостей, которые отказывались только для вида, в большую столовую, а затем лишь наблюдал с возрастающим изумлением, как стремительно исчезали с тарелок закуски, горячие блюда, как пустели бутылки. На прощание Куприн предложил:
– Надо написать и оставить Варваре Константиновне стихи.
И они с Буниным, хохоча, перебивая друг друга, стали сочинять строчка за строчкой шутливое послание, записывая прямо на скатерти:
В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил…
Когда они вышли из дома Харкевич, было уже совсем темно – по-южному, тепло, тихо, с ясным месяцем и редкими лучистыми звёздами в глубоком небе. Крымский вечер навеял Куприну настроение умиротворённости и покоя. Море ласково, с влажным шелестом лизало берег.
– Как мучительно больно, как непонятно – до дрожи, до сумасшествия, – вдруг сказал, останавливаясь, Бунин, – знать, что тот человек, о котором ты каждый день, каждый час думаешь, мучаешься, страдаешь, даже не вспомнит тебя. Отрезала, разлюбила и позабыла! Как это может только женщина…
И почти без паузы тихо начал читать:
За всё тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нём Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю – с тобой…
«Вот ты где настоящий… – подумал Куприн, проникаясь состраданием и нежностью к Бунину. – Не тогда, когда ты балаганил за столом у Харкевич, а тут, сейчас…»
– Милый, – сказал он в темноте. – Милый ты мой! Вася! Альберт! Я бывший офицер, грубиян. Но как я чувствую тебя, твою душу!..
Они расцеловались и разошлись: Куприн пошёл в бедный дом рыбака-грека, Бунин – в дешёвую ялтинскую гостиницу. Но оба не могли уснуть.
Куприн уже разделся и лёг под влажную простыню. За тонкой стенкой шумели, возились полдюжины чумазых и курчавых детишек хозяина. Куприн думал о Бунине, о его судьбе, о Чехове, которого уже не просто любил, а боготворил. Беспокойное волнение разгоралось в нём. Он накинул простыню и вышел на скрипучую терраску.
Была уже полная крымская ночь – чёрная, по-весеннему прохладная. Куприн искал во мраке, в нагромождении смутно белеющих аутских домиков чеховский своими рысьи-зоркими глазами, и ему показалось, что он видит его, видит в оконце кабинета свет.
Мозг пытался найти точное выражение тому, что Куприн пережил за эти две недели в Ялте, в каждодневных встречах с Чеховым. Получалось очень громоздко и опять высокопарно. Но если бы он мог сжать все эти мысли до одной фразы, то скорее всего появились бы те самые слова, которые много позднее записал Бунин:
«У Чехова всё время росла душа…»
3
Чехов – Куприну.
22 января 1902 года, Ялта.
«Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему очень понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу[5]5
...пошлите ему вашу книжку...— Свою книгу Л. Н. Толстому Куприн так и не послал, ибо оценивал её весьма критически. «Уж очень много в ней балласту»,– объяснял он свой отказ в письме к Чехову от февраля 1902 г.
[Закрыть]: Кореиз, Таврич. губ. и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему.
Рассказ для «Журнала д(ля) в(сех)[6]6
«Журнал для всех» – ежемесячный иллюстрированный научно-популярный журнал. Издавался в Петербурге в 1896—1906 гг. С 1898 г. его издателем стал В. С. Миролюбов (см. ниже), который начал широко публиковать произведения К. М. Станюковича, Д. М. Мамина-Сибиряка, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, А. И. Куприна и др. Журнал был оппозиционным по отношению к самодержавию и пользовался популярностью в демократических кругах русского общества. В 1900-х гг. его тираж достигал 80 тыс. экземпляров. Однако известные шатания журнала, появление в нём статей в защиту «религиозного идеализма» привели к уходу М.Горького, вызвали протесты В.Вересаева, А.Серафимовича. В 1905 г. «Журнал для всех» сочувственно освещал революционные события; осенью 1906 г. за помещение статей о стачечном движении был закрыт. Под другими названиями («Народная весть», «Трудовой путь») выходил до конца 1908 г.
[Закрыть]» пришлют, дайте только «очухаться» от болезни.
Ну-с, будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего…
Ваш А. Чехов».
Глава вторая
В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ!
1

 лександра Аркадьевна Давыдова, издательница популярного литературного журнала «Мир божий»[7]7
лександра Аркадьевна Давыдова, издательница популярного литературного журнала «Мир божий»[7]7
«Мир Божий» – ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал «для юношества и самообразования». Издавался в Петербурге с 1892 по август 1906 г.; в результате цензурных преследований был закрыт и с октября 1906 г. выходил под названием «Современный мир». Был умеренно-оппозиционным либеральным органом.
[Закрыть], с утра чувствовала вялость во всём теле и ломоту в затылке. Она понуждала себя заняться делом и не могла, а мысли не приносили облегчения.
Раздражали непрерывные уколы цензуры, огорчала бедность журнального портфеля, пассивность именитых писателей, произведения которых могли привлечь подписчиков. Волевая, настойчивая, Давыдова долгие годы уверенно управляла журналом, случалось, чуть не силой выбивала новые произведения и никогда не потакала писательской лени. Придёт, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки! Дайте хоть пятьдесят рублей авансу». – «Хоть умрите, милый, – отвечала она, – не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ…»
Молоденькая горничная Феня прервала её воспоминания:
– Барыня, вас спрашивают…
– Кто?
– Писатели… Но не наши, не столичные…
Хотя Александра Аркадьевна объясняла себе собственное состояние причинами внешними, дело было в другом. После смерти старшей дочери Лиды, которую она страстно любила, у неё обострилась болезнь сердца.
– Скажи Мусе, чтобы приняла их…
Двадцатилетней дочери Давыдовой Марии, курсистке-бестужевке, всё чаще приходилось брать на себя роль хозяйки.
…В гостиной с плюшевыми шторами, мягкой мебелью и непременным Беклиным[8]8
В гостиной с... непременным Беклином...— Беклин Арнольд (1827—1901), швейцарский живописец, представитель символизма и стиля «модерн». В фантастических сценах сочетал надуманную символику с натуралистической достоверностью.
[Закрыть] смущённо стоял приведённый Буниным Куприн. В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке, каких уже давно не носили в Петербурге, и большом жёлтом галстуке с крупными ярко-голубыми незабудками, он сам остро ощущал себя неуклюжим и простоватым провинциалом.
Когда появилась молодая брюнетка с лицом красивой цыганки, но одетая с той подчёркнутой простотой, которая говорит о безукоризненном вкусе, Куприн невольно отступил назад, за спину щеголеватого, ловкого Бунина. Тот не растерялся и начал легко, в привычном для себя юмористическом тоне:
– Здравствуйте, глубокоуважаемая! На днях прибыл в столицу и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам своё нижайшее почтение…
Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, поклонился ещё раз.
Бунин предупредил Куприна, что довольно коротко знаком с Давыдовыми, но тот не ожидал поворота в разговоре, который последовал.
– Разрешите представить вам жениха, – торжественно-серьёзным тоном продолжал Бунин, – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурен собой… Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прощу любить и жаловать!»
Куприн глядел на Марию Давыдову, глупо улыбаясь.
– Так вот, почтеннейшая, – балагурил Бунин. – Сядем, посидим, друг на дружку поглядим…
И как деревенский сват, выхваляя жениха, начал рассказывать разные забавные истории с участием Куприна.
– Ну как же? – напирал Бунин. – У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец…
И, поддерживая эту весёлую игру, Мария ответила ему в тон:
– Нам ничего… Да мы что… Как маменька прикажут, их воля…
Куприн молчал: ему становилось всё более неловко, и бунинская затея его не веселила. Молодая хозяйка быстро заметила это и незаметно, с привычным тактом светской девушки перевела разговор в иную плоскость. Она вспомнила Крым, начала расспрашивать Куприна об общих знакомых, в числе которых оказался Сергей Яковлевич Елпатьевский.
Куприн тотчас оживился, исчезла связанность движений, другим стало выражение лица. Он начал имитировать Елпатьевского, его манеру, жестикулируя левой рукой и заикаясь, говорить с пациентами по телефону, не забывая подчеркнуть своё знакомство с Чеховым. Придвинув к себе стоявшую на столе небольшую лампу, Куприн забормотал, словно в телефонный аппарат:
– Говорит доктор Е… е… елп… п… патьевский, здравствуйте, Пётр Иванович! Сегодня я заеду к вам попозже… Надо сначала навестить Антона Павловича, последние дни я им недоволен… Раньше четырёх часов меня не ж… ж… ждите…
– Здорово, Александр Иванович, у тебя выходит! Очень здорово! – одобрил Бунин. Начались рассказы о Чехове, о том, как осаждают его поклонники. Потом Бунин вспомнил анекдот о плодовитом беллетристе Боборыкине. Как-то при встрече с ним Чехов пожаловался, что пишет теперь мало, долго работает над своими вещами и часто бывает ими недоволен. «Вот странно, – удивился Боборыкин, – а я всегда пишу много, скоро и хорошо…»
– Антон Павлович – необыкновенно скромный человек, – с увлечением сказал Куприн. – Каждый раз, когда ему в глаза говорят, что он большой писатель, восхищаются его произведениями, он болезненно конфузится и не умеет сразу прекратить это славословие. От публичных выступлений и оваций всегда старается уклониться и не выносит, когда вокруг его имени создаётся газетная шумиха…
Заговорив о Чехове, Куприн окончательно обрёл смелость, а вместе с ней и дар живой речи.
– Как-то утром пришёл я к нему, – продолжал он, – и застал у Чехова издателя одного бульварного листка, который просил Антона Павловича принять сотрудника его газеты. «Чего вам стоит, дорогой Антон Павлович, сказать ему всего несколько слов – сообщить краткое содержание своей новой пьесы», – убеждал Чехова издатель. «Никаких интервью я никому не даю», – с несвойственной ему резкостью отвечал Чехов. «Вы, конечно, знаете, Александр Иванович, – после ухода издателя сказал Антон Павлович, – как в наших газетах пишутся «Беседы с писателями»…» – «Сейчас продемонстрирую, как это делается, – ответил я ему: – «Знаменитый писатель радушно принял нас, сидя на шёлковом канапе в своём роскошном кабинете стиля Луи Каторз Пятнадцатый. Он подробно говорил с нами о своей новой пьесе. «В одном из главных действующих лиц, – сказал он нам, – вы легко узнаете известного общественного деятеля Титькина. Героиня пьесы Аглая Петровна, – фамилии её я вам не назову, вы догадаетесь, о ком идёт речь, если я скажу вам, что она красивая, богатая женщина, щедрая меценатка – покровительница литературы и изящных искусств». – «Эту роль вы, наверное, поручите любимице публики, нашей несравненной артистке Кусиной-Пусивой?» – спросили мы. «Конечно», – подтвердил нашу догадку знаменитый писатель. Когда мы прощались, он тепло жал нам руку…» – «Общественный деятель Титькин и несравненная Кусина-Пусина – это удачно», – смеялся над моей пародией Антон Павлович…
– Да, ловко, – заметил Бунин. – Впрочем, неудивительно, что ты хорошо знаешь этот литературный жанр. Тебе ведь в провинциальных газетках часто приходилось в нём практиковаться, – не удержался приятель от небольшой колкости. – Однако гости сидят, сидят, да и не уходят, – сказал он, вставая.
Прощаясь, Мария Давыдовна передала Куприну от имени матери приглашение бывать у них, когда Александра Аркадьевна поправится. И предложила обязательно зайти в редакцию журнала «Мир божий», к редактору и критику Ангелу Ивановичу Богдановичу[9]9
Богданович Ангел Иванович (1860—1907), русский литературный критик и публицист. Будучи студентом-медиком Киевского университета, был арестован за участие в народовольческом кружке и сослан. В Нижнем Новгороде познакомился с В. Г. Короленко, стал печататься в волжских изданиях. В 1893 г., приехав в Петербург, сотрудничал в журнале «Русское богатство». В 1894 г. перешёл в журнал «Мир Божий», где стал фактическим редактором, ведущим публицистом и критиком. С конца 90-х гг. стал одним из наиболее популярных в демократической среде литературных критиков. Выступал в защиту реалистической литературы, критиковал декадентов. В 1905 г. оставил критику, занявшись чистой публицистикой.
[Закрыть]:
– Он ждёт вас…
– А как же насчёт сватовства? – вспомнил Бунин. Куприн круто повернулся и направился к двери.
– Идём! – бросил он.
Когда они выходили из подъезда, стоявший там великолепный швейцар Давыдовых с глубоким презрением посмотрел на старенькое пальто Куприна.
Стояла обычная гнилая петербургская осень. Холодный город закрылся облаками, которые цеплялись за крыши и трубы, ложась на улицах мыльной сыростью. От тумана отсырело всё – кожуха извозчиков, плащи городовых, даже лица прохожих казались влажно-серыми. Подняв воротник своего пальто, Куприн сухо кивнул Бунину и побрёл в дешёвые номера за Николаевским вокзалом. Злость точила его.
«Наивный провинциал приехал завоёвывать Петербург! Как это ты мечтал?
В моем лице даровитый, широкий провинциальный юг победит анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север! Это неизбежный закон борьбы двух характеров! Исход её можно всегда предугадать! О, можно привести сколько угодно имён. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург!..»
– Берегись, – усмехнулся горько Куприн, стирая с лица водяную пыль, словно снимая пелену с глаз.
Грязные тротуары, серое, ослизлое небо, и на этом фоне грубые дворники со своими мётлами, запуганные извозчики, женщины в уродливых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством… Петербург!
«Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? – корил себя Куприн. – Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня, видимо, слишком много думает о себе… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А ещё приглашала бывать… Покорнейше благодарю! Ноги моей там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду…»