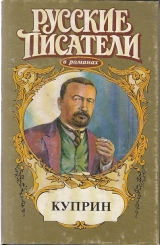
Текст книги "Куприн"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
2
Редакция журнала «Мир божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовой. В ближайший вторник, приёмный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете.
За столом сидел человек, выглядевший гораздо старше своих сорока лет: исхудалое бледное лицо, прямой пробор мягких волос, светлая, заострённая книзу бородка. Сухой белой рукой он быстро чертил на полях наборной рукописи корректурные знаки.
Куприн назвал себя, и Богданович живо поднялся, ответив решительно, отрывистым тоном:
– Очень, очень рад! Прочитал ваш рассказ «В цирке». Понравился! Будем готовить для январской книжки…
Куприн знал о тяжёлом прошлом Богдановича, суровых бедствиях его студенческой жизни в Киевском университете, где он вступил в партию народовольцев, об ужасах военного суда 80-х годов, крепости и ссылке, а затем о тяжёлой, изматывающей душу работе в провинциальной прессе.
Богданович пригласил в кабинет постоянных сотрудников журнала – критиков В. П. Кранихфельда[10]10
Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик, публицист. В 1884 г. был арестован по обвинению в пособничестве членам партии «Народная воля». В 1888 г. вновь подвергся аресту, после освобождения жил в Воронеже; в мае 1896 г. переехал в Уральск, приняв предложение взять на себя организацию правительственной статистики. Был одним из основателей газеты «Уралец». В 1900 г. ему разрешили вернуться в Петербург. Работал в «Журнале для всех» и др. изданиях. С 1904 г.– член редакции «Мира Божьего», где вёл раздел «Журнальные отголоски». Неоднократно выступал против большевизма, в частности, обвинял большевиков в недооценке общественной роли интеллигенции. Осуждал в литературе «крайний индивидуализм» декадентов, противопоставляя ему реалистическое миропонимание А. Куприна, В. Вересаева, Ив. Шмелёва.
[Закрыть] и М. П. Неведомского[11]11
Неведомский Михаил Петрович (наст. фам. Миклашевский; 1866—1943), русский публицист и литературный критик. Печатался с 90-х гг. в журналах «Новое слово», «Мир Божий», «Современный мир» и др. Принадлежал к меньшевистской фракции РСДРП, после революции 1905—1907 гг.– к ликвидаторскому течению. В начале 1900-х гг. писал обзоры современной литературы, живописи и театра. Выступал против религиозно-мистических течений 1900-х гг., против богоискательства, рассматривая его как последний этап «гибнущего декадентства». Рассматривал историю русской литературы конца XIX – начала XX в. как процесс перехода от публицистического морализма народнической литературы (сюда он включал, кроме писателей-народников, Л. Н. Толстого, отчасти Ф. М. Достоевского и М. Е. Салтыкова-Щедрина) к свободному от него эстетико-философскому синтезу, который он обнаруживал в творчестве А. П. Чехова и Л. Н. Андреева. В его книге «Зачинатели и продолжатели» (1919) собраны очерки о многих писателях.
[Закрыть], историка Е. В. Тарле[12]12
Тарле Евгений Викторович (1875—1953), впоследствии видный историк, академик с 1927 г. (член-корреспондент с 1921 г.), автор многих трудов, в том числе таких известных, как «Наполеон» (1936), «Жерминаль и прериаль» (1937) и др.
[Закрыть] и познакомил с ними Куприна.
– А не привезли ли вы чего-нибудь новенького? – поинтересовался он. – Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество и потому решили установить вам гонорар сто пятьдесят рублей за лист, а не сто, как это было с вашим первым рассказом…
Приятная новость несколько омрачалась тем, что Куприн невольно вспомнил, кому он обязан своим дебютом в «Мире божьем». В мае 1897 года, по обыкновению без гроша в кармане, он гостил у одесских знакомых Карышевых, которые познакомили его с Буниным. Тот сразу же стал убеждать его написать что-нибудь для «Мира божьего». Куприн не верил в успех, жалостливо говорил: «Да меня не примут!» – «Я хорошо знаком с Давыдовой, ручаюсь, что примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах, томится, скучает, вспоминая деревню…» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так он написал рассказ «Ночная смена», который затем приняли в «Мир божий»…
– Я мечтал бы постоянно печататься у вас, – смущённо сказал Богдановичу Куприн. – Но пока что, кроме нескольких сюжетов, нет ничего.
– Значит, рассказы всё-таки есть, только в голове? – вмешался Кранихфельд, с большими залысинами и длинным бритым лицом.
– Я провёл эту осень в Зарайском уезде – обмерил там около шестисот десятин крестьянской земли с помощью теодолита… – начал рассказывать Куприн. – Всего около ста урочищ с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью…
Он не заметил, как в комнату вошла полная блёклая дама – редактор журнала Давыдова.
– И вот вам сюжет, – продолжал Куприн: – Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией… Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поёт: «И все люди спят, и все звери спят…» И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи идёт теперь в тумане по лесу…
– Настроение передано превосходно. – Александра Аркадьевна подошла к Куприну и подала ему рыхлую, в перстнях руку. – Давно хотела познакомиться с вами и очень сожалею, что не могла принять вас в воскресенье… А теперь прошу вместе с сотрудниками журнала остаться у меня отобедать…
Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться.
Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя: «Отчего я так тушуюсь перед откормленными мордатыми петербургскими швейцарами, перед секретарями в судах, перед бонтонными литературными дамами?.. Ведь есть же во мне нечто врождённое здоровое, что позволяет видеть насквозь и кружковых ораторов, и старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, и внушительных и елейных соборных протопопов, и жандармских полковников, и радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жёсткой и плоской, как мраморная доска, и особенно всех этих благополучных представителей «света», который я ненавидел и буду ненавидеть…»
Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой с большим буфетом чёрного дерева, изображающим кабанью охоту, показалась ему ещё краше, чем при знакомстве. «Зачем она так хороша? – подумал Куприн. – Была бы попроще, из обычной семьи, право, решился бы и всерьёз начал ухаживать за ней. А то…»
Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжёлое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, серая глянцевитая икра в вазочке, маринады, балыки и даже бойкая тётушка Марии – Вера Дмитриевна Бочечкарева, руководившая прислугой. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка – Лиза Гейнрих, младшая сестра покойной жены Мамина-Сибиряка Марии Морицовны.
Равнодушно скользнув взглядом по её точёному личику, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестёр милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну), Куприн хмуро сказал себе: «Сейчас заведут умные разговоры, затрещит молодая хозяйка, а там и опять начнутся подковырки…»
– Надолго к нам в Питер? – поинтересовалась Александра Аркадьевна. – Верно, нет. Ведь вы, молодые, не любите сидеть на месте.
– Увы! – Куприн непритворно вздохнул. – Кажется, надолго и всерьёз. Меня пригласили работать в редакции «Журнала для всех»…
– Виктор Сергеевич? Миролюбов[13]13
Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939), русский литератор, издатель. Учился в Московском университете; за политическую неблагонадёжность был выслан в Самару, где сблизился с передовой интеллигенцией. Учился в Италии пению, в 1892—1897 гг. пел в Большом театре. С 1898 г. возглавил «Журнал для всех». В 1910 г. М. Горький пригласил его редактировать сборники издательства «Знание». Вместе с А. В. Амфитеатровым редактировал журнал «Современник». В 1914—1917 гг. издавал «Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни». Неустойчивость политических позиций сказалась на его сотрудничестве в правоэсеровской газете «Воля народа» в 1917 г. После Октябрьской революции работал в Центральном кооперативном издательстве, издавал журнал «Артельное дело».
[Закрыть]? – оживилась Давыдова. – Да ведь он же мой крестник. Вы не знали?
Куприн пожал сильными плечами.
– Я помню его ещё студентом Петербургской консерватории, когда мой покойный муж там директорствовал. Он тогда носил фамилию Миров. Это был прекрасный оперный бас, мощный и густой. И вот представьте: когда его карьера бурно развивалась и ему уже предложили перейти из Московской императорской оперы в Мариинку, у Мирова открылся процесс лёгких! Пришлось оставить сцену. Но что делать дальше? Я знала, что некий отставной генерал продаёт право на издание дешёвого ежемесячного журнала для народа. Посоветовала Миролюбову приобрести журнал, оказала материальное содействие… И вот смотрите! Журнал процветает, читается широко…
– Ещё бы! – подала голос Мария. – Одно имя Горького сколько привлекает подписчиков!..
Куприн быстро и зорко посмотрел на неё.
«А ведь совсем не задавала и не ломака!
Отчего я так несправедлив к ней… Скромна, очаровательна, умна…» – подумал он, холодея при мысли, что, кажется, влюблён.
– Горький – это человек полнокровной жизни, драчун и страстный жизнелюбивый мечтатель, – твёрдо сказал Куприн. – Ярчайший самородок. Сколько в нём смелости, свежести! И какое знание жизни, полученное не за чужой счёт, а на собственной шкуре…
– Александр Иванович! – обратился к нему Кранихфельд. – Я слежу за вами уже давно и всё больше удивляюсь тому, как знаете жизнь вы… Ваши произведения необыкновенно разнообразны. «Молох» – большой завод, «Олеся» – полесские крестьяне, «Alléz!» – цирк, «В недрах земли» – шахтёры, «На переломе» – кадетский корпус. А сколько написано об армии! «Ночная смена», «Дознание», «Прапорщик армейский»…
«Ну, Саша, настал черёд показать им, кто ты такой», – сказал себе Куприн.
– Вы знаете, Владимир Павлович, – с нарочитой скромностью начал он, – хлебнул я в жизни действительно немало разного. Но как писатель и сотой доли не исчерпал ещё того, что повидал. Моя жизнь? Извольте. Сперва кадетский корпус, Александровское юнкерское училище, провинциальное офицерство. Однообразно. А вот после отставки чем только я не занимался! Был землемером. В Полесье выступал предсказателем… Артистом в городе Сумы – изображал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята! Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение… – Он, смеясь узкими глазами, покосился на Александру Аркадьевну и решительно отрубил: – «Пудерклозет инженера Тимаховича». Преподавал в училище для слепых… А когда меня оттуда выгнали, пошёл на рельсовый завод…
– Прекрасно! Браво! – Мария захлопала в ладоши. – Вот чего не хватает нашим петербургским писателям. Они познают жизнь только из окошка своей дачи на Стрельне.
– Муся! – Александра Аркадьевна долгим осуждающим взглядом остановила порыв дочери. – Не кажется ли тебе, что ты ведёшь себя слишком экстравагантно?
«Муся… Куся… Фуся… Зачем она называет её так? – подумал Куприн. – Ведь это все какие-то кошачьи или собачьи клички, которые режут ухо! Куда лучше наше русское: Мария, Маруся, Маша…» Но прежнее раздражение прошло.
Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно сказала ему:
– Я больна и приёмов у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, заходите к нам запросто.
С того дня он зачастил к Давыдовым.
3
Одним из первых петербургских визитов Куприна было посещение журнала «Русское богатство»[14]14
«Русское богатство» – литературный, научный и политический журнал, издававшийся в 1876—1918 гг. Основан Н. Ф. Савичем в Москве; в середине 1876 г. издание перенесено в Петербург. С 1879 г. ежемесячник. Роль «Русского богатства» в литературной и общественной жизни возросла с 1892 г. при новой народнической реакции. Идейно журнал возглавляли Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Он стал центром легального народничества. В нём сотрудничали виднейшие писатели того времени, в том числе и Куприн. После революции 1905—1907 гг. «Русское богатство» стало органом так называемых народных социалистов – группы, занявшей промежуточное положение между эсерами и кадетами. С 1914 до марта 1917 г. журнал выходил под названием «Русские записки»; в 1918 г. закрыт декретом советской власти как издание, выступавшее против диктатуры пролетариата.
[Закрыть], где царствовал Михайловский[15]15
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), русский публицист, социолог и литературный критик, теоретик народничества. Литературную деятельность начал в 1860 г. в журнале «Рассвет». С 1865 г. работал в «Книжном вестнике». В 1868 г. стал сотрудником «Отечественных записок», печатался в «Народной воле». Работал и в других изданиях. Он автор многих литературно-критических статей о русской литературе и писателях: Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском, Г. И. Успенском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, В. М. Гаршине, А. П. Чехове и др. Во второй половине 90-х гг. принял участие в полемике народников с марксизмом и социал-демократией. В критических статьях последних лет заметны антимарксистские тенденции. Утверждал реалистическое искусство и отрицал всевозможные течения «чистого искусства» и декаданса.
[Закрыть].
Публицист и критик, один из вождей и теоретиков русского народничества, Николай Константинович Михайловский был, что называется, законодателем мод у радикальной и либеральной интеллигенции. Человек крайне серьёзный, он даже слегка страдал от сознания непогрешимости собственного авторитета, требуя от художественной литературы прежде всего полезности, служения обществу. Слово Михайловского, его печатный отзыв звучали приговором. Одной рецензии, подписанной им, было порой достаточно, чтобы уничтожить или вознести писателя. Правда, существовали литературные величины, которых не могло сломить даже его перо ригориста[16]16
Ригорист – человек чрезвычайно строгий в исполнении должного по его убеждению.
[Закрыть]: Л. Толстой, Достоевский, Чехов…
Михайловский поддержал Куприна ещё в 1894 году, при его первой публикации на страницах «Русского богатства» рассказа «Из отдалённого прошлого» (названного позднее «Дознание»), а затем сделал немало для того, чтобы в декабрьском номере журнала за 1896 год появилась повесть «Молох», которая привлекла к Куприну всероссийское внимание.
Шестидесятилетний книжник, живший только печатным словом, седовласый и седобородый, в золотом пенсне, сквозь которое смотрели умные, острые глаза, Михайловский встретил Куприна сдержанным упрёком:
– Как же это вы, голубчик, свой новый рассказ отдали не нам, а в «Мир божий»? Нехорошо, право, нехорошо!
– Я полагал, – чистосердечно признался Куприн, несколько робея перед знаменитостью, – что тема цирка мелка и вас мало заинтересует… Зато следующий же рассказ обязательно передам в «Русское богатство».
Он заметил на столе груду корректур и поторопился сократить визит, но Михайловский предложил:
– Вы должны быть ближе нашей редакции… Оставайтесь-ка на наш традиционный четверг… Это не деловое совещание, а товарищеский обмен мнениями. Будет интересно, если и вы поделитесь с нами своими впечатлениями. Расскажете о провинциальной печати или ещё о чём-то…
В большой комнате уже собрались сотрудники – П. Ф. Якубович-Мельшин, популярный поэт, революционер-народник, проведший более десяти лет на каторге в Акатуе; бытописатель нищей, угнетённой деревни С. П. Подьячев; тихий, тщедушный В. В. Водовозов[17]17
Водовозов Василий Васильевич (1864—1933), публицист, юрист и экономист. В 1926 г. эмигрировал.
[Закрыть] с непосильно могучей для него бородой; В. В. Муйжель – молодой человек унылого народнического вида, печатавший в журнале длинные повести о крестьянстве, и тридцатилетний учитель с Дона, автор очерков из казачьего быта Ф. Д. Крюков.
Когда Михайловский с Куприным вошли, патетически ораторствовал публицист Мякотин. Он рассказывал о какой-то студенческой вечеринке и острил над марксистски настроенной молодёжью, которая увлекалась трудами профессора экономии М. И. Туган-Барановского[18]18
...профессора экономии М. И. Туган-Барановского...— Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919), русский экономист, историк, один из представителей «легального марксизма», впоследствии открытый защитник капитализма. В конце 1917 – январе 1918 г.– министр финансов контрреволюционной Центральной рады.
[Закрыть], доказывавшего неизбежность капитализма в России.
– Представьте, – говорил Мякотин, – как стадо баранов, слушали Баран-Тугановского…
Михайловский благосклонно улыбнулся расхожей остроте и, покручивая вокруг пальца золотое пенсне, сел на почётное место. Мякотин заметил Куприна и обратился к нему:
– Вы народник или успели у себя в провинции заразиться марксизмом?
«Решил меня проэкзаменовать как новичка?» – Куприн молчал, глядя на Мякотина. Тот подошёл к нему и сказал ещё строже:
– У вас там тоже ведь завелись доморощенные марксисты.
– Ни к народникам, ни к марксистам не могу себя причислить, – ответил наконец Куприн. – В их разногласиях многое мне непонятно. А с марксистским учением я слишком поверхностно знаком, чтобы о нём судить.
– Это неважно, – небрежно заметил Мякотин. – Учиться надо только у Михайловского. В его статьях так ясно изложена и опровергнута марксистская теория, что каждый здравомыслящий человек не может не согласиться с ним. И как беллетрист вы должны следовать только советам Николая Константиновича. Чехов, к сожалению, этого не делает. Кстати, дома я руковожу кружком студентов, занимающихся вопросами народничества и марксизма. Приходите ко мне послушать. Это будет вам полезно. Непременно приходите… – И для убедительности Мякотин тыкал в грудь Куприну длинным пальцем.
«Ишь, какой строгий, – подумал Куприн. – Завёл себе доктрину и молится ей. И ещё других хочет втащить силком в своё учение. Да дай тебе волю, ты таких дров наломаешь! Всех нас под одну гребёнку причешешь!..»
Но ответил уклончиво, чтобы отвязаться:
– За приглашение спасибо. Постараюсь зайти на днях…
…Своими петербургскими впечатлениями, огорчениями и радостями Куприн делился с новым другом – Марией Давыдовой.
– Может, многие и думают, что я способен, – горячо говорил он, – с чужого голоса повторять то, чего не знаю, но для этого нужна особая способность, которой у меня нет…
Он всё чаще бывал в доме Давыдовых, хотя Александра Аркадьевна не придавала особого значения его визитам. Она не всегда выходила вечером в столовую, но за хозяйку оставалась тётушка Марии Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста Малого театра М. А. Решимова, которая разливала чай. Поэтому отсутствие Александры Аркадьевны не нарушало общепринятых правил.
– Понимаю вас, Александр Иванович, – отвечала ему Мария. – Мне и самой не по душе узость этих людей… Словно истина ими уже познана, и они озабочены только тем, чтобы её познали остальные. Несогласных же они спокойно предают анафеме… – Она помолчала и добавила с улыбкой: – Кстати, Михаил Иванович Туган-Барановский – мой родственник, муж сестры Лиды…
В короткий срок все в доме незаметно привыкли к Куприну. Он стал своим человеком. Давыдовой Куприн всё больше нравился: его непосредственность, жизнерадостность отвлекали её от постоянных тяжёлых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала купринские живописные рассказы о военной службе, о жизненных приключениях, о знакомых писателях.
А он был уже влюблён, влюблён в её младшую дочь. В сочельник, накануне нового, 1902 года, улучив возможность побыть минутку с Марией наедине, Александр Иванович сказал:
– Вы, конечно, давно уже почувствовали, как я отношусь к вам… – Он замялся, его открытое, чистое и доброе лицо покраснело. – Но ведь я плебей, сирота, провёл детские годы с матерью во Вдовьем доме, в Москве, на Кудринской площади… А вы…
– А я? – Мария улыбнулась доброжелательно и чуть грустно.
– Вы светская девушка, привыкшая к столичному обществу, дорожащая своим кругом, титулованными родственниками и петербургскими знаменитостями…
– Продолжайте, Александр Иванович! – поощрила его Мария.
– Я мечтал бы, чтобы вы связали со мной свою судьбу… Но кто я? Бывший офицер с ограниченным образованием… Беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося…
– Вы мне тоже не безразличны, – тихо сказала Мария. – Я верю в ваш талант, в ваше будущее… И откровенность за откровенность. Я очень люблю маму… – Она запнулась. – Александру Аркадьевну… Но ведь я даже не знаю, кто мои родители… Меня подкинули в младенчестве. А Александра Аркадьевна меня удочерила, окрестила и воспитала…
– Маша! – воскликнул Куприн, взял её маленькую ручку в свою, грубую и сильную, и прижал к губам; затем не сразу, прикрыв веками глаза, тихо сказал: – Такой вы мне ещё дороже!..
Утром на другой день она сообщила матери, что стала невестой Куприна.
4
– Что ж это такое? Знакома с ним без году неделя, и вдруг невеста. – Александра Аркадьевна была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью. – Ни узнать как следует человека не успела, ни спросить у матери совета… – Голос её прервался. – Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь.
Она махнула рукой и заплакала.
В последнее время здоровье Александры Аркадьевны резко изменилось к худшему. Она почти не выходила из своей комнаты, целые дни проводила в постели и начала говорить о завещании и своей близкой смерти. Вскоре она пригласила к себе дочь и Куприна.
– Я говорила вам, Александр Иванович, – обратилась к нему Александра Аркадьевна, – что не следует торопиться со свадьбой, прежде чем вы и Муся хорошо не узнаете друг друга. Но теперь я чувствую, что мне осталось недолго жить. После моей смерти ей будет тяжело оставаться с больным братом на руках и теми обязанностями, какие я возлагаю на неё моим завещанием…
– К чему думать и говорить о таких тяжёлых вещах, Александра Аркадьевна, – ответил Куприн. – Каждый из нас не может быть уверен, что он увидит завтрашний день. Бывают роковые случайности, когда человек идёт по улице в самом радужном настроении, а с крыши пятиэтажного дома на его голову падает кирпич. Или он идёт, осторожно оглядываясь, и неожиданно из-за угла выносится пьяный лихач и под копытами лошади превращает его в бесформенную массу. Можно ли задумываться над такими случайностями и мучить ими себя?..
Куприн говорил так естественно, непринуждённо, что Давыдова заметно успокоилась.
– Правда, сердечные припадки у меня давно и только за последние два года участились, – сказала она. – Но всё-таки каждый раз после приступа я думаю о своей близкой смерти.
– По-моему, Александра Аркадьевна, – мягко продолжал Куприн, – со свадьбой не следует спешить только потому, что сейчас у вас нервное, подавленное настроение, которое скоро пройдёт. Но я убеждён, что надолго откладывать эту церемонию бесцельно. Ведь сколько бы времени мы с Машей ни были женихом и невестой, хотя бы и три года, как это водится у честных немецких бюргеров – за это время они копят деньги на серебряный кофейный сервиз, – мы всё равно друг друга хорошо не узнали бы. В большинстве случаев взаимное разочарование наступает редко до брака и гораздо чаще после него…
– Пожалуй, вы правы, – помолчав, сказала Давыдова. Она улыбнулась. – Тётя Вера ведь только на днях заказала приданое. Но всё равно венчайтесь до великого поста…
Свадьба была назначена на февраль. Куприн, безмерно счастливый, сообщил о готовящейся женитьбе своей матери Любови Алексеевне, по-прежнему жившей в Москве, во Вдовьем доме. Она ответила, что тоже счастлива, что он наконец женится и покончит со своей бродячей, скитальческой жизнью, что у него будет своя семья, своё гнездо. В конверте было вложено отдельное письмо Марии.
Л. А. Куприна – М. К. Давыдовой.
«Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам моё родительское благословение – икону святого Александра Невского, по имени которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали. Только один дожил до двух лет, и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, слывшему своим благочестием и мудростью.
Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила – в августе. «Тогда ты назовёшь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней точно по мерке новорождённого образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребёнка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».
Этот образ будет моим родительским благословением. И когда господь даст, что и вы будете ждать младенца и ребёнок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».
Как бывало всегда, старшее поколение отличалось большей религиозностью, чем молодые. Не только Любовь Алексеевна, но и Александра Аркадьевна Давыдова, женщина просвещённая, хотела, чтобы новобрачные соблюли все полагающиеся обряды. Она сказала Куприну о своём желании, чтобы их венчал непременно модный в то время в Петербурге священник Григорий Петров[19]19
...модный в те годы в Петербурге священник Григорий Петров.— Петров Григорий Спиридонович (1867—1925), известный священник, публицист и проповедник. Особенно привлёк внимание читающей публики в 1898 г., когда вышел его труд «Евангелие как основа жизни», выдержавший около 20 изданий. Выпустил ещё целый ряд книг духовно-нравственного содержания. В 1900—1901 гг. был фактическим редактором журнала «Друг трезвости». Его идеи имели много точек соприкосновения с нравственной проповедью Льва Толстого. Слушать его проповеди в Михайловское артиллерийское училище, где он был законоучителем и настоятелем церкви при том же училище, стекалось множество желающих из разных слоёв общества. Его сочинения и речи создали ему репутацию неблагонадёжного священника, и в 1903 г. он был отстранён от места настоятеля и преподавателя. С января 1906 г. Г. Петров был редактором газеты «Правда Божия», выпуск которой был вскоре (в июне) приостановлен.
[Закрыть].
Время до свадьбы проходило стремительно, наполненное утомительной суетой. Днём Куприн трудился в «Журнале для всех», а вечерами ни о чём серьёзном поговорить было нельзя – приходили родственники Давыдовых, друзья семьи, сотрудники «Мира божьего».
– Какое глупое положение быть женихом, – ворчал Куприн. – Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И всё время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришёл в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется…
И добавил, тихо обняв Марию за плечи:
– Слава богу, что теперь недолго осталось тянуть эту дурацкую петрушку.
Как-то вечером к Давыдовым заехал Михайловский – справиться о здоровье Александры Аркадьевны.
– Я на минутку, – объяснил он в передней, не снимая пальто, вышедшей встретить его Марии. – Только хочу узнать, как чувствует себя ваша мама… Страшно занят – выходит книга журнала. Был в типографии и тороплюсь домой просмотреть последние листы вёрстки.
Она всё-таки убедила его пройти в столовую и выпить стакан чаю.
– Вы что же не зовёте меня в посажёные отцы? – шутливо-строгим тоном обратился он к Куприну, блеснув золотым пенсне. – Слышал я, что скоро уже свадьба, а ни вы, ни Муся мне ни слова. Вы, кажется, забыли, Александр Иванович, что я вам крестный отец. Забывать этого не следует…
Прощаясь, Михайловский сказал:
– На днях получил письмо от Короленко[20]20
Короленко Владимир Галактионович (1853– 1921), писатель, публицист. Автор рассказов и повестей «Сон Макара», «Слепой музыкант» и др. Редактор журнала «Русское богатство».
[Закрыть]. Он спрашивает, правда ли, что Муся выходит замуж за Куприна. Теперь, пишет он, «Русское богатство» его, конечно, потеряет. Я ему ещё не ответил на это, – и Михайловский вопросительно посмотрел на Куприна.
– Женитьба на Марии Карловне к моему сотрудничеству в «Русском богатстве» не имеет ни малейшего отношения, – ответил Куприн.
– Увидим, – улыбнулся Михайловский.
Куприн незаметно для себя уже участвовал в работе «Мира божьего» (хотя по-прежнему главное своё внимание уделял «Журналу для всех»). И здесь он сразу столкнулся с властным характером Александры Аркадьевны, которая и в тяжкой болезни не желала поступаться своими правилами и литературными вкусами.
Однажды, зайдя к ней в комнату, он застал там Богдановича.
– Вот мы с Александрой Аркадьевной говорили о том, какая скучная беллетристика во всех толстых журналах, – обратился Ангел Иванович к Куприну. – Нет ничего выдающегося, останавливающего внимание. И, главное, везде одни и те же имена…
– Если хотите, – предложил Куприн, – я могу попросить Антона Павловича отдать в «Мир божий» пьесу «Вишнёвый сад»… Он её заканчивает… Я не обращаюсь к нему с этой просьбой от имени «Журнала для всех» – его небольшой объем не позволяет поместить пьесу целиком. Делить же её, конечно, нельзя. Да и гонорар Чехову для такого небольшого журнала, как миролюбовский, был бы слишком тяжёл.
– Гонорар? – переспросила Александра Аркадьевна. – А какой же гонорар?
– Тысяча рублей за лист.
– Что? Тысяча за лист? Да это же неслыханно! – воскликнула Александра Аркадьевна. – И это Чехову, значение которого почему-то стали так раздувать последние два-три года. Чуть ли не произвели в классики. Да знаете ли вы, Александр Иванович, что «Вестник Европы»[21]21
«Вестник Европы» – русский ежемесячный журнал, выходивший в Москве в 1866—1918 гг. Его редактором и издателем был М. М. Стасюлевич. По своему политическому направлению журнал был либерально-буржуазным, отстаивал капиталистический путь развития России по западноевропейскому образцу. Выступал против марксизма вообще и русских марксистов в особенности. Преимущественное внимание уделяет вопросам истории и политики, но также имел и отдел литературы.
[Закрыть] – самый богатый из журналов – всегда платил Глебу Ивановичу Успенскому, не чета вашему Чехову, сто пятьдесят рублей за лист. Глеб Иванович был очень скромный человек и, конечно, сам никогда не поднял бы разговора о размере гонорара. Поэтому Михайловский обратился к Стасюлевичу[22]22
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), русский историк, журналист, публицист; общественный деятель либерального направления. С конца 40-х гг. выступал в печати как автор исторических и историко-литературных трудов. В 1851 г. получил степень доктора исторических наук. В 1858—1861 гг.– профессор Петербургского университета. С 1866 г. издавал и редактировал журнал «Вестник Европы». Автор статей и воспоминаний о Ф. И. Тютчеве, А. К. Толстом, Н. А. Некрасове, И. А. Гончарове и др. Много работал по развитию народного образования в Петербурге.
[Закрыть] с просьбой ввиду тяжёлого материального положения Успенского повысить его гонорар. И Стасюлевич отказал. Вот как обстоят дела с гонорарами в толстых журналах, – язвительно добавила она. – Что вы на это скажете?
– Возмутительная эксплуатация писательского труда! – произнёс Куприн.
Александра Аркадьевна изменилась в лице.
– Не будем спорить о значении Чехова. О всех больших писателях существует различное мнение, – примирительно сказал Богданович. – И конечно, для нашего журнала было бы очень желательно иметь пьесу Чехова. Но нам это материально непосильно так же, как и Миролюбову. Весь вопрос, Александр Иванович, сводится только к этому…
Давыдова сослалась на то, что хочет отдохнуть, и сухо простилась с Куприным. Уходя, он ругал себя за несдержанность, за свою азиатскую вспыльчивость: Александра Аркадьевна уже не поднималась с постели…
3 февраля 1902 года настал день свадьбы.
В столовой собрались только те, кто должен был провожать Марию в церковь: жена Мамина-Сибиряка (бывшая Машина гувернантка) посажёная мать – Ольга Францевна, посажёный отец – Михайловский и четыре шафера. Куприну полагалось встретиться с невестой только в церкви, но он пренебрёг условностями и тоже ожидал Марию в столовой.
При её появлении Ольга Францевна спешно закрыла большую белую коробку.
– Что с вами, тётя Оля? – целуя её, спросила Мария. – У вас слёзы на глазах…
Ответил Куприн:
– Ольга Францевна не знала, что тётя Вера уже позаботилась о подвенечных цветах, и привезла ещё одну коробку… Что ж, Маша, быть тебе два раза замужем. Такая примета. А в приметы я верю…








