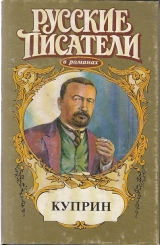
Текст книги "Куприн"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава третья
«ПОЕДИНОК»
1

 осле кончины Давыдовой Куприны заняли в её большой квартире скромную комнату тётушки Марии – Бочечкаревой, которая уехала в Москву. Однажды вечером, после обычного трудового дня, занятого хлопотами в «Мире божьем», где он заведовал отделом прозы, Куприн сказал жене:
осле кончины Давыдовой Куприны заняли в её большой квартире скромную комнату тётушки Марии – Бочечкаревой, которая уехала в Москву. Однажды вечером, после обычного трудового дня, занятого хлопотами в «Мире божьем», где он заведовал отделом прозы, Куприн сказал жене:
– Слушай меня внимательно, Машенька. Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только на меня, а не по сторонам…
Он крепко потёр несколько раз руками голову.
– Скажу тебе то, чего никому ещё не говорил… Даже Бунину… Я задумал большую вещь – роман. Главное действующее лицо – это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой – поединок с царской армией. Она калечит душу, подавляет лучшие порывы в человеке, его ум и волю, унижает достоинство… Я ненавижу годы моего детства и юности, годы кадетского корпуса, юнкерского училища и службы в полку. Обо всём, что я испытал и увидел, я должен написать. И своим романом я вызову на поединок царскую армию. Наверное, единственный ответ, какого удостоится мой вызов, будет запрещение «Поединка». А всё-таки я напишу его!..
Куприн молча начал ходить по комнате. Молчала и Мария, боясь нарушить ход его мысли.
– Как тебе кажется, Машенька? – наконец спросил он. – Это будет крепко закручено… Ты не боишься за меня?
– Я верю в тебя, – тихо, но твёрдо ответила Мария.
– А теперь, – Куприн сел за стол и стал листать рукопись, – я прочту тебе небольшую главку. Может быть, она войдёт в «Поединок»…
Это был рассказ о том, как ефрейтор Верещака собрал «молодых» и «репетил» с ними словесность.
«– Архипов!.. Кого мы называем унутренними врагами?..
Неуклюже поднявшийся Архипов упорно молчит, глядя перед собой в тёмное пространство казармы. Дельный, умный и ловкий парень у себя в деревне, он держится на службе совершенным идиотом. Он не понимает и не может заучить наизусть самых простых вещей.
– Пень дубовый! Толкач! Верблюд! Что я тебя спрашиваю? – горячится Верещака. – Повтори, что я тебя увспросил, батькови твоему сто чертей!..»
Куприн читал по-актёрски, с большим юмором оттеняя нелепые и невежественные слова Верещаки.
«– Враги!..
– Враги! – передразнивает ефрейтор. – Совсем ты верблюд, только рогов у тебя нема. Какие враги, чертюка собачья.
– Внешни…
– У-у, ссвол-лочь! – шипит сквозь стиснутые зубы Верещака. – Унутренние!..
– Нутренни…
– Ну?
– Враги.
– Вот тебе враги!
Архипов вздрагивает головой, нервно кривит губами и крепко зажмуривает глаза.
– Так и стой усё время, стерво! – говорит ефрейтор, потирая руку, занывшую в локте от неловкого удара. – И слухай, что я буду говорить. Унутренними врагами называются усе сопротивляющиеся российским законам. Ну и, кроме того, ещё злодеи, конокрады и которые бунтовщики, евреи, поляки, студенты. Повтори, Архипов, усё, что я сейчас сказал…»
– Вот глава, которую я наметил для будущего романа, – после небольшой паузы проговорил Куприн. – Понравилась она тебе, Машенька?
– Саша! Милый! Ты оправдываешь мои надежды. – Мария, не скрывая радости, поднялась со стула и поцеловала мужа в висок. – Только для этого надо работать, не отвлекаться… А у тебя столько друзей, соблазнов! При твоей доброй натуре ты никому не отказываешь, тратишь время бог знает на что! Я так страшилась за тебя… Однако вижу, что ты, кажется, на верном пути…
– Но роман, Машенька, это дело будущего, – вернулся Куприн к началу разговора. – Прежде чем серьёзно приступить к этой работе, я должен ещё многое обдумать. А пока у меня несколько хороших тем для рассказов. Их надо написать, чтобы к будущей зиме подготовить материал для сборника.
Он снова потёр несколько раз голову.
– Когда мы с Буниным были в издательстве «Знание», там шёл разговор о том, что оно всецело перейдёт в руки Горького и Пятницкого. Горький уже наметил широкий план издания художественной литературы. Среди беллетристов, которых он хочет привлечь в «Знание», есть и моё имя… Ну что ж, подождём до осени, может, оно так и будет…
2
В середине ноября 1902 года Горький уведомил Куприных, что навестит их вместе с директором-распорядителем издательства «Знание» Константином Петровичем Пятницким.
Лето Куприны провели к Крыму, в Мисхоре, на даче Давыдовых, где Александру Ивановичу работалось очень плодотворно: он написал там рассказы «Трус», «На покое» и почти закончил «Болото».
Ожидая Горького, с которым он был знаком лишь «шапочно», Куприн изрядно волновался, торопил жену с обедом и всё-таки не успел: гости приехали раньше назначенного времени.
Горький, высокий, худой, рыжеусый, в длинном ватном пальто и смушковой шапке[25]25
...и смушковой шапке...— Смушка – то же, что и мерлушка: ягнячья овчина.
[Закрыть], басил в прихожей, пожимая Куприну руку:
– Давно собирался с вами познакомиться, поговорить как следует… Да всё как-то не выходило. То вы приезжали в Крым, когда меня там не было, то не было вас, когда я приезжал в Ялту. Занятно, точно мы друг с другом в прятки играли. А как писателя знаю вас давно. Читал «Молоха», очень он мне понравился. Читал ваши фельетоны в киевской газете «Жизнь и искусство» и тогда же советовал пригласить вас в «Самарскую газету» и даже прочил в редакторы…
С Марией Карловной Горький был знаком давно, с 1899 года, по встречам у Давыдовой, и только сказал, улыбаясь в усы, с неуклюжей галантностью:
– Помните, каким несмышлёнышем вы были в Ялте? А сейчас замужняя дама и почтенная издательница…
После кончины матери Мария Карловна унаследовала журнал «Мир божий», которым руководили Ф. Д. Батюшков и А. И. Богданович.
– Ну что вы, Алексей Максимович, – отшутилась она, – вон для Константина Петровича я небось до сих пор гимназистка, слушательница его курсов физики…
Пятницкий смущённо погладил бороду, незаметно прикрывая ею скромный галстук. Когда он преподавал в гимназии М. Н. Стоюниной, где училась Мария Давыдова, то вначале появлялся каждый раз на урок в новом ярком галстуке и нестерпимо надушенный какими-то крепкими духами. Вскоре в ящике своего пюпитра он стал находить записочки, в которых ученицы рекомендовали ему различные марки хороших мужских одеколонов, а галстуки приличных расцветок советовали покупать в английском магазине Друсса…
– И вы нынче не та гимназистка, что раньше, и Константин Петрович не преподаватель физики и космографии, а наш грозный и всесильный директор-распорядитель, – шутливо наклонил Горький голову с чуть приподнятой макушкой и снова обратился к Куприну: – Да, кстати, через месяц Константин Петрович обещает выпустить первый том ваших рассказов. Отчего вы не включили в него «Олесю»?
– Видите ли, Алексей Максимович, – осторожно подбирая слова, ответил Куприн, – это моя ранняя, ещё незрелая вещь. «Наивная романтика», как сказал Чехов. Я сначала колебался, а потом согласился с его мнением.
– Напрасно согласились, – с упором на «о», словно наполняя сказанное особым смыслом, возразил Горький. – И великие мира сего могут ошибаться. А самое главное, первая книга – первая ступень творческого развития писателя. Он ещё молод, а молодость должна быть немного наивной и романтичной. «Олеся» войдёт в ваш второй том, я буду на этом настаивать…
Пока не собрались остальные приглашённые, Горький продолжил разговор с Куприным в гостиной. Утонув в уютном плюшевом диване, он допытывался:
– А что вы пишете сейчас?
– Пока только рассказы. Приступить к роману не решаюсь, – признался Куприн. – Это слишком большая задача, для которой я ещё не чувствую достаточных сил. Но тема романа не даёт мне покоя. Я должен освободиться от тяжёлого груза военных лет. Рано или поздно я напишу о нашей «доблестной армии» – о наших жалких, забитых солдатах, о невежественных, погрязших в пьянстве офицерах…
Горький разгладил усы, захватил длиннопалой кистью нос с сильно раздвинутыми ноздрями и округло выступающие скулы.
– Вы должны, скажу больше, обязаны написать о нашей армии. Кому, как не вам, сказать о ней всю правду?.. У вас громадный материал и большой художественный талант…
Он поднялся с дивана, показавшись ещё выше, ещё больше, и неслышной походкой с носка начал ходить по комнате, помогая каждой фразе энергичным взмахом сильной руки:
– Пишите же, не откладывая. Такая повесть теперь совершенно необходима. Именно теперь, когда исключённых за беспорядки студентов отдают в солдаты, а во время демонстрации на Казанской площади студентов и интеллигенцию избивали не только полиция, но под командой офицеров и военные части… Это задело не только ко всему равнодушных обывателей, но и широкую публику – ведь почти в каждой интеллигентной семье сын или брат студент. Поведение офицеров возмутило всех. И к чему же это повело? Офицерство возомнило себя властью, призванной защищать престол и отечество от «внутренних врагов». В публичных местах пьяные офицеры ведут себя вызывающе, ни с того ни с сего требуют от оркестра исполнения национального гимна, и, если им кажется, что кто-либо не столь поспешно встал, его осыпают бранью и угрозами. Недавно в ресторане был убит студент – офицер шашкой разрубил ему голову; в саду оперетты «Аквариум» застрелен молодой врач; при выходе из театра тяжело ранен акцизный чиновник, будто бы толкнувший офицера. Подобными сообщениями сейчас пестрят столичные и провинциальные газеты…
Сузив свои маленькие серо-синие глазки, Куприн ответил:
– «Поединок» скоро не смогу написать. Повесть должна закончиться дуэлью, а я не только никогда но дрался на дуэли, но не пришлось мне быть даже секундантом. Что испытывает человек, целясь в своего противника, а главное, сам стоя под дулом его пистолета? Эти переживания, психология этих людей мне неизвестны. И мысль моя невольно возвращается к подробностям дуэли Пушкина и Лермонтова. Но это же литература, не личные реальные переживания. Сейчас я с досадой думаю о том, что было несколько случаев в моей жизни, которые, если бы я захотел, могли кончиться дуэлью, но эти случаи я упустил, о чём теперь сожалею…
Горький остановился. Кожа на его лице натянулась, собирая морщины вокруг рта, глаза потемнели:
– Вы чёрт знает что говорите! Собираетесь писать об офицерах, когда офицерская закваска так крепко сидит в вас! «Дуэль была бы неизбежна», – произносите равнодушно вы, точно это безобразие в порядке вещей. Не ожидал от вас. Знайте только, если вы эту повесть не напишете – это будет преступлением!
Куприн хотел было ответить, сказать, что при всей громадной правде, прозвучавшей в словах Горького, не всё так скверно и черно и в армии, и в офицерском корпусе, что офицер офицеру рознь, что пробьёт час, и лучшие из офицеров – не те, что скандалят и бретерствуют в ресторанах и оперетках, – на поле брани поведут солдат за собой на смерть во имя воинского долга, во имя защиты России, но разговор завершить не удалось. Вошёл Бунин и тотчас же вслед за ним оба редактора «Мира божьего» – Батюшков и Богданович.
За обедом Горький рассказывал о своих планах – преобразовать «Знание» в крупное издательство, о решении выпускать не только много научных книг, но и современную художественную литературу, в первую голову молодых писателей-реалистов.
– Пошла нынче мода на символистов и богоискателей, – говорил он, усмехаясь, отчего у него слегка подымался ус. – Слышал, что с будущего года они начинают издавать свой журнал «Новый путь». Поглядим, какой такой новый путь они нам укажут…
– Сейчас все зовут к обновлению, – отозвался Батюшков, повернув к Куприну изящный, тонкий профиль. – Как это у Фофанова в его последних стихах[26]26
Как это у Фофанова в его последних стихах? – Фофанов Константин Михайлович (1862—1911), русский поэт. Литературную деятельность начал в 1881 г., быстро завоевал известность. В литературе его причислили к декадентам, чему способствовали его отрешённость от внешнего мира, урбанизм, поиски новых путей в искусстве, уход от мрачной действительности в мир фантазии и иллюзий. Но были у него произведения и совсем иного характера; в его архиве найдены антиправительственные стихи, драма «Железное время» (о революции 1905—1907 гг.), эпиграммы на царя и проч. Фофанов сыграл заметную роль в развитии русской поэзии. Мастер лирического пейзажа, певец весны и мая, он оставил несколько реалистических поэм («Очарованный принц», «Весенняя поэма», «Волки»), был склонен к медитативной лирике («Монологи»). Стихи его отличались чистотой и музыкальностью. На его слова написаны многие песни и романсы.
[Закрыть]? «Ищите новые пути! Стал тесен мир. Его оковы неумолимы и суровы, – где ж вечным розам зацвести? Ищите новые пути!..»
Куприн молчал, слушал и против обыкновения даже не прикоснулся к вину. «Ах, Фёдор Дмитриевич, – подумал он, – всё-то ты читаешь, всё знаешь…» Батюшков восхищал его почти детской чистотой души, прямотой суждений и богатством эрудиции.
– Но, судя по тому, кто задаёт тон на религиозно-философских собраниях, – продолжал Горький, – пути-то будут старыми, как мир, и давно пройденными. Опять святая троица – Мережковский[27]27
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), русский писатель, философ, литературовед, один из зачинателей рус. декадентства; автор многих романов, писал также стихи и критические работы. В 1928 г. эмигрировал. Жил в Париже.
[Закрыть], Философов[28]28
Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), публицист, критик. Двоюродный брат С. П. Дягилева. Один из организаторов журнала «Мир искусства», а также один из инициаторов религиозно-философских собраний. Редактор журнала «Новый путь» (1903– 1904), председатель религиозно-философского общества. Позже работал также в журнале «Русская мысль». Был близок к Д. С. Мережковскому и 3. Н. Гиппиус. В 1920 г. уехал в эмиграцию. Жил в Варшаве.
[Закрыть], Гиппиус[29]29
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), русская писательница, идеолог декадентства. С 1900-х гг. считалась признанным мэтром в литературе. В 1920 г. эмигрировала вместе со своим мужем Д. С. Мережковским. Жила в Париже.
[Закрыть]… Опять предложат нам искать, и не как-нибудь, а «одним голодом, одним желанием, одним исканием – общего Отца», по рецепту Зинаиды Николаевны…
– Причём рецепт Гиппиус выпишет нам под вымышленным и мужским именем Антона Крайнего, – вставил реплику Бунин. – У неё не просто желание быть непременно модной, но почти мания, духовная болезнь…
– «Но люблю я себя, как бога»… – процитировал её строчку Горький и вздохнул: – Истеричка эта дама. А между тем сколько здоровья и сил у нашей словесности! Как богата Россия талантами! В Ясной Поляне живёт, как бог Саваоф, Лев Толстой… Чехов пишет необыкновенные вещи… Словно из-под земли, прут молодые… Вот Андреев Леонид… Какой человечище!..
Он наклонился к тарелке, смаргивая набежавшую слезу, и, успокаиваясь, напустив нарочитую суровость, деловитость, обратился к Куприну и Бунину:
– Вас мы с Константином Петровичем сразу двинем большими тиражами. Настоящих, хороших книг для широких демократических кругов не хватает. А вы, молодые, до сих пор писали слишком мало – через час по столовой ложке, и знают вас только интеллигенты – подписчики журналов. Надо, чтобы узнал и полюбил вас, молодых талантливых писателей, новый громадный слой демократических читателей.
– Вам хорошо говорить, Алексей Максимович, – ответил Бунин, – вы нашли своего читателя, у нас его просто нет…
– Так завоюйте его! – налегая на «о», сказал Горький.
– Должна бы помочь критика. Да где там! – желчно продолжал Бунин. – Несколько лет назад, когда вышел сборник моих рассказов «На край света», критики отозвались примерно так: «Некоторого внимания заслуживает скромное дарование начинающего беллетриста И. Бунина. В незатейливых сюжетах его рассказов иногда чувствуется теплота и наблюдательность…» В заключение ещё две-три высокомерно-снисходительные фразы…
– Ни к чему вы, Иван Алексеевич, ссылаетесь на критику, – с досадой произнёс Горький. – Настоящих критиков у нас кот наплакал. Их только единицы. Остальные же разве это критики? Я лучше не скажу, что это такое…
– Я, пожалуй, был счастливее тебя, Иван Алексеевич, – вступил наконец Куприн в общий разговор. – Когда вышла моя первая маленькая книжонка «Миниатюры», о которой я без стыда не могу вспомнить, столько в ней было плохих мелких рассказов, то она, слава богу, не привлекла внимания даже безработных провинциальных критиков. В книжных магазинах она не продавалась, а только в железнодорожных киосках. Разошлась она быстро благодаря пошлейшей обложке, на которой художник изобразил нарядную даму с книгой в руках…
Он мало-помалу обрёл уверенность, понял, что завладел всеобщим вниманием. Батюшков дружелюбно кивнул ему: продолжай.
– Когда я был в юнкерском училище, – рассказывал Куприн, – покровителю моего литературного таланта старому поэту Лиодору Пальмину[30]30
...старому поэту Лиодору Пальмину...— Пальмин Лиодор (Илиодор) Иванович (1841—1891), русский поэт и переводчик. Происходил из обедневшего рода ярославских дворян. Учился на юридическом факультете Петербургского университета, откуда был исключён за участие в студенческих волнениях в 1861 г. Печататься начал с 1859 г. Сотрудничал в журналах различного направления, однако лучшие его стихи были опубликованы в «Искре» и других демократических изданиях 60-х гг. Наиболее значительное произведение – «Requiem» («Не плачьте над трупами павших борцов...», 1865), ставшее впоследствии популярной революционной песней. Выпустил несколько сборников стихотворений, в которых заметное место занимает гражданская лирика. К 80—90-м гг. XIX в. относится его дружба с Чеховым, в письмах которого есть немало сочувственных упоминаний о Пальмине.
[Закрыть] – его очень мало знали и тогда, а теперь уже решительно никто не помнит, – случайно удалось протащить в московском «Русском сатирическом листке» мой первый рассказ «Последний дебют». Сейчас я даже забыл его содержание, а вот начинался он с фразы, которая тогда казалась мне ужасно красивой: «Было прекрасное майское утро…» Когда я прочитал рассказ товарищам, они удивились и похвалили меня. Но на следующий день ротный командир за недостойное будущего офицера, а приличное только какому-нибудь «шпаку»[31]31
Шпак – так молодые военные презрительно именовали гражданских лиц, и в первую очередь интеллигенцию.
[Закрыть] занятие – «бумагомарание» – отправил меня на два дня под арест. Номер листка был со мной, и я по нескольку раз в день читал свой рассказ моему сторожу, унтер-офицеру. Тот терпеливо слушал и каждый раз, сворачивая цигарку и сплёвывая на пол, выражал своё одобрение: «Ловко!» Когда я вышел из карцера, то чувствовал себя героем. Ведь так же, как Пушкин, я подвергся преследованию за служение отечественной литературе. Вот видишь, Иван Алексеевич, насколько мои первые читатели были снисходительны…
Горький слушал молча, пощипывал усы и лукаво поглядывал то на Бунина, то на Куприна.
– Скажу вам, любезные товарищи, – выждав паузу, заговорил он, – что мои первые критики и читатели доставили мне громадное наслаждение. Критики ругали меня так, как только могли. Я был уголовный преступник, грабитель с большой дороги, человек не только безнравственный, но даже растлитель молодого поколения. Вот как! – Горький, смеясь одними глазами, оглядел сидящих за столом. – Я был в восхищении от их вдохновенной изобретательности и прыгал до потолка от радости, что так крепко пронял этих жаб из обывательского болота. Были и письма от читателей. Враги после моего ареста выражали сожаление, что меня не поторопились повесить. Для некоторых и эта мера казалась мала, и они желали, чтобы меня четвертовали. Но от рабочих и от молодёжи я получал пожелания не складывать оружие, а писать ещё сильнее, ещё лучше. И не тот, кто берёт книжку сквозь сон, от скуки, будет вашим читателем. Читателем «Знания», а значит, и вашим будет совсем новый, поднимающийся из низов слой. А это громадный слой!..
Он поговорил ещё с Батюшковым о Художественном театре, о том, что на днях в Москве будет генеральная репетиция его пьесы «На дне», а затем заторопился:
– Однако, Константин Петрович, мы с вами у Куприных засиделись…
После обеда, за кофе, Бунин самолюбиво спросил у Куприна:
– Я краем уха слышал, что ты пишешь военный роман? А мне даже ничего не сказал… Не по-товарищески! Нехорошо!
– Не пишу, а хочу написать, – ответил Куприн, – а это, знаешь, как говорят у нас в Одессе, ещё две большие разницы.
– Значит, надо приналечь на образование. Тебе необходимо читать, и прежде всего классику, – наставительно сказал Бунин. – И твой культурный горизонт, и твой лексикон пока что очень узки.
– Может быть, такой совет и поможет некоторым авторам, – сдерживая накипающее раздражение, возразил Куприн. – Но это не для меня. Толстым, Тургеневым, Достоевским я восхищаюсь. Но это не значит, что следует заимствовать их приёмы. Как ни старайся, а классиков из нас с тобой, Иван Алексеевич, по такому рецепту не получится. «Нива» всё равно издавать нас не будет[32]32
«Нива» всё равно издавать нас не будет... — «Нива» – наиболее распространённый еженедельник в дореволюционной России, выходил в 1870—1918 гг. Его тираж к 1900 г. достиг 235 тыс. экземпляров, а к 1917 г.– 275 тыс. Культурной заслугой «Нивы» было издание в качестве литературного приложения собраний сочинений выдающихся русских и зарубежных писателей, в том числе и А. И. Куприна.
[Закрыть]…
– Ты слишком часто работаешь на публику, – как бы не слыша его, говорил Бунин. – Слишком легко ухватываешь всё, что нравится ей, что становится расхожим…
Мария Карловна с тревогой взглянула на мужа. Тот отозвался внешне спокойно – не поймёшь, в шутку или всерьёз:
– А я ненавижу, как ты пишешь… У меня от твоей изобразительности в глазах рябит. – Сделал паузу и миролюбиво закончил: – Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь…
Бунин побледнел; его красивое лицо – от высокого лба и до кончика русо-каштановой эспаньолки – как бы окаменело.
– Но ты не серчай, Иван Алексеевич, – ещё более кротко проговорил Куприн. – Мешает мне родословная полудиких предков – владетелей Касимовского царства князей Кулунчаковых.
Бунин мгновенно отрезал ледяным тоном:
– Да, Александр Иванович! Ты дворянин по матушке …
Куприн почувствовал толчок горячей крови, к глазам прихлынула розовая волна. Он взял со стола чайную серебряную ложку и молча сжимал её в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок, который он бросил в противоположный угол комнаты.
– Ну вот и поговорили по душам, – снимая напряжение, добродушно рассмеялся Батюшков.
Куприн молчал. Но вот он пересилил себя и, потирая горло, глухо сказал:
– Что касается моего намерения написать военную повесть, то своим словесным запасом и кругозором я уж как-нибудь обойдусь. Ведь это та среда и тот язык, где я варился, начиная с корпуса, юнкерского училища и кончая годами военной службы. Всё это настолько мне знакомо, что первое время, бывая в «штатском» обществе, среди таких, как ты, Иван Алексеевич, шпаков, я часто сдерживался, чтобы не пустить в ход свои офицерские привычки…
Несмотря на все старания Марии Карловны и Батюшкова, Куприн и Бунин расстались, не простившись.
3
Работе над «Поединком» мешали частые редакционные совещания в «Мире божьем» и чтение бесконечных рукописей. Повесть уже сложилась в голове, выстроилась, обрела имя главного героя – Ромашов. Так звали мирового судью, который некогда ухаживал за подругой Марии Карловны.
По вечерам Куприн рассказывал жене о своей военной юности, откуда он черпал материал для будущей повести.
– Но далеко не всё в моей полковой жизни, – возбуждённо говорил он, расхаживая по комнате, – развивалось так, как это будет происходить в «Поединке»…
Куприн приблизился к жене, сидевшей в широком сарафане (она ждала ребёнка), нежно взял за руку:
– Ты не рассердишься, если я расскажу тебе о своей первой любви, воспоминания о которой я ещё не могу доверить листку?
– Ну что ты, Сашенька! – подняла она подурневшее, но ещё более дорогое ему лицо. – Как ты мог даже не сказать, а подумать так!
– Тогда слушай. Я служил третий год в Проскурове. Скука была адская. «Неужели вся моя жизнь пройдёт так серо, одноцветно, лениво? – твердил я себе. – Утром занятия в роте о том, что «часовой – лицо неприкосновенное», потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приёме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадается в супе мозговая кость – это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое… Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-альба шеренгою»… В общем, смотри мою старую повесть «Кэт». Однажды на большом полковом балу в офицерском собрании я познакомился с молодой девушкой. Как её звали, сейчас не помню – Зиночка или Верочка, во всяком случае не Шурочка, как героиню «Поединка», жену офицера Николаева. Ей только что минуло семнадцать лет, у неё были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был её первый бал. В скромном белом платье, изящная и лёгкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых. Верочка – сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он, состоятельный человек, неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустном полку. Было ясно, что он и его семья – люди другого общества…
В эту пору Куприн мнил себя поэтом и писал стихи. С увлечением наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» свои тетради, не посвящая никого в эту тайну. Но к Верочке сразу почувствовал доверие и, не признаваясь в своём авторстве, прочёл несколько стихотворений. Она слушала его с наивным восхищением, что сразу их сблизило. О том, чтобы бывать в доме её родных, нечего было и думать.
Однако подпоручик «случайно» всё чаще и чаще встречал Верочку в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить своё поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьёзном, дружеском тоне старшего товарища.
На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалованье – сорок восемь рублей в месяц – его семье будет легче, чем здесь?
– Как Верочкин опекун, – закончил разговор с Куприным капитан, – я дам согласие на брак с вами, если вы окончите Академию Генерального штаба и перед вами откроется военная карьера…
– И вот как Николаев в «Поединке», – рассказывал Марии Карловне Куприн, – я засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в академию. С мечтой стать поэтом я решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради с моими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке…
Летом 1893 года Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены.
В Киеве на вокзале он встретил товарищей по кадетскому корпусу, они убедили его на два дня остановиться у них, чтобы вместе «пошататься» по городу.
На следующий день утром вся компания отправилась на берег Днепра, где на причаленной к берегу старой барже каким-то предприимчивым коммерсантом был оборудован ресторан. Офицеры заняли свободный столик у борта и потребовали меню. В это время к ним неожиданно подошёл околоточный.
– Этот стол занят господином приставом. Прошу господ офицеров освободить места.
Между офицерами и полицейскими чинами отношения всегда были натянутые. Знаться с полицией офицеры считали унизительным, и поэтому в Проскурове даже пристав не допускался в офицерское собрание.
– Нам освободить стол для пристава? – зашумели офицеры.
– Ступай ищи ему другой!
Околоточный вызвал хозяина и запретил ему принимать заказ. Тогда в воздухе мелькнули ноги околоточного, и туша его плюхнулась в воду за борт. Баржа стояла на мелком месте, и, когда околоточный поднялся, вода оказалась ему чуть выше пояса. А он весь был в песке и тине.
Публика хохотала и аплодировала. Околоточный выбрался на берег и, снова поднявшись на баржу, составил протокол «об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей»…
Два бурных дня, проведённых в Киеве, основательно подорвали скудные средства подпоручика. И, приехав в Петербург, он питался одним чёрным хлебом, который аккуратно делил на порции, чтобы не съесть сразу. Он познакомился с несколькими офицерами, так же, как и он, приехавшими из глухих провинциальных углов держать экзамены в академию, но тщательно скрывал от них свою свирепую нищету. Он придумал для них богатую тётку, жившую в Петербурге, у которой, чтобы её не обидеть, должен был ежедневно обедать. Свою порцию хлеба Куприн съедал в сквере, где в этот час не было гуляющей публики, а только няни с детьми.
Иногда, впрочем, он не выдерживал соблазна и отправлялся в съестную лавочку, ютившуюся в одном из переулков старого Невского.
– Опять моя тётушка попросила меня купить обрезков колбасы для её кошки, – улыбаясь, обращался к лавочнице подпоручик. – Уж вы, пожалуйста, выберите кусочки получше, чтобы она не ворчала…
Самые трудные экзамены прошли благополучно. Куприн был уверен, что так же хорошо сдаст и остальные. Но вот неожиданно его вызывают к начальнику академии, который зачитал Куприну приказ командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова. В конце приказа объявлялось, что за оскорбление чинов полиции при исполнении ими служебных обязанностей подпоручику 46-го пехотного Днепровского полка Куприну воспрещается поступление в Академию Генерального штаба сроком на пять лет.
Мечты о «блестящей военной карьере» рушились. Верочка была потеряна…
– На другой день, – рассказывал Марии Карловне Куприн, – я продал револьвер, чтобы рассчитаться с хозяйкой квартиры и купить билет до Киева. Когда я садился в вагон, в моем кошельке оставалось несколько копеек… Увы, – усмехнулся он, – не очаровательная Верочка, а немолодая, увядшая дама, жена капитана, – назовём её госпожой Петерсон, – была в полку моей музой… И оказался я с ней только потому, что молодым офицерам было принято непременно «крутить» роман… Над теми, кто старался избежать этого, изощрялись в остроумии…
– Но когда же ты всё-таки плотно сядешь за работу? – суховато осведомилась Мария Карловна, задетая простодушием, с которым муж посвящал её в подробности своей давней интимной жизни.
– Когда ты выздоровеешь, Машенька, – мгновенно ответил Куприн с такой чистотой и пылкостью, что Марии Карловне стало неловко за свой тон. – Конечно, это будет мальчик, сын, мой сын… Какое это таинство – рождение человека! Мы назовём его Алёшей в честь Алексея, «божьего человека», нищего странника, который, неузнанный, жил в отчем доме в хлеву и к которому как к праведнику стекался за наставлениями народ…
Третьего января 1903 года у Марии Карловны родилась дочь Лидия.








