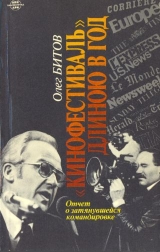
Текст книги "«Кинофестиваль» длиною в год. Отчет о затянувшейся командировке"
Автор книги: Олег Битов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
В том-то и горе, что описывать состояния, вызванные современными средствами воздействия на психику, чудовищно сложно. Потому что все фрагментарно, зыбко, всплывают частности, детали, а целого нет, и детали подчас неясно к чему относятся. Или, наоборот, сохранился внешний контур эпизода, общее от него впечатление, а внутри – пустота, мутная клякса, словно контур вырезан из черной или, пожалуй, серой бумаги. Как при этом прикажете отделить явь от бреда, действительность от галлюцинаций? Какие найти слова? И главное – как сделать их, слова эти, по-настоящему понятными для читателя, который, к великому его счастью, ни с чем подобным никогда не сталкивался и не столкнется?
И все же я пытался сделать это в газете и попытаюсь вновь: если не я, то кто же? Хотя займусь я этим чуть позже, когда логика развития событий, накопившийся мучительный опыт дадут мне возможность всмотреться и вслушаться в себя и в чем-то, пусть приблизительно, разобраться. А тогда… Тогда не было ни сил, ни желания разбираться в чем бы то ни было, и даже вопросы мои в диалоге были какими-то инертными, что ли. А потом и они выдохлись, погасли, осталась лишь мысль, что мне пообещали врача.
Осколки памяти
Теперь-то мне понятно, что, после того как меня стукнули, меня еще и укололи. Через несколько дней я заметил, что рука у локтя совершенно синяя. Но то через несколько дней…
– Попробуйте встать, – сказал он. – Нам пора. Давайте я вам помогу.
И я безропотно позволил помочь себе встать. Пиджак он мне подал, под локоть поддерживал. Открыл и закрыл дверь. Куда дел ключ от номера, понятия не имею.
Тут же, во дворе «Виллы Ада», стояла машина, как будто «БМВ». За рулем сидело нечто безмолвное, черное, необорачивающееся – готов пари держать, что оно-то меня и било. И это безмолвное великолепно знало, куда ехать, – да, я ведь не упоминал раньше, что на Лидо, в отличие от исторической Венеции, есть проезжие улицы и даже автобусы. Машина мягко рванула с места, и ехать оказалось недалеко, чуть больше квартала.
Катер ждал у какого-то частного причала. А на катере – тот самый рыжий, что накануне встречал нас на вокзале и с шиком, хоть и без серенад, доставил к местам фестивальным. Он и на сей раз молчал – маршрут, очевидно, был согласован заранее. Черный, впрочем, тоже прыгнул на борт, оставив свою «БМВ».
А моя апатия с каждой минутой становилась все глубже, к тому же на воде меня начало трясти, бросать то в жар, то в холод. С трудом вспоминаю даже, куда мы попали, – куда-то в район Академии, во всяком случае, вошли мы в Венецию по Большому Каналу. Пришвартовались опять-таки у причала без вывески, довольно осклизлого, поднялись по широкой, по-моему, мраморной лестнице. И вошли в какой-то, показалось, весьма просторный кабинет.
В кабинете в уголочке стоял обширный письменный стол темного дерева, а на столе – табличка по-английски: «Капитан Фостер». Были еще какие-то инициалы, но инициалов не помню. Сам Фостер, если, конечно, это был он, – типичный англо-американский джентльмен с трубкой, весь вежливый. В данных обстоятельствах его формальная вежливость выглядела, наверное, искусственно, если не карикатурно, но в том состоянии, в каком я находился, с уверенностью судить о таких вещах я не взялся бы. И теперь не возьмусь.
Из вопросов, которые он мне ставил, помню два: «Зачем вы ездили в Рим?» и «В каком вы чине?» Разговор шел, вероятно, по-английски, хотя тут же маячил и переводчик: может статься, частично по-русски, частично по-английски. Когда я принялся что-то толковать про «Литгазету», Фостер уточнил, что спрашивает про мой военный ранг. И, кажется, я вообще отказался вести какие бы то ни было разговоры, пока не встречусь с врачом.
Ну что ж, врача мне обеспечили. Точнее, не врача, а врачей. Кто-то из них, должно быть, действительно лечил меня, а кто-то лишь делал вид, что лечит, – на деле углублял бесчувствие, разглаживал память, гасил волю, и уже не на самодеятельном, а на вполне профессиональном, «научном» уровне. Немудрено, что мне почти невозможно расположить места, лица и события в связной последовательности. Был опять катер с тем же рыжим водителем. Были машины, много машин, разных. Но первая привезла меня, по-моему, на виллу в горах.
Пейзаж за окном был очень красивый – вероятно, Итальянские Альпы. Иззубренная горная цепь, замыкающая горизонт, и ближе ко мне – тоже горы, только контурами помягче, а внизу озеро. Вижу пейзаж совершенно четко, но… как зимний пейзаж! Озеро, правда, в тени, горы прячут его от солнца, но мне кажется, что оно затянуто льдом. И на ближнем, на моем склоне, вплоть до самой виллы – снег, из которого торчат островерхие ели, аккуратные, как кипарисы. А может, все-таки кипарисы, а не ели? Но вокруг них – снег. Понимаю, что это бред, что в Италии и вообще в Европе такого в сентябре просто не может быть. Но снег так невыносимо блестит, что больно глазам. И кажется, именно поэтому, из-за боли в глазах, я и отхожу от окна.
На вилле я, по-моему, в последний раз видел того, кто сидел у моей кровати в отеле «Бьязутти». Однако прежде всего там был врач, итальянец по имени Джузеппе, и с ним медсестра, она же по совместительству и переводчица. Вообще на вилле, кажется, английской речи не было, а была лишь русская и итальянская. Меня опять пытались о чем-то спрашивать, но я был настолько отключен и бессвязен, что перестали.
Потом снова машина, самолет, еще комната-палата – эта вовсе не знаю где, потому что окна были затемнены. Еще машина, в которой мы ехали много часов по автострадам, – все это, по-видимому, в той же Италии. И наконец еще один самолет, где я вдруг резко, хотя всего на две-три минуты, пришел в себя. Наверное, вот так резко очнуться от забытья, очнуться как бы на изолированном островке памяти можно, только если по-настоящему тяжко болен.
Что это была за болезнь? Записан ли где-нибудь диагноз, а если да, то точный ли? По ощущениям, что-то вроде сепсиса, общего заражения крови, по крайней мере, так я себе представляю общее заражение крови. А может, организм дал остротемпературную реакцию на специфический наркотик? Кто-то где-то наверняка знал и знает больше моего, но те, кто знает, молчат, отрицая все напропалую…
А картинка на этом изолированном островке памяти такая. Я сижу в самолетном кресле, опять в холодном поту. На спинке кресла передо мной – зелененькая надпись: «Алиталия». Предвечернее солнце. Самолет валится на крыло, заходит на посадку. Земля уже близкая, крупномасштабная, явно пригородная: курчавые пятна рощ, лоскутки лугов, проплешины пустошей перемежаются кубиками строений и карандашами фабричных труб, и все это перевито дорогами. Дорог много, и на дорогах полно разноцветных коробочек-машин. Какое-то время мы идем почти параллельно большой автостраде с раздельными полосами движения. И что-то не так, поразительным образом не так! И я внезапно понимаю, что: я вижу землю в иллюминаторе, как в зеркале, – машины движутся не по той стороне…
– Welcome to Britain! Добро пожаловать в Британию!..
Это слышится, нет, взрывается над ухом справа. Спутника моего, занимающего кресло ближе к проходу, зовут Филип, и он несомненно англичанин. Это я каким-то образом помню, а лица его, даже отдаленно, представить себе не могу. Сидим довольно странно: самолет почти не загружен, а мы в самом последнем ряду, и от нас до других пассажиров рядов десять совершенно свободных. Я поворачиваюсь от окна к спутнику, хочу что-то ответить – и это, к сожалению, конец. Посадки словно вовсе не было – память выключилась опять.
Перечитывая и переписывая текст, опубликованный прежде в газете, я едва сдержал побуждение вычеркнуть весь этот эпизод. Полноте, может ли это быть: с воздуха, на считанные мгновения придя в себя, я так вот сразу взял и определил, что движение на дорогах левостороннее? Не ложное ли это воспоминание, вроде снега вокруг альпийской виллы? Однако я водил машину без малого тридцать лет, с первых тесненьких «Москвичей», а за годы работы разъездным корреспондентом взлетал и садился раз шестьсот-семьсот, если не тысячу. Все это, разумеется, в условиях движения привычного, правостороннего. Так что пусть эпизод остается: он и в самом деле мог иметь место. A «Welcome to Britain!» и по сию пору скрежещет над ухом как символ традиционно британского и сто крат умноженного спецслужбами лицемерия.
Филипа без лица, произнесшего это самое «Добро пожаловать», я, пожалуй, больше никогда не видел, разве что он являлся ко мне под иным именем. Что не исключено, однако маловероятно: в нереальном мире, где мне пришлось прожить столько недель и месяцев, люди возникали из ниоткуда под условными именами и, выполнив отведенную им роль, исчезали бесследно. Исчезли для меня навсегда и доктор Джузеппе, и медсестра-переводчица, и сам «Алексей Ильич». Все остальные меня, признаться, интересуют лишь постольку-поскольку, за исключением того, кто оказался утром 9 сентября у моего изголовья. Кто он? Агент итальянской секретной службы – их три, какой именно? Или прямой посланец «Интеллидженс сервис»? Или «человек ЦРУ»? Или слуга многих господ? Есть из чего выбирать: американцы, англичане, итальянцы, да еще белоэмигранты с парижским прононсом – целый уголовно-шпионский интернационал…
Но что я такому интернационалу? Зачем? Чего они скопом на меня навалились? Разберемся, понемногу разберемся во всем, только не сразу. Как не сразу, ой не сразу, разобрался в этом я сам – и в этой главе и в последующих не избежать чисто логических допущений, множества всяких «по-моему», «кажется», «вероятно».
Хотя уже здесь, не медля, следует добавить к изолированным островкам памяти (или все-таки псевдопамяти?) два несомненных, твердо установленных факта.
Во-первых, двумя месяцами позже в одной из поездок по Англии я по недосмотру сопровождающего видел собственными глазами то, чего мне, вне сомнения, видеть не полагалось: паспорт, по которому меня вывезли из Италии. Британский паспорт, выданный посольством в Риме якобы взамен утерянного сроком на полгода, на имя Дэвида Лока, родившегося в Оксфорде 10 февраля 1934 года. К сожалению, не запомнил номера, да и что толку, если бы запомнил: эту липу давным-давно сожгли. Вместе с фотографией, сделанной не знаю когда, как и кем: мама и та, подозреваю, меня по такому портрету не узнала бы – слипшиеся волосы, бессмысленный взгляд и багровые пятна на скулах. Фотографию-то некий мудрец догадался сделать цветную…
Зачем понадобилось изменять дату рождения, делать меня моложе на полтора года с лишним? Почему выбрали Оксфорд, а не что-либо другое? Убежден, что «случайности» не случайны, что в каждую из них вкладывался смысл, кому-то понятный. К сожалению, не мне. Но еще интереснее – кому и зачем понадобилась анаграмма? Фамилия Лок, вообще-то весьма распространенная, известна в трех разных английских написаниях. И выбрали из трех то, которое в комбинации с первой буквой имени дало смысловое слово. Locke + D = locked, то есть «запертый», «заключенный». Иначе как злобностью и циничной уверенностью в своей безнаказанности объяснить подобную «игру слов» я не в состоянии. [2]2
Цинизм похитителей оказался еще глубже, чем представлялось. Дэвид Лок – так звали героя фильма М. Антониони «Профессия: репортер». Я видел этот фильм задолго до Венеции, и он мне очень понравился, но разве упомнишь имена всех, с кем знакомишься на экране! Что роль репортера играет Джек Николсон, я запомнил, а имя героя забыл. Спасибо, что в 1988 г. пригласили на повторный просмотр.
По сюжету Дэвид Лок вступает в неравную схватку с темными силами (то ли со спецслужбами, то ли с мафией – неясно) и в конце концов погибает. Ничего себе намек, заложенный в заговор с самого начала! И ведь анаграмма тоже остается в силе…
[Закрыть]
А во-вторых, меня все время преследовало видение Пизанской падающей башни. Будто был где-то около, смотрел на нее вблизи – согласитесь, она знаменита настолько, что ее упомнишь и в бреду. И чтобы положить конец сомнениям, я однажды, уже в Лондоне, достал проспект компании «Алиталия». Дело в том, что в Италии многие аэропорты носят личные имена: например, в Риме – Леонардо да Винчи, в Венеции – Марко Поло. А я вроде помнил, что видел где-то над крышей: «Аэропорт Галилео Галилей». И точно, проспект подтвердил, что имя Галилея присвоено аэропорту в Пизе.
Выходит, что вывозили меня из Пизы. Выходит, что именно в Пизу мы так долго добирались по автострадам. Вот только с календарем ничего у меня не выходит: дни как были, так и остаются без чисел.
ЮЖНАЯ АНГЛИЯ. ДНИ БЕЗ ЧИСЕЛ
Черный иней
Запетый, но навсегда точный вопрос: с чего начинается Родина? Для меня – с блокадной зимы, когда Ленинград тонул в сугробах, сох и вымирал от голода, содрогался от артобстрелов. Когда купол Исаакия и Адмиралтейская игла, утаивая позолоту, тускло чернели на фоне серого или, увы, безоговорочно лётного, безоблачно синего неба. Когда памятники, укрытые дощатыми гробами, не разнились от брошенных посреди площадей трамваев, а для людей гробов не хватало, никто и не мечтал о гробах, разве лишь о том, чтоб быть похороненным хоть как-нибудь, хоть в одеяле. Когда в придачу к бомбежкам, ста двадцати пяти граммам хлеба пополам с отрубями и саночкам, саночкам, саночкам, водовозным и похоронным, на город навалилась еще и небывало суровая стужа. Когда столбик уличного термометра, градуированного во времена оные до минус двадцати пяти по Реомюру, как съежился в кругленькой нижней норке, так и не высовывался неделями, не мог… В ту зиму мне было девять лет.
Мы жили на Петроградской, на Аптекарском острове, напротив Ботанического сада. Дом выстроил перед самой революцией «шоколадный король» Конради – и для себя с челядью, только его апартаменты располагались в другом крыле, и как доходный, для нанимателей средней руки. Мы въехали сюда в 1940-м, толком даже обжить квартиру не успели. Отец, архитектор, не уставал дивиться мешанине стилей, какую по «королевской» воле учинили проектировщики на наружных фасадах; действительно, пилястры и эркеры, балконы, балкончики и даже крепостные башенки чередовались там без всякого порядка и смысла. У нас, во дворе, все выглядело попроще, почти на уровне нынешнего типового рационализма. Но возведено все это было, и снаружи и во дворе, на совесть.
Поздней осенью 41-го в метре от стены ухнула не ахти какая мощная, но все-таки фугаска. Боюсь, что современная панельная стенка смялась бы, как картонная. А наш дом вздрогнул, посыпались стекла, стена дала трещину – и устояла. После войны трещину заделали – она оказалась даже не сквозной. Сегодняшние жильцы, наверное, и не подозревают о ней.
Первенствующее блокадное воспоминание: теплится буржуйка, нехотя покусывая ножку какого-нибудь очередного стула (книг мы не жгли), а в отсветах жиденького пламени, комочком, – младший брат, повторяющий монотонно и нараспев: «Я га-алонный, я га-алонный…» И почерневшая, седая до срока мама – она только что вернулась домой, что-нибудь добыв или не добыв ничего, и, в зависимости от результата, либо делит добычу строжайшим образом на неравные части, себе наименьшую, либо прижимает нас к груди, гладит по головам и отвлекает, отвлекает…
Она читала нам сказки. Я, разумеется, давно умел читать и охотно делал бы это сам, но я бы читал все подряд и поневоле сосредоточивался, едва в тексте запахло бы едой. Вряд ли кому-нибудь вне блокады придет в голову посетовать, как часто и помногу едят герои литературные и фольклорные, подкрепляются, закусывают, трапезничают, пиршествуют – независимо от жанра. А мама все, что прямо или косвенно «про еду», талантливо пропускала. Я, может, изредка и замечал подвох, а четырехлетний братишка – безусловно нет.
И, кроме сказок читаемых, придуманных давно или недавно, были сказки импровизируемые, придумываемые ею самой, сию минуту. Я назвал бы их сказками-заклинаниями или даже молитвами, если только отделить глубинный смысл слова от богов, икон, псалтыря и елея, наподобие симоновского «Жди меня», нам в блокаде еще неизвестного. Особенно повторялась, пользовалась наивысшим спросом «сказка про папу». Отца ведь с проектным институтом, где он работал, успели эвакуировать, семьи должны были догнать институтский эшелон на Урале, да не вышло: в ночь, когда нас погрузили в теплушки, фашистские танки прорвались на Мгу, кольцо замкнулось. И мама рассказывала нам, что там, в тылу, отец придумывает и непременно придумает оружие, которое разгонит фашистов и разорвет блокаду. Отец, я уже упоминал, был архитектором, а не оружейником, но мы верили.
А в более или менее сносную погоду, если термометр «по Реомюру» подавал признаки жизни, мама выгоняла меня гулять. Хлебных карточек она мне не доверяла: еще отнимут, обвесят, отрежут лишний талон. Воду из ближней Карповки, а потом и из дальней Невки тоже возила на санках сама. Мне же, закутанному в дюжину платков до состояния капустного кочана, вменялось всего-навсего обойти квартал и вернуться. Как бы я ни хныкал и ни отнекивался, мама была непреклонной: приходилось вылезать из-под одеяла, совать ноги в валенки не по размеру и шаркать вниз по обледенелой лестнице во двор и на улицу. Так советовал дядя Аля, мамин брат, военврач, единственный из близких родственников, кого судьба нам на счастье тоже оставила в Ленинграде. Нет, вношу поправку: оставалась еще и многочисленная родня по отцу, но вся она, за малым исключением, покоится с тех пор под строгими холмиками Пискаревского мемориала. Если бы не дядя Аля, не его советы и какой ни есть, а командирский паек, не выжили бы и мы.
Маршрут вокруг квартала преодолевался за полчаса. Иногда я задерживался, и мама сходила с ума от тревоги и, раздевая меня, твердила: больше ни за что, никогда… Но на следующий день, если позволял Реомюр, все повторялось сызнова.
А задерживался я чаще всего потому, что на улице вывешивали газету. Впоследствии я разговаривал со многими блокадниками, и никто ничего подобного не припоминал. Выходит, нам и в этом особенно повезло. И в том, что нашелся стенд, прилепленный к стенке крепко-накрепко – не отодрать на дрова. И в том, что сыскался человек, понимавший, как это важно, как нужно. Хотел бы я знать, кто он был: полиграфист? политрук? газетчик?
Так или иначе, а газету вывешивали. Не всегда, но часто. «Ленинградскую правду» на двух страничках серой бумаги, с потертым шрифтом и невнятной печатью. И вокруг, пока не глох короткий зимний день, обязательно собирались несколько человек. Всматривались в тусклые строчки, сначала в выделенные поярче сводки Совинформбюро, потом и в остальное. Обмена мнениями не бывало, люди берегли дыхание. Но каждый, не исключая и меня, искал в газете поддержки, надежды, веры в чудо, вычитывая между строк то, чего там не было и быть не могло. Не только детям нужны были тогда «сказки по папу»…
Может быть, именно тогда зародилось во мне подспудно желание стать журналистом. Даже стихи сочинил вскоре после войны – юношеские, подражательные и, разумеется, никогда и нигде не печатавшиеся. Задумана была, кажется, целая поэма. Ее я давно забыл, а восемь строк уцелели:
Я по годам на фронте не был.
Но помню явственно вполне
Блокадную осьмушку хлеба
И черный иней на окне.
Я помню дымные скелеты
Домов, обрушенных во сне,—
И помню серый лист газеты
На исковерканной стене…
Тут есть деталь, требующая пояснения. Сам бы запамятовал, если бы не стихи. Иней-то на окне, мохнатый с наледью, в палец толщиной, был и вправду черным. Ведь не рефлектор и не камин – буржуйка…
И все это, господа, вы вознамерились у меня отнять?!
И не только мамины сказки и дядю Алю. Не только клеклый блокадный хлеб и черный иней. А и путь через Ладогу в апреле 42-го под скрещенными в небе прожекторами, когда грузовики шли по ступицу в воде и каждый четвертый не доходил до берега. И слезы счастья над первой послеблокадной, когда-то столь ненавистной манной кашей. И хуже слез – жесточайший понос, потому что кашу сварили на молоке, а этого делать было как раз нельзя. И медленно ползущий сквозь снега – зима выдалась суровой и долгой не только в Ленинграде – поезд с «выковыренными». Было такое жестокое военное словечко, но оно же и предельно меткое: нас не просто эвакуировали, а вырывали, выковыривали из лап смерти.
И деревянный уральский городок Ревду, где мы наконец повстречались с отцом. И годом позже Ташкент – «город хлебный», лепешечный, урючный, где меня, случалось, сильно бивали за то, что писал стихи и отказывался играть в «маялку». Закалили понемножку, и, когда в августе 44-го мы вернулись в Ленинград, я уже умел давать сдачи и легко, на равных, влился в школьную вольницу. Обучение к тому времени ввели раздельное, и сладить с классом – с четырьмя десятками сорванцов, многие из которых повидали костлявую ближе некуда, не всегда удавалось даже бывалым фронтовикам. Мы жили по каким-то своим законам, не признавали никаких заведомых авторитетов и никакого режима, и я вместе со всеми играл в футбол, которого не любил, рыскал по свалкам в поисках трофейного оружия и стрелял по самодельным мишеням (как мы тогда не перебили друг друга и как нас на куски не разнесло?). И вместе со всеми носился по городу – и на Неву, и на Дворцовую, и на Невский – в ликующий победный день 9 Мая.
Кто скажет, как устроена память? Отчего в данный момент вспоминается именно то, а не это? До точного ответа наука, что называется, еще не доросла. Одно могу утверждать с уверенностью – память устроена очень правильно, и если вам невдомек, с чего вдруг она ворошит, вытаскивает на свет какой-то давний-предавний случай, то просто доверьтесь ей: она своевольничает не без причины. Значит, именно здесь, в этом слое памяти или поблизости от него, лежит то, что сейчас вам всего дороже: прецедент, параллель, точка отсчета, нравственный критерий, выход из положения, казалось бы, безвыходного. Безвыходных-то положений, если разобраться, не существует в природе, а уж какой выход вам приглянется, зависит от того, что подскажет вам память. Вот почему из всех слоев памяти, из всех ее категорий на первое по важности место надо поставить память сопоставительную, биографическую, оценочную. Короче, память нравственную.
Ну а если ее, такой памяти, нет? Если ее отняли, обескровили, умертвили?
«В суть всякой вещи вникнешь, коль правдиво ее наречешь». Афоризм я заимствовал из фильма «Андрей Рублев» у монаха-вольнодумца Кирилла, который, в свою очередь, ссылался на какого-то религиозного писателя, для него авторитетного. Прознай вольнодумец, в каком контексте та же истина будет повторена шесть столетий спустя, он бы, скорее всего, осенил себя крестным знамением, отгоняя нечистого…
Монах Бертольд Шварц, примерно современник Кирилла, открыл порох, не имея ни малейшего представления о химических формулах. Современная «передовая» наука, отнюдь не имея цельного представления о свойствах человеческой памяти и ее механизме, тем не менее поставила себе задачей научиться командовать ею, дробить память на отдельные звенья и слои и выключать их попеременно, а подчас и все вместе.
Но на том аналогия и кончается. Шварц-то не очень ведал, что творил, да и «колдовал» в одиночку. Нынешние «алхимики» объединены в мощные лабораторные коллективы, к их услугам – самое совершенное оборудование, электронные микроскопы, компьютеры, точнейшие биохимические анализаторы. И «лабораторные мыши», хвостатые и бесхвостые. (Откуда берутся бесхвостые, расскажу тоже, просто всему свое время.) Главное же – у нынешних «алхимиков» целеустремленные и весьма щедрые заказчики. А значит, и производственная база, где результаты, с позволения сказать, исследований превращаются в ампулы, таблетки и капсулы. А «на подхвате» – подчиненные тем же заказчикам спецслужбы, которые не задумываясь пускают эти ампулы и таблетки в ход…
У ампул и таблеток есть куча благозвучных наименований «по науке»: психотропные средства, нейролептики, атарактики, эйфорические наркотики и даже «наркотики правды». Однако независимо от наименований суть одна: превратить человека в марионетку, в существо без убеждений, без морали, без родины, без семьи и близких: «А зачем вам семья? Вы и здесь себе подругу найдете….» «А зачем вам Россия? Английским языком вы владеете, а жить вам здесь будет материально гораздо лучше…»
Дикий, оголтелый цинизм, отталкивающе неприемлемый, если не хуже! Но еще и холодный, сволочной расчет – выжать жертву досуха, вывернуть наизнанку: человек-марионетка не контролирует своих ответов, не в состоянии сохранить никаких секретов, если они были доступны ему. А потом, когда он опомнится, придет в себя? Да какая заказчикам и спецслужбам разница, что будет потом! Пусть вешается, пусть воет с тоски и спивается – его личное дело…
Иногда я спрашиваю себя: ну хорошо, со спецслужбами, да и с их хозяевами все ясно. Как волка ни корми, черного кобеля не отмоешь добела и т. д. Но эти-то, наследники монаха Бертольда Шварца у компьютерных дисплеев, вурдалаки в белых халатах, – они-то как? Они же ведают, что творят! Задумываются ли они хоть изредка, что те же препараты с таким же успехом могут изувечить их собственных детей? Стараются не задумываться. Это – работа, к тому же гарантированная от колебаний экономической конъюнктуры и очень недурно оплачиваемая. А дома вурдалаки как бы переключаются на другую волну, гладят по головкам внучат и сажают цветочки…
Нет им ни прощения, ни оправдания. Те же внуки когда-нибудь предъявят им беспощадный счет. А впрочем, пожалуй, все-таки есть – не оправдание, а смягчающее вину обстоятельство. Не пишется слово «родина» по-английски с большой буквы. Непонятно им, начисто непонятно, зачем мы по-русски пишем его так и только так. Слов нет, и англичане и американцы – патриоты собственных стран. Однако их патриотизм (без тени намерения оскорбить их или унизить) иного калибра или, вернее, иной окраски, он как бы вторичен в том смысле, что поверяется выгодой. Если жизнь на чужбине сулит англичанину, американцу или вообще человеку Запада какие-то ощутимые блага, можете не сомневаться, что он поставит выгоду на первое место, а патриотизм удобно устроится на втором. Даже выражение такое доводилось слышать, с оттенком упрека либо недоумения: у вас, у русских, мол, гипертрофия патриотизма… Но я поневоле забегаю вперед.
«Олд Фелбридж»
Я все время забегаю вперед и ничего не могу с этим поделать. Наверное, подсознательно я все время хочу выравнять свое с читателем положение. Ведь читатель, если он помнит мою историю в газетном изложении или даже понаслышке, обладает изрядным по сравнению со мной преимуществом. И даже безотносительно к прежним публикациям – он держит в руках книгу, изданную в Москве, а следовательно, догадывается, что все кончится благополучно. Я же на момент, о котором речь, ни о каком благополучном исходе догадаться не мог. Я вообще ни о чем не мог догадаться, потому что не мог ни о чем задуматься. Меня кормили– я ел, везли– ехал, спрашивали – отвечал…
Дни по-прежнему оставались без чисел. Однако через неделю после Венеции я был уже, несомненно, в отеле «Олд Фелбридж» в городке Ист Гринстид к югу от Лондона. Комнаты 111, 112 и 113 на первом этаже. За номера комнат выражаю признательность английской прессе, которая после моего возвращения на Родину провела подробное, хоть и небеспристрастное расследование.
Интересно, прославился отель вследствие такого расследования или «погорел»? Предположить можно, почти с равными на то основаниями, и одно и другое. Случалось убеждаться, и не раз, что своих «спецслужбистов» (в жизненном, а не в экранном варианте) рядовые англичане не жалуют и стараются по мере возможности держаться от них подальше. А с другой стороны, могли и понаехать, рассудив, что спецслужбы сюда, вероятно, больше не сунутся.
А они использовали этот отель, уверен, неоднократно, и моих «опекунов» персонал приветствовал как старых знакомых. Расположен «Олд Фелбридж» уж очень удобно, на перекрестке двух больших дорог, А 22 и А 264, и множества дорог помельче. Железнодорожная станция рядом, до международного аэропорта Гэтвик рукой подать, да и до Лондона путь недальний, миль тридцать. Цены на номера, правда, выше средних. Но что джеймсам бондам цены, если в бумажниках веером – кредитные карточки всех цветов радуги: казна британской короны, обожающая ссылаться на нехватку средств по любому насущному поводу, для спецслужб оборачивается неисчерпаемой.
Через полтора года, в апреле 85-го, я напечатал в «Литгазете» небольшой фельетон о подоплеке этой неисчерпаемости. Название фельетона – «Двойное дно потертого чемоданчика». Чемоданчик имелся в виду тот, с каким министр финансов ездит на Даунинг-стрит, 10, в резиденцию британского премьера, утверждать годовой национальный бюджет. А двойное дно… Еженедельник «Обсервер» пронюхал, что официальная бюджетная цифра расходов на секретные службы —76 миллионов фунтов стерлингов – занижена в тринадцать раз! Тут не только три номера снять, а весь «Олд Фелбридж» можно купить и не заметить.
Но вернемся из 1985 года в 1983-й, из апреля в сентябрь. Внешне здание отеля – подделка под английскую старину, но именно подделка: внутри – современная планировка, современный комфорт и, что существенно, великолепная звукоизоляция. Очень тихо, неправдоподобно тихо. И если правда, что номера комнат были 111, 112 и 113, то меня поселили в 112-й, а справа и слева жили «опекуны»: с одной стороны– Хартленд, с другой – Уэстолл либо Макнот.
Старшим в этой троице был полковник Джордж Хартленд. Его и надлежит представить прежде всего, остальные подождут. Седой, голубоглазый, медлителен в речи, но быстр в движениях. Ну просто образцово-показательный английский полковник, правда, в форме я его (как и остальных) никогда не видел. Но без всякого напряжения могу представить себе его в колониальном пробковом шлеме, френче, крагах и со стеком в руке– и хоть на подавление восставших сипаев, хоть на Фолклендские острова. Годен без ограничений в любую захватническую авантюру начиная с XVI века.
На щеках, на носу и шее – множество мелких багровеньких прожилок. Как однажды сам себя отрекомендовал за ужином, «убежденный поклонник виски, все равно какой марки, лишь бы подешевле и побольше». Позже похвалился, что собирался уйти на пенсию, да попросили вернуться – начальство в «Интеллидженс сервис» пришло к выводу, что как «специалист» полковник незаменим.
Напялив маску заботливого папаши – надо признать, маска ему привычна и даже к лицу, – Джордж возил меня в Уокинг делать какие-то покупки. Я ведь очутился в Англии практически ни с чем: ни бритвы, ни носового платка. И уж, разумеется, никаких документов. Почему в Уокинг, за много миль, словно в Ист Гринстиде магазинов нет? Черт его разберет, для конспирации, должно быть, – соображения на сей счет у спецслужб бывают подчас совершенно мистические.
Как я себя чувствовал? Температура спала – раз сами спровоцировали болезнь, то и противоядие, надо полагать, знали. Остались слабость, одышка, неприятные кожные реакции. Резко, скачком, упало зрение. Но это бы еще полбеды. Главная беда, что я вообще не сознавал своего положения, был полностью равнодушен и к окружающему, и к себе. Ничему не удивлялся, ничему не радовался и не печалился. Не задавал ни себе, ни «опекунам» никаких «неудобных» вопросов, – вероятно, даже не понял еще, что слово «опекуны» надо ставить в кавычки. Уж казалось бы, вопрос, как и зачем я переброшен из Италии в Англию, не просто напрашивался, а кричал благим матом, был очевиднейшим из очевидных. Но нет, даже этот вопрос если и возникал, то не формулировался, тут же таял и ускользал.








