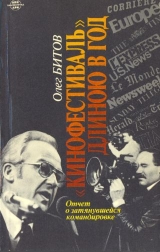
Текст книги "«Кинофестиваль» длиною в год. Отчет о затянувшейся командировке"
Автор книги: Олег Битов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Отступление третье
МИФ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
В Америке тоже робеют осины,
И смотрят березки в прозрачную синь,
И так же по-русски краснеют рябины,
И ласковой горечью пахнет полынь.
Такие же реки, озера и рощи,
И люди похожи на русских людей,
Но русская песня скромнее и проще,
И шире душою, и сердцем добрей.
И пусть Миссисипи, как Волга, красива,
И пусть по-байкальски широк Мичиган,
Но все-таки ночью мне снится Россия.
……………………………………………………………………
Вот и весь вальсок, я опустил лишь последнюю строчку, совсем слабую поэтически и к тому же требующую знания обстоятельств личной жизни автора, с которыми я решительно не знаком. В Америке я не слышал ни слов этих, ни мелодии, привязались задним числом: примерно через год по московским магнитофонам прокатилась короткой шквальной волной мода на пленки, напетые в «русских» кабаках за океаном, в основном на упоминавшейся уже нью-йоркской окраине Брайтон-Бич.
Когда я обдумывал эту книгу, все казалось если не простым, то стройным: будут сюжетные главы, написанные неизбежно от первого лица, а будут и главы-отступления, где можно в крайнем случае спрятаться за ширмой отстранения, прикрыться стареньким оборотом «автор этих строк». Короче, хотелось разделить: вот он я, какой есть, а вот факты, почерпнутые из сторонних источников, вот субъективные впечатления, а вот объективные истины…
Но есть тема, где субъективное и объективное переплетены так, что не разделишь. И это именно отступление, хотя играть в прятки я не намерен и никакого «автора строк» на помощь не позову. Тема эта – эмигранты и эмиграция.
Тяжелая тема. Сложная, противоречивая, парадоксальная.
Лично для меня парадокс начинается с того, что меня считают теперь «специалистом», знатоком темы – а я не только себя эмигрантом не числил, но и других, под эту категорию подпадающих, за весь «фестивальный» год почти не видел. Меня просто не подпускали к ним, а их ко мне. А если в кои-то веки на горизонте возникали фигуры «нашенского» вроде бы происхождения, они были заведомо непригодны ни для серьезных обобщений, ни для элементарного человеческого доверия. Ставленники, наймиты спецслужб – этим все сказано.
Но сводить проблему к отщепенцам? Нет, не выходит. Ну сколько их может быть, доподлинных отщепенцев, продажных и продавшихся? Десять? Сорок? Сто? Однако ни для кого не секрет, что только за пресловутые годы застоя нашу страну покинули под разными предлогами десятки, если не сотни тысяч человек. [23]23
Можно уточнить: по данным ОВИР, за послевоенные годы за границу на постоянное жительство выехали около полумиллиона человек. Процесс этот, разумеется, сразу остановить нельзя, да и нужно ли останавливать? Сдерживать эмиграцию запретами – неприемлемо, а естественным порядком она, уверен, остановится и сама. Пока что, в 1987–1988 гг., но апрель включительно, было выдано 60 тысяч разрешений на выезд.
[Закрыть]Что же, все-все они – отщепенцы?
По пропагандистским канонам, неизменным в этой своей части с 30-х годов, полагалось думать именно так. Полагалось выдавать эмиграцию за нечто однородно ничтожное, алчное и враждебное. Полагалось предельно все упрощать, прилежно затушевывая тот факт, что однородной эмиграция никогда не была.
Не была единой «первая волна» эмиграции после революции и гражданской войны, когда наряду с бывшими князьями и заводчиками за границей оказались– полками и дивизиями – и рядовые, подневольные участники «белого движения». Не отличалась единством и «вторая волна» после Великой Отечественной, когда домой не вернулись не только миллионы павших на поле брани, но и миллионы пропавших без вести. Кое-кто из них потом отыскался в странах ближних и дальних, вплоть до Австралии и Южной Америки. И вовсе не обязательно это были негодяи, фашистские прихвостни, бежавшие от возмездия. Были, и в немалом числе, люди, сломленные пленом и лишениями, испугавшиеся репрессий по возвращении – недобрые слухи распространились быстро, да и память о 37-м была еще свежа. Положа руку на сердце, есть ли у нас право безоговорочно осуждать тех, кто, не совершив преступлений, тем не менее предпочел изгнание новой неволе?
Известна впечатляющая цифра: в соответствии с декретами ВЦИК об амнистии «рядовым участникам белогвардейских военных организаций» на Родину с 1921 по 1931 год вернулись 181 тысяча человек. А сколько из них чуть позже были объявлены шпионами, вредителями или, как минимум, «социально опасными элементами» и по приговорам «особых троек» сгинули в лагерях? А после Победы, когда к тем, прежним, добавились новые сотни тысяч вернувшихся и сгинувших бесправно и бесследно? Сколько их было в точности? Где эта скорбная статистика, известна ли она хоть кому-нибудь?
И нечего воротить нос: это было. Не оглянувшись на прошлое, не всматриваясь в самые неприятные его страницы, эмиграцию как явление себе не представишь. Повторяю, она никогда не была однородной, но, чтобы картина стала целостной и правдивой, нужны не частные случаи – их-то можно, было бы желание, подобрать на любой вкус, – а четкий, без изъятий, исторический фон.
Сегодня нас, конечно же, более всего беспокоит так называемая «третья волна» эмиграции, вспухшая в эпоху Брежнева и не опавшая до сих пор. Именно по этому поводу от меня настойчиво требовали экспертных суждений и в конце концов в 1987 году убедили их высказать. Удачно ли, доказательно ли – судить не мне. Полагаю, впрочем, что удача не была и не могла быть полной: хоть я и призвал на подмогу настоящего эксперта из МИДа, внятности и беспристрастности исторического анализа нам с ним в тот момент еще не хватило. Из всего опубликованного выделю письмо ленинградца-фронтовика, экономиста по профессии Г. И. Кузнецова:
«Почему вокруг вопроса о «бывших» завязался узел страстей? Потому что, по-моему, в нем переплелись негативные явления, унаследованные от разных времен. Легко ли требовать снисходительного отношения к тем, кто оказался за границей в силу собственной жадности, «вещизма», жажды личного благополучия любой ценой? В 70-е годы общество серьезно болело этими заразными болезнями, но не прощаем же мы вора, который оправдывается тем, что «все крали»!..
И все-таки не идет из памяти другой период нашей истории, когда в начале 50-х Берия затеял так называемую «борьбу с космополитами», а затем «дело врачей», чуть было не закончившееся трагически. Ни Берии, ни его приспешников давно нет на свете, а отрыжка воскрешенного ими антисемитизма слышна и поныне. Сказывается она и в отношении к «бывшим».
Во избежание недоразумений сообщаю, что сам я русский и по отцу и по матери. Под судом и следствием не состоял, за границей не был. Ущемленным себя не считаю ни в чем. За моим письмом нет ни личной обиды, ни личной заинтересованности, только желание разобраться.
Думаю, раз уж «бывшие» просятся обратно, то не будем им мстить». [24]24
«Литературная газета», № 27 (5145), 1987, 1 июля.
[Закрыть]
В письме есть неточности, спорные утверждения (Берия ли затеял «борьбу с космополитами» и «дело врачей», а если да, то по своему ли почину?). Но что привлекает, очень, – действительное желание разобраться непредвзято. В потоках писем на «эмигрантскую тему», обрушившихся в ту пору не только на «Литгазету», но и, насколько знаю, на самые высокие инстанции до ЦК включительно, таких – непредвзятых – были считанные единицы.
Тут опять обнаружился парадокс. Письма-то потекли потоком не оттого, что эмиграция, допустим, вышла на какой-то новый виток, а оттого, что группе уехавших в 70-е годы разрешили вернуться обратно. По какому праву?! – возмутились высокоидейные граждане. В некоторых особо непримиримых посланиях явственно проступили антисемитские нотки. Хотя в подавляющем большинстве случаев националистических ноток не было, слог был возвышенным, авторов объединяло благородное негодование. Как?! В трудные годы покинули Родину, а теперь, учуяв перемены, запросились обратно? Отсиделись за тридевять земель, а теперь на готовенькое? Не пущать!..
Ладно, что до «готовенького» куда как далеко. Ладно, что «сидение» за морями обернулось для самих «отсидевшихся» отнюдь не медом и сахаром. На такие «мелочи» разгневанные авторы дружно не обращали внимания.
И уж, ясное дело, было им невдомек, что своими филиппиками они живейшим образом напомнили мне поучения, какие доводилось многократно выслушивать от «соотечественников» на другой стороне. От тех самых, кого все-таки подпускали, а то и навязывали в «друзья» и «наставники». Те ведь тоже твердили с полным единодушием: «Вернуться и помышлять не моги – не пустят. А если пустят, то посадят. Помнишь Ильфа и Петрова? Заграница – это миф о загробной жизни. Кто сюда попал, тот не возвращается».
Поразительно упорство, с каким консервативное мышление ограждает себя удобненькими, гладенькими кирпичиками стереотипов! Это, в сущности, не зависит от социальной системы, закономерность общая. Вся и разница в окраске кирпичиков: где на одной стороне, на одной проторенной дорожке кирпичик черный, на другой, симметрично, белый, и наоборот.
Но сперва о цитате из Ильфа и Петрова. В эмигрантской среде она популярна необыкновенно и почти подлинна. «Золотой теленок», глава 32-я. Последнее свидание великого комбинатора с бывшим бортмехаником Балагановым на Рязанском вокзале.
«– А как Рио-де-Жанейро? – возбужденно спросил Балаганов. – Поедем?
– Ну его к черту! – с неожиданной злостью сказал Остап. – Все это выдумки, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
– Ну и дела! – вздохнул Балаганов.
– Мне один доктор все объяснил, – продолжал Остап. – Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается…»
А краски-то в подлиннике иные! Гораздо живее и богаче. Укатали цитату на эмигрантских дорожках, отсекли от нее весь диалог, кроме самого его финала. И уж тем более запамятовали, что вслед за свиданием в вокзальном буфете Балаганова сдадут в милицию за кражу грошовой сумочки, а Остап примется отчаянно допытываться у заезжего философа, в чем же смысл жизни…
Учиненное над цитатой насилие не случайно, как не случайна ее популярность в усеченном виде. Как не случайны ностальгические, в расчете на алкогольную слезу, напевы в размножившихся «русских» кабаках. И немыслимые, никакой и даже извращенной логикой не объяснимые перепады настроений, симпатий и антипатий, славословий и проклятий в любом на выбор эмигрантском издании. Все это разные грани одного и того же явления: «третья волна» эмиграции, в отличие от двух предыдущих, с самого своего возникновения жаждала оправдаться – если не перед Родиной, так хоть перед собратьями по несчастью, перед собой.
«Третья волна» терзалась и терзается комплексом вины. Потому что в этой волне, за немногими исключениями, эмиграция была не вынужденной, а добровольной. Г. И. Кузнецов, чье письмо приведено выше, умозрительно мягок, но по существу прав: за границу этих людей повлекли, как правило, не идейные соображения, а ощутимое их отсутствие.
Или – смотря что понимать под идейными соображениями. Незабвенный Остап тоже ведь считал себя идейным борцом за денежные знаки. В основе «третьей волны» лежал и лежит все тот же уцелевший «миф о загробной жизни». Местечковые, инфантильные представления о зарубежном счастии: «полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах». Ну, может, с небольшой поправкой на эпоху – не в белых штанах, а в джинсах с наклейками. А дальше точь-в-точь «по Бендеру»: «Пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы…» Стоит ли продолжать?
Нет, я не собираюсь, запоздало сверяясь с канонами, возвращать разговор в стародавнее конфронтационное русло. Я даже готов согласиться с тезисом, вычитанным то ли в «Новом русском слове», то ли в каком-то еще эмигрантском листке: «третью волну» можно рассматривать как форму протеста против застоя и порожденных им экономических тягот, против коррупции, беспринципности, а равно против ползучего антисемитизма, который нет-нет да и высовывался из статеек и анкет. Спорить не о чем, все это, увы, имело место. Но убедительна ли эмиграция как форма протеста – вот вопрос. И еще больший вопрос, не конструируется ли подобная схема как версия для оправдания задним числом…
Беды и вины эмиграции нерасторжимы, сами эмигранты знают это никак не хуже меня. Однако есть за ними вина, о которой они упорно не догадываются, а подскажешь – не верят. Даже реэмигранты, вернувшиеся на Родину после долгих странствий и, в общем, склонные к покаянию, бешено упираются, прежде чем под давлением доказательств соглашаются нехотя, что я прав. Для Центрального разведывательного управления «третья волна» служила объектом самого пристального внимания. И не только в том примитивном смысле, что каждого мало-мальски сведущего эмигранта изучали с лупой на предмет данных, представляющих разведывательный интерес. В течение лет десяти, не меньше, по эмигрантам судили о глубинных процессах, происходящих в советском обществе, о его «болевых точках», а соответственно и о том, куда и как нацеливать прямые и косвенные удары.
Правда, профессиональный состав и интеллектуальный потенциал эмиграции, по мнению ЦРУ, оставляли желать лучшего. Таково уж свойство «мифа о загробной жизни», что болеют им далеко не все. «Мало-мальски сведущие» шли среди них наперечет. И нравится это самим эмигрантам или нет, ранит их или нет, но именно на базе длительного изучения «третьей волны» в недрах Лэнгли вызрела идея: пополнить галерею «беглецов с Востока» искусственно, повысить «качество эмиграции» принудительным порядком.
Рассуждали примерно так. Почему не уезжают те, кто мог бы пригодиться на Западе всерьез? Очень просто – потому, что не пускают. А если пускают, то ненадолго и без семьи. Может, кто-то и хотел бы остаться, да не решается. Значит, надо слегка «помочь», а разлуку с семьей компенсировать материальными благами, уровнем комфорта, солидным банковским счетом. Если выяснится, что человек действительно сильно привязан к родным и близким, то почему бы не поддерживать их деньгами и посылками отсюда? А какое-то время спустя можно и шум поднять о семейном воссоединении – в Москве такого шума не любят, прислушаются. Даже если успехом увенчается одна попытка из двух-трех, овчинка выделки стоит…
В 1982 году ЦРУ разработало и разослало своим доверенным по всему земному шару директиву под выразительным заголовком «Программа организации побегов на Запад». (Существовал, по-видимому, и более ранний документ сходного характера, но этот стал достоянием гласности.) В директиве были даны подробные указания о «развертывании специальных операций по невозвращению на родину граждан социалистических стран». Рекомендовалось использовать в этих целях полный джентльменский набор «традиционных и нетрадиционных» средств и методов: целенаправленный подбор пропагандистских материалов, подкуп, лесть, шантаж, а «в определенных условиях» и неприкрытое насилие.
В 1983 году в Вашингтоне была основана якобы на частные пожертвования, а на деле под контролем ЦРУ (впрочем, одно не исключает другого) контора особого назначения – «Джеймстаун фаундейшн». Основана с задачей – принимать и обрабатывать тех, кого удалось отловить в соответствии с «программой организации побегов», держать их под неусыпным контролем, вымогая у измученных людей просьбу о предоставлении «политического убежища», а в случае удачи устраивать жертвам рекламу и помогать им по крайней мере на первых порах. Американские журналисты прозвали эту контору, в традициях черного юмора, «палатой реанимации».
В 1986 году Ионе Андронову, ныне корреспонденту «ЛГ» в Америке, удалось коротко побеседовать с вице-президентом «Джеймстаун фаундейшн» Барбарой Эббот. Поинтересовался он, в частности, и смыслом прозвища. Действительно, при чем тут реанимация и отчего палата?
– Очевидно, оттого, – ответила миссис Эббот, – что нашу организацию можно сравнить с госпиталем, где хирурги, завершив работу над пациентом, отправляют его из операционной в такую палату.
– С той разницей, – парировал Андронов, – что ваши, так сказать, реаниматоры обрабатывают попавших к вам отнюдь не по болезни. Сколько же вам на это ассигновано?
– Мы не скрываем свой годовой бюджет – 750 тысяч долларов.
– И сколько человек вы уже подвергли подобной реанимации?
– Дюжины полторы…
Слукавила миссис Эббот, назвала лишь расходы на содержание аппарата своей конторы. На каждого «успешно обработанного» смета составляется отдельно.
А не был ли я сам, спрошу кстати, «подопечным» миссис Эббот, пациентом ее «палаты»? Не знаю. Возможно. Отель «Гест куотерс», где меня поселили в Вашингтоне, расположен на той же Нью-Гэмпшир-авеню, что и штаб-квартира «Джеймстаун фаундейшн». Это факт. И вроде я смутно помню описанный Андроновым серый четырехэтажный особняк с лепниной на фасаде и с окнами, спрятанными за железными прутьями. Вроде был такой особняк совсем неподалеку от отеля. А что отсюда следует, сам не пойму. Как обмолвился однажды мой главный английский «опекун» Джеймс Уэстолл, случайные совпадения в мире секретных служб бывают, но их еще надо устроить…
Об эмиграции как явлении мы с Уэстоллом почти не говорили. Зато «миф о загробной жизни» обсуждали не раз. Тут нет противоречия. Юмор плохо пересекает границы, Ильфа и Петрова «опекуны» не читали. Но в миф, формулируя его по-своему, верили свято. Верили, что против материальной культуры Запада никакой идеологии, никаким убеждениям не устоять.
Я честно предупреждал в начале главы, что эта тема полна парадоксов. Самый неприятный в том, что эпоха Брежнева с ее двоемыслием и цинизмом, переизбытком лозунгов и информационным голодом «работала» на миф круче и последовательнее, чем эпоха Сталина, скованная страхом. Если автомобиль или видеосистема престижной западной марки становились мерилом жизненного успеха, самодовлеющей целью, то отсюда, собственно, было рукой подать до эмиграции, лишь бы повод нашелся.
Ну а как же быть дальше? Та эпоха миновала – теперь как? Думаю, что парадокс гасится парадоксом. «Миф о загробной жизни» умрет, и довольно скоро, если… не мешать ему умереть.
И речь вовсе не о том, чтобы «жигуленок» сравнялся по своим достоинствам с «мерседесом», а уровень жизни советского инженера приблизился к Рокфеллеру, Меллону или тому же Голдсмиту. Этого в обозримом будущем не произойдет. Но может и должно произойти другое: люди должны начать ездить за границу. Совершенно свободно. По делам и на отдых, учиться и просто за впечатлениями. Встречаться и общаться с другими людьми, живущими иначе. Сопоставлять не только цены, но и ценности. Открытого сопоставления мифу не выдержать, он обречен.
Обречена ли вместе с ним и непрошеная «благотворительная деятельность» ЦРУ и прочих спецслужб? Как ни удивительно (еще один парадокс!), тоже обречена, хоть и не сразу. А впрочем, свои соображения на сей счет я, пожалуй, приберегу для эпилога.
СНОВА ЛОНДОН. ЧЕМ ТОРГУЮТ В «ДОМЕ БЕЛЬЯ»
Солидный дом на солидной улице: № 162–168 по Риджент-стрит. У подъезда надпись, сохранившаяся, видимо, с викторианских времен: «Дом белья». Знали бы лондонцы, каким грязным бельем торгуют нынче под этой вывеской!
Третий этаж. Безлюдный кондиционированный коридор, двери без табличек. Здесь разместился крупный антисоветский центр, известный в печати под вывеской «Лондонский институт по изучению локальных и международных конфликтов». Заправляет центром – простите, институтом – кадровый разведчик и публицист крайне правого толка, биограф Франко и Чан Кайши Брайан Крозье.
По совместительству Крозье уполномочен блюсти на Британских островах интересы магната, принимавшего меня за океаном. Может, не все интересы и не всякие, но интересы политические – безусловно.
Лет пять назад дружная эта пара Голдсмит – Крозье пошла в наступление на британский журнальный рынок, затеяв выпуск многокрасочного еженедельника «Нау!». Голдсмит взял на себя роль издателя, Крозье – ведущего публициста. Предприятие лопнуло: утробной ненависти к социализму – единственного принципа, положенного в основу издания, – оказалось на поверку маловато. Подозреваю, что британская публика уже и не помнит, как этот еженедельник выглядел и о чем писал, но в архиве «Литературной газеты» несколько номеров сохранилось. Что и дает мне возможность показать вам Брайана Крозье в профиль и анфас. И на портрете и в публичных высказываниях.
Только не подумайте, что он и в жизни эдакий кинокрасавец с выпирающим подбородком. Польстили мистеру Крозье фотограф с ретушером: если он и выглядел так, то давно. Теперь он обрюзг, полысел, примкнул к вегетарианцам. Хотя в писаниях своих умеренностью по-прежнему не отличается.
Из современных политических фигур мистеру Крозье всего милее, он не скрывает, чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Пожалуй, диктатор вправе рассчитывать, что со временем из-под пера Крозье выйдет его полновесная биография. Хорошая бумага, высокое качество полиграфического исполнения гарантируются. За высокое качество мысли и аргументации ручаться труднее.
Ну какие, в самом деле, можно изыскать аргументы, чтобы оправдать, более того, восславить кровавую диктатуру, ставшую во всем мире символом террора и беззакония? Вот, полюбуйтесь: «Если вы сохраняете за собой право, – вещает Крозье, – сменить нанимателя, купить и продать дом, жениться или выйти замуж по своему выбору, свободно выехать из страны и вернуться в нее, тогда многие из наиболее важных свобод не обязательно записывать на бумаге.
Вы можете сделать все это в Чили (как в свое время в Испании при Франко), но вы лишены таких прав в России. И это делает диктатуру Пиночета авторитарной, но не тоталитарной – два понятия, во многом противоположных друг другу».
Иначе говоря, Пиночет терпим уже потому, что Советы завсегда хуже. Знакомая логика! Именно так оправдывали Гитлера в пору Мюнхенского сговора. Именно так – Муссолини и Франко (что Крозье и демонстрирует наглядно). Именно так – парагвайского диктатора Стресснера и никарагуанского Сомосу…
И не стоило бы останавливаться на этой выдержке, не стоило бы переводить ее, тысячу раз читанную в разные годы за разными подписями, если бы Крозье был рядовым сотрудником центра, а не его директором. Если бы не приплел сюда еще и права человека и не продемонстрировал с подкупающей четкостью технологию этого столь популярного в недавнем прошлом вранья.
Вранья взаимного и, что еще печальнее, сплошь и рядом – сознательного. Включая вышеприведенный случай. Не может в конце XX века образованный человек (а что Крозье принадлежит к таковым, сомнений нет) чистосердечно верить, что советские люди «женятся или выходят замуж» не иначе как по решению партячейки. Полагалось бы ему догадываться, что права мало декларировать, их надо обеспечить в масштабах общества. Полагалось бы, наконец, понимать, что диктатура фашистского типа отнимает у человека главное право – право на жизнь, и толковать о каких-либо иных правах применительно к Чили просто не имеет смысла.
А вот еще пример посвежее. В конце 1986 года в парижском «Экспрессе» Брайан Крозье выступил с сенсационным заявлением: оказывается, вот уже четверть века Советский Союз в соответствии с разработанным в Москве коварным планом травит Запад наркотиками, дабы – цитата – «ослабить нашу мораль и мускулы». Каков бред? Доказательства, разумеется, отсутствуют, да и какие могут быть доказательства, когда задуман новый сеанс черного политического вранья?
Однако ближе к делу. Я-то зачем понадобился на Риджент-стрит? Зачем меня разыскали и настойчиво, безотлагательно зазвали в кабинет директора?
Гадать долго не пришлось. В выражениях энергичных и недвусмысленных – от имени и по поручению сэра Джеймса – мне было велено изучить номер журнала «Шпигель» от 21 мая. (Фактически номер вышел из печати на неделю раньше, так что к моменту нашей встречи Голдсмит наверняка знал о нем, только не снизошел до объяснений.) В номере напечатана статья о ходе следствия по делу о римском покушении – мне как «эксперту» предлагалось доказать, что статья текстуально совпадает с публикациями «Литературной газеты», а следовательно, «вдохновлена теми же целями и теми же организациями».
Сразу скажу, «доказать» такое можно было разве что в кавычках, с грубейшими передержками. Статья оказалась совершенно самостоятельной и к тому же далеко не бесспорной. Общее с репортажами «По волчьему следу» было одно, зато принципиально важное: автор стремился к объективности. Он высмеивал Стерлинг и Хенци, называл их возлюбленный «болгарский след» мнимым. Он заново перечислил вопиющие противоречия в показаниях Агджи, привел высказывание защитника Сергея Антонова профессора Консоло: «Они вынуждены будут его оправдать, поскольку против него нет ни одной веской улики». Он даже дерзнул отозваться саркастически о ЦРУ!
Немудрено, что в центрах спецслужб статья вызвала бешенство, и неудивительно, что Голдсмит решил использовать ее как свежий довод в своей тяжбе с журналом. Занимает иное: неужели можно было рассчитывать на заведомо липовые «доводы» и «доказательства» как на юридически весомые? Очевидно, да – с учетом пристрастности судей: «эксперту» поверили бы на слово и заново сличать разноязычные тексты не стали бы.
– Задание понятно? – спросил Крозье.
– Понятно. Но с чего вы взяли, что я его приму?
Он отчетливо опешил.
– Вы виделись с сэром Джеймсом в Нью-Йорке?
– Виделся.
– Так в чем же дело?
А правда, что я мог и как должен был ответить? Безоговорочное честное «нет» отпадало, это ясно. Не для того я барахтался в сетях психотропного плена, продирался сквозь заведомо более опасные трюки ЦРУ, не для того возвращался в Европу, удерживал и удержал «дорожный документ», чтобы споткнуться на каком-то Крозье. Первые мои реплики сложились почти автоматически – потянуть время, по возможности прощупать собеседника, навык накопился уже изрядный. Теперь требовалась более определенная реакция. Какая? Попробую-ка наудачу:
– Сперва я должен завершить то, что предусмотрено по контракту с «Ридерс дайджест»…
Самое смешное, что не предусматривалось ровно ничего. Никакого контракта не было. Откликаясь на предложение Паницы выступить в «Ридерс», полупровоцируя его на это предложение, я имел в виду конкретную задачу – выцарапать у «опекунов» под этим предлогом нужный мне документ. Я был готов к тому, что в Америке меня посадят за стол и заставят писать, даже парочку тем заготовил таких, чтобы не в ущерб Родине. В молодые годы я немало поездил по самым дальним ее уголкам, бывал в местах, с точки зрения американцев, совершенно экзотических. Почему бы, например, не сочинить эссе под заголовком, в меру вызывающим, в меру завлекательным: «А я люблю Сибирь!..».
Давно излеченный от остатков наивности, я отдавал себе отчет в том, что любую мою строку, о чем бы я ни писал, постараются при «многоступенчатом», по выражению Паницы, редактировании вывернуть наизнанку, окрасить в антисоветские тона. Риск просматривался без Увеличительного стекла, но я считал его оправданным. Пока еще раскачаются, включат рукопись в план, поведут ее по ступенькам редактуры, плюс большой производственный срок… Я успею, я должен успеть!
Так я думал перед поездкой в Америку. Того, что писать не придется вообще, что «Ридерс» ограничится ролью ширмы и перепродаст меня Голдсмиту и Кº на корню, что игра пойдет куда крупнее какой-то отдельно взятой статьи, – не предвидел.
Но Крозье ведь тоже не видел всей картины целиком! Он не знал, что я не заключал контракта с «Ридерс». Его не уведомили о том, чего не было, и он растерялся.
Это начало замечаться еще весной: по мере усложнения интриги в нее вовлекалось все больше новых лиц, и новички все чаще оказывались посвящены лишь в крошечную часть целого. Как бы ни уверяли руководящие джеймсы бонды меня и себя, что не признают законов, одна закономерность выявлялась все откровеннее. В ней, собственно, нет ничего специфически западного, она свойственна всем громоздким и в особенности военнобюрократическим организациям, и спецслужбы не составляют исключения. Каждый вниз по иерархии информирован все хуже, ему сообщают лишь абсолютный минимум, без которого ему не обойтись, и об истинном размахе и целях операции он частенько знает не больше случайного прохожего.
Крозье, разумеется, не был рядовым исполнителем, но его «подключили» только после моей поездки в Америку. Он не знал, а скорее всего и не интересовался, что было до нее. Ручаюсь, всем накопленным тяжелым опытом ручаюсь, что про Венецию, Брайтон, позолоченную клетку на Редклиф-сквер и многое другое он впервые услышал не раньше, чем я выступил на пресс-конференции в Москве.
Экспромт насчет якобы заключенного с «Ридерс дайджест» контракта получился на редкость удачным. И не столь рискованным, как может почудиться на первый взгляд. Крозье был не в силах меня проверить. У кого проверять? У Голдсмита? Тот бы пришел в ярость, что его посмели беспокоить по таким пустякам. У начальства в «Интеллидженс сервис»? А начальство пожало бы плечами: ну решили американцы по каким-то своим соображениям связать меня контрактом, и что тут страшного?
Раздражать Лэнгли специальным запросом по этому поводу?
Экспромт был непротиворечивым и труднопроверяемым. На самый крайний случай у меня всегда оставалась возможность утверждать, что я просто чего-то недопонял. Не потребовалось – Крозье принял мои слова за чистую монету.
– Уж не собираетесь ли вы снова лететь в Штаты?
– Нет, зачем же, – отозвался я как мог спокойнее. – Париж гораздо ближе. В главной редакции «Ридерс» я уже побывал, обо всем договорился. Когда закончу работу, сдам ее в европейское бюро журнала в Париже. После этого, – добавил я, – можно будет подумать и о вашем задании. Если вас устраивает отсрочка в две-три недели…
У него, похоже, отлегло от сердца. Порядка ради он сделал вид, что обдумывает, потом согласился:
– Хорошо. Две-три недели мы еще подождем. Но вы должны обещать, что в дальнейшем не будете принимать на себя новых обязательств, не посоветовавшись предварительно с нами. Мы не станем ограничивать вашу деятельность, в том числе и литературную, это не в наших интересах. Однако к нашим заданиям следует впредь относиться как к приоритетным. А чтобы это условие не показалось вам обременительным, сэр Джеймс поручил мне предложить вам жалованье в размере двух тысяч фунтов в месяц…
Надо же, подумал я. Видно, приперло вас: цены растут, как на аукционе. Вслух я произнес другое и помедлив:
– Сэр Джеймс называл мне более впечатляющие цифры…
– Они также остаются в силе. Сэр Джеймс говорил о разовых суммах, о премиях за каждое убедительно выполненное задание, а я предлагаю вам регулярное жалованье. Начиная прямо с сегодняшнего дня.
– Вы что, хотите, чтобы я ходил сюда, как на работу?
Я догадывался, каков будет ответ, если не в деталях, то в принципе. Вопрос преследовал двоякую цель: как бы поторговаться еще чуток, косвенным образом, и окончательно успокоить Крозье, внушить ему самодовольную уверенность, что вот сейчас он меня «дожмет». Он клюнул на приманку, не мог не клюнуть: весь опыт служения голдсмитам, весь опыт собственной жизни убеждали его в том, что продается и покупается всё, была бы цена подходящей.








