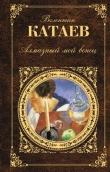Текст книги "В лабиринтах романа-загадки"
Автор книги: Олег Лекманов
Соавторы: Мария Котова
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
– Два года; минимум. Вот-с выполните эту программу – тогда мы с вами поговорим.
Да. Еще одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. Он преклоняется перед золотом! Купите себе, ну, скажем, десять десяток. Тогда с вами можно будет поговорить даже… о сестре. Он уверен, что это невыполнимо» (БЭ. С. 53). Ср. также у Ю. Слезкина: «Был Булгаков стеснен в средствах, сутулился, подымал глаза к небу, воздевал руки, говорил: „Когда же это кончится!“, припрятывал „золотые“. Рекомендовал делать то же» (Цит. по: Чудакова 1988. С. 149).
239. …С бодрыми восклицаниями <…> мы вошли в двери казино <…>
Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. – То есть – о максимальной ставке, когда фишками одного игрока заполняется шестиклеточная горизонталь рулетки.
240. Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого зловещего зеро Помгол – Комиссия помощи голодающим Поволжья – и содержал свои рулетки. – Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК была создана декретом ВЦИК от 18.7.1921 в связи с неурожаем в Поволжье, где голодало 30 млн. чел. Основными задачами Помгола были: выяснение размеров голода, изыскание средств для борьбы с ним и переселение жителей пострадавших районов. Председателем Комиссии был М. И. Калинин. Центральные и местные комиссии Помгола были упразднены 15.10.1922 согласно постановлению ВЦИК от 7.9.1922.
241. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. – Ср. в рассказе «Медь…»: «Беленький шарик с сухим треском ринулся по краю деревянного бассейна, по красным и черным цифрам <…> У меня ставка на „чет“. Выпадает „чет“. Удваиваю и ставлю на вторую дюжину. Выиграл. Трансверсаль. Выиграл. Долго везти не может, и все в жизни имеет конец. Я это знаю. В последний раз. На цифру. Не помню, на какую. Но золото у меня должно быть: десять десяток. Сегодня. Плещет бассейн рулетки, и пощелкивает шарик. Стоп. Моя цифра выиграла. Достаточно. У меня в руках куча денег и фишек». (БЭ. С. 55). Ср. также в воспоминаниях К., записанных М. О. Чудаковой: «Однажды я выиграл б золотых десяток… Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный… Цвета маренго… Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеется.) Ну ничего, я носил свитер! Мы мало придавали этому значения… А ему <Булгакову. – Коммент.> все это было важно. Разное отношение наше к этому – это была разная возрастная психология» (Чудакова 1988. С. 214). Ср., однако, в мемуарах Н. Я. Мандельштам о 1930-х гг.: «„Я люблю модерн“, – зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег» (Воспоминания. С. 296).
242. Мы <с синеглазкой> уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным, пустынным залам музеев западной живописи (Морозова и Щукина). – Нынешнее здание Академии художеств на Пречистенке (д. № 21) было куплено в 1890-х гг. купцом И. А. Морозовым, который в начале следующего века начал приобретать произведения западноевропейской живописи. В коллекции Морозова были полотна Гогена, Матисса, Сезанна, Ван Гога, Боннара и др.; в русской части собрания (около 300 работ) были представлены Левитан, Коровин, Врубель и др. После Октября 1917 г. коллекция была национализирована и превращена во Второй музей нового западного искусства. Великолепную коллекцию новой французской живописи собрал в своем доме в Бол. Знаменском переулке (ныне – ул. Грицевецкая, д. 8) и С. И. Щукин. Ему удалось приобрести произведения Моне, Гогена, Матисса, Пикассо и других выдающихся живописцев. В 1918 г. собрание Щукина было объявлено Первым музеем нового западного искусства. В 1929 г. щукинское собрание было переведено на ул. Кропоткинскую (бывшая Пречистенка) в д. 21 – объединено с морозовской коллекцией. В 1947 г. музей был расформирован, часть его фондов была отправлена в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, часть – в ленинградский «Эрмитаж».
243. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мери Пикфорд. – Ср. в ст-нии К. «В кино» (1923): «В фойе ресниц дул голубой сквозняк: // Сквозь лелины развеерены Мери. // Но первый кто из чьих ресниц возник – // Покрыто мраком двух последних серий» (Цит. по: Катаев В. П. Собр. соч.: В 10-ти тт. Т. 10. М., 1986. С. 649).
244. Мы смотрели в Театре оперетты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски <…>
…и мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина. – Ср. в рассказе «Медь…»: «Вот там стоял <К. – Коммент.> и читал стихи. Затем опера. „Гугеноты“ с плохим ансамблем» (БЭ. С. 49). Жених из Киева также упоминается в рассказе К.: «Она не может не уехать. Дома ее ждут. Ждут родные, ждут словари, ждет мальчик, обещавший застрелиться, если она не приедет» (БЭ. С. 46). Отметим, что в начале 1920-х гг. было как минимум два коллектива, носивших название «театр оперетты». 1-й – Театр оперетты на Бол. Дмитровке в д. 17 (в помещении известного до революции кабаре «Максим», устроителем которого был известный антрепренер, «московский мулат» Томас). В труппе этого театра, в частности, выступал Г. Ярон. Второй театр оперетты «Эрмитаж» – работал в одноименном саду, в Каретном ряду (в труппу этого театра входил Л. Утесов). Оперная труппа С. Зимина давала спектакли в д. 6 на Большой Дмитровке, построенном в 1894 г. арх. К. Терским для частного театра купца Г. Солодовникова. С 1896 по 1904 гг. на этой сцене можно было видеть представления оперы Саввы Мамонтова. Затем она перешла в руки третьего частного театрального коллектива – оперы С. Зимина. После Октября 1917 г. «театр акционерного общества С. И. Зимина» (именно так он назван в справочнике «Вся Москва» на 1923 г.) продолжал некоторое время работать там же, где и раньше – в доме № 6 на Большой Дмитровке. Сейчас в этом здании – московский Театр оперетты.
245. …и в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке: «Голова к голове и к плечу плечо <…> А над темным партером повис балкон и барьер), навалясь, повис <…> „До свиданья: я буду в шесть“…» – К. без ошибок цитирует свое ст-ние «Опера» (1923).
246. Из всех этих строф, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, щелкунчик признал достойной внимания только одну-единственную строчку: «…и барьер, навалясь, повис…» Остальное же с учтивым презрением он отверг, сказав, что это – вне литературы. – Ср. с позднейшим признанием К.: «Мандельштам браковал все, что я написал, но находил одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой» (Цит. по: Панкин Б. На грани стихий // Новый мир. 1986. № 8. С. 250).
247. …Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25. – Где О. Мандельштам проживал с апреля 1922 по начало октября 1923 гг.
248. Как раз в это время он <Мандельштам> диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову». – Которое было написано в 1923 г.
249. …он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. – Ср. в мемуарах художника В. А. Милашевского: «„Верблюдик“ – назвал его <Мандельштама. – Коммент.> один из наших писателей <К. – Коммент.>, который не всегда, но иногда бывает метким. Не „верблюд“ – это совсем не смешно, а вот „верблюдик“ – забавно» (Милашевский В. А. Мандельштам / Публ. В. Д. Добромирова // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 94). Ср. также в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам: «В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: „Как он держал голову – совсем, как О. Э.“» (Воспоминания. С. 299).
250. …щелкунчик <…> продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмеистическими завываниями. – Ср. в дневниковой записи Ал. Блока от 22.10.1920 г.: «Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание» (Блок А. А. Дневник. М., 1989. С.304).
251. …свой благородный груз… – Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк.
Это была его манера писания вместе с женой. – Ср. в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам: «…требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала <…> Окончательные тексты обычно записывались мной под диктовку» (Вторая книга. С. 164, 388).
252. …даже письма знакомым, например мне, из Воронежа. – Письма О. Мандельштама К. из Воронежа (где поэт отбывал ссылку с конца июня 1934 г. по середину мая 1937 г.), по-видимому, не сохранились.
253. Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть: «…И военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес <…> И с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил…» – Из ст-ния О. Мандельштама «Ветер нам утешенье принес…» (1922).
254. Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, в смертельное оцепенение, в предчувствие неизбежной мировой катастрофы…
Но нет! Тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Стансы: «Холодок щекочет темя <…> Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб». – Полностью цитируется ст-ние О. Мандельштама 1922 г.
255. Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, «гуляки праздного». – Цитата из пушкинского «Моцарта и Сальери», начинающая «моцартовскую» тему «АМВ».
256. …с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка и по кругу как заводные резали лед конькобежцы с развевающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп. – Ср. в «Меди…»: «И простудился я на Патриарших Прудах, возле десятого дерева с краю, если считать от грелки, откуда выбегают косые конькобежцы. Меня продуло парадным ветром оркестра, этой медной отдышкой труб, тарелок и барабана. Это случилось вчера <…> Прохожу мимо десятого дерева с краю, мимо единственной в мире колючей проволоки <…> Возле него она сказала мне – люблю. За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колючей проволоки, у черного деревца „люблю“» (БЭ. С. 41, 44). См. также ст-ние К. «Каток» (1923): «В атаку, конькобежцы! // Раскраивайте звезды по небу // Пускай „норвежками“ раскосыми // Исполосован в свист каток! // <…> // Над Чистыми и Патриаршими // Фаланги шарфов взяты в плен. // – Позвольте, я возьму вас об руку. // Ура! Мы в огненном кольце! // Громите фланг. // Воруйте маршами // Без исключенья всех Елен!» (Цит. по: Катаев В. П. Собр. соч.: В 10-ти тт. Т. 10. С. 645).
257. …с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала; <…> с ничем не объяснимым разрывом – сжиганием пачек писем, слезами, смехом, – как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только «все или ничего».
– Ср. в рассказе «Медь…»: «– Не отпускай меня, – говорила она, и снег налипал на ее ресницы. – Зачем ты отпускаешь меня? Что без тебя я буду делать?
Но вокзал уже грозил циферблатом, поезда уже кричали в метели, и бляхи носильщиков гремели номерами, как щиты героев. Билет был прострелен навылет, и никакая сила в мире не могла заставить его выжить.
– Зачем ты меня отпускаешь? – спросила она на площадке вагона, когда уже дважды прозвонил колокол. – Увези меня отсюда к себе. Я не могу без тебя жить. Ты потеряешь меня.
Я молчал. Я знал, почему ее отпускаю. Мне нужна была любовь на всю жизнь. Или – к чорту! На меньшее я был не согласен. Весной она приедет, и уже все время мы будем вместе. Проклятая жадность. Все или ничего» (БЭ. С. 47). Ср., однако, в мемуарной заметке дочери Елены Афанасьевны Булгаковой: «Факт знакомства с В. П. Катаевым раздут до невероятных размеров. А спрашивал ли кто-либо саму Елену Афанасьевну, как она относится к этому знакомству? Если бы Валентин Петрович Катаев не был писателем, встреча с которым „престижна“ <…>, то этот эпизод жизни Лели не был бы даже упомянут» (Светлаева. С. 223). Современное здание Брянского вокзала (с 1934 г. – Киевский вокзал) было возведено в 1913–1917 гг. по проекту арх. И. Рерберга. Вокзал выстроен в модном в начале XX в. неоклассическом стиле.
258. …с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма. – Герой рассказа «Медь…» приехал в Киев к Леле, где и сжег свои письма к ней, а Леля сожгла свои письма к герою. В Киеве же они навсегда расстаются – Леля отказывает герою рассказа. Ср. также в ст-нии К. «Разрыв» (1923): «Затвор-заслонка, пальцы пачкай! // Пожар и сажа, вечно снись им. // Мы заряжали печку пачкой // Прочитанных, ненужных писем» (Цит. по: Катаев В. П. Собр. соч.: В 10-ти тт. Т. 10. С. 646) и во все той же «Меди…»:
«– Кстати, о печке: вот ваши письма. Их четыре, они всегда со мной. Два любимые, старые. Два – новые, в цветных отвратительных конвертах, лживые и колеблющиеся. Кроме того, случайная записка и вязаная перчатка с левой руки, которую я клал себе под подушку, ложась спать.
– Возьмите свои игрушки и отдайте мне мои.
Она, не глядя, выдвигает ящик стола.
Заслонка открывается как затвор Гаубицы и глотает пачки заряда, огонь гудит в колене трубы. Она опускает ресницы. Ну, вот и все» (БЭ. С. 60).
259. …и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки. – Ср. в ст-нии К. «Киев»: «Я взорвать обещался тебя и твои словари, // И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев. // Я взорвать обещался. Зарвался, заврался, не смог» (Цит. по: Катаев В. П. Собр. соч.: В 10-и тт. Т. 10. М., 1986. С. 646). В апреле 1923 г. К. женился на Анне Сергеевне Коваленко. Летом 1924 г. Е. А. Булгакова окончила Киевский институт народного образования и переехала в Москву, поселившись у Н. А. Земской. (См.: Светлаева. С. 221). В Москве Леля Булгакова познакомилась с другом мужа НА. Земской Михаилом Васильевичем Светлаевым, за которого 4.02.1925 г. вышла замуж (Светлаева. С. 226). Остается невыясненным, летом какого года К. мог встречаться с Лелей и гулять с ней по Москве, учитывая, что ко времени ее приезда в Москву в 1924 г. он был женат уже несколько месяцев. Возможно, отрывок о пионерах и летних прогулках с Лелей был целиком вымышлен К.
260. Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик». «…Он подает куда как скупо свой воробьиный холодок <…> как будто холода рассадник открылся в лапчатой Москве…» – Ст-ние О. Мандельштама 1922 г., полностью цитируемое К.
261. Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи <…> мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской. – Точный адрес этого учреждения был: Сретенский бульвар, д. 6, 4-й подъезд, 2 эт. Портрет Н. К. Крупской (1869–1939) см. также в очерке К. и Л. В. Никулина «Крупская на трибуне»: «Мы увидели впервые Надежду Константиновну на трибуне, и ее человеческий облик был в тысячу раз замечательнее, чем тот монументальный, который мы себе представляли <…> Речь Крупской не суха, не дидактична, у нее есть самые теплые, можно сказать лирические ноты в голосе <…> соратница Ленина живет и работает в дни осуществления его великих идей, тех идей, которые в наши дни воплощаются в жизнь лучшим учеником Ленина т. И. В. Сталиным» (Катаев В., Никулин Л. Крупская на трибуне // Известия. 1934. 8 марта. С. 3).
262. Он был преувеличенного мнения о своей известности и, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление, в то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой «знаменитый акмеист». – Ср. в мемуарах С. И. Липкина: «Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе» (Липкин С. И. Угль, пылающий огнем // Литературное обозрение. 1987. № 12. С. 99) и Э. Г. Герштейн: Мандельштам «внезапно остановился, пораженный догадкой: „А вы читали мои стихи?“ – „Нет“. Он рассердился ужасно. <…> – „Но, кажется, только что вышла ваша книга?“ – растерялась я. „Там нет новых стихов!! Я уже много лет их не пишу. Пишу… написал… прозу…“ – гневно кричал Мандельштам и, задыхаясь от раздражения, бросил меня одну на пустынной аллее» (Герштейн. С. 10).
263. Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него <…> бутылку телиани – грузинского вина, некогда воспетого щелкунчиком. – В ст-нии «Мне Тифлис горбатый снится…» (1920): «Если спросишь „Телиани“ – // Поплывет Тифлис в тумане».
264. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно. – Жанр крыловской басни О. Мандельштам позднее пародийно стилизовал в своих «дурацких баснях» (авторское определение). Например: «Однажды из далекого кишлака // Пришел дехканин в кооператив, // Чтобы купить себе презерватив. // Откуда ни возьмись, мулла-собака, // Его нахально вдруг опередив, // Купил товар и был таков. Однако!» Ср. с шуточным ст-нием самого К. 1928 г., помещенным в стеклографированной малотиражной брошюре, составленной Алексеем Крученых: «Граждане, запомните! // Не сидите в комнате, // Не пейте аперитив, // Ходите в кооператив // Историю опередив» (Литературные шушу(т)ки. Литературные секреты. М., 1928. С. 8).
265. Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что «…есть разных хитростей у человека много и жажда денег их влечет к себе, как вол…» Он призадумался <…>
И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу: – Кулак Пахом, чтоб не платить налога… – Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: – Наложницу <выделено К. – Коммент.> себе завел! – В записи О. Мандельштама или Н. Я. Мандельштам этот текст не сохранился. Доверие, с которым составители и комментаторы мандельштамовских сочинений в данном случае отнеслись к К., публикуя приведенное четверостишие в качестве шуточного ст-ния Мандельштама (См., например: Мандельштам О. Э. Полн. собр. стихотв. СПб., 1995. С. 372), представляется чрезмерным.
266. …и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой. – Ср. в ст-нии О. Мандельштама «Ахматова» (1914): «Спадая с плеч, окаменела // Ложноклассическая шаль».
267. Многое ушло навсегда из памяти, но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды – и он это видел собственными глазами – мы с ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса, а может быть, и какого-то культотдела – уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в те времена был еще не Киев, а Харьков. – К., без сомнения, имеет в виду мемуарную книгу Эмилия Миндлина «Необыкновенные собеседники», фрагмент которой автор «АМВ», в комментируемом эпизоде, по обыкновению, «творчески переосмысливает». Миндлин сначала вспоминает о своем знакомстве с К. и Ю. Олешей в Харькове: «Один – повыше и почернее, был в мятой шляпе, другой – пониже, с твердым крутым подбородком, вовсе без головного убора. Оба в поношенных костюмах бродяг, и оба в деревянных сандалиях на босу ногу <…> Тот, что повыше, оказался Валентином Катаевым, другой – Юрием Олешей» (Миндлин. С. 159). Затем мемуарист переехал в Москву: «Зимой 1922 года я снова встретился со своими странными харьковскими знакомыми – Катаевым и Олешей. К этому времени я уже был секретарем „Накануне“. Как ни убого выглядели наши, молодых „наканунцев“, наряды, однажды появившиеся у нас Катаев и Олеша вызывающей скромностью своих одеяний смутили даже нашего брата. Не знаю, приехали ли они из Харькова поездом или пришли пешком, но верхнее платье на них выглядело еще печальнее, чем в Харькове! А ведь и в Харькове они походили на бездомных бродяг! Наш заведующий конторой редакции возмутился появлением в респектабельной редакции двух подозрительных неизвестных.
– Вам что? Вы куда? – Полами распахнутой шубы он было преградил им дорогу. Но маленький небритый бродяга в каком-то истертом до дыр пальтеце царственным жестом отстранил его и горделиво ступил на синее сукно, покрывавшее пол огромного помещения» (Там же. С. 160–161).
268. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы. – Ср. со свидетельством Л. Г. Суок-Багрицкой о том, что ее муж «ходил в казенной рубашке с большим штампом на груди» (Спивак. С. 182).
269. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли на штате в центральном республиканском учреждении Югроста, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде. – Ср. со свидетельством О. Г. Суок-Олеши, относящимся к более раннему, «одесскому» периоду биографии Ю. Олеши, К. и Э. Багрицкого: «Все трое (Катаев, Олеша, Багрицкий) ходили очень „экстравагантно“ одетыми, под босяков <…> Все трое: Багрицкий, Олеша и Катаев – пользовались академическими пайками» (Спивак. С. 98).
270. Просто было такое время: разруха, холод, отсутствие товаров, а главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. – Мотив голода возникает в одной из строф харьковского ст-ния К. «Молодежи», напечатанного под инициалами В. К.: «И вот теперь, когда на нас // Идет неумолимый голод, // Все на работу в добрый час, // Кто сердцем тверд и духом молод» (Коммунист. Харьков, 1921. 2 августа. С. 4). К. служил в Харькове в должности секретаря журнала «Коммунарка Украины». Литературную жизнь города этого периода описал журналист В. Яськов со слов Б. В. Косарева. В частности, Косарев рассказал о своем посещении, вместе с К. и Ю. Олешей, харьковского вечера поэзии В. Маяковского: «…сидели в 6-м ряду <…> Когда Маяковский кончил читать и наклонился, чтобы поднять лежащие на просцениуме записки, Катаев громко сказал: „Маяковский, вы знаете Алексея Чичерина?“ – „Знаю“. – „А он читает ваши стихи лучше, чем вы“. „И тут я не поверил своим глазам, – говорит Б. В.. – Маяковский густо побагровел и как-то беспомощно ответил: „Ну, что ж, я ведь не профессиональный чтец…““» (Яськов Вл. Хлебников. Косарев. Харьков // Волга. 1999. № 11. С. 119). Восторженное описание этого вечера и чтения Маяковским стихов содержится в ТЗ. С. 368–371. См. также в мемуарах А. И. Эрлиха, со слов К.: «Однажды в Харькове Маяковский давал свой открытый вечер, читал „Левый марш“, „150 000 000“. Катаев и еще несколько молодых, совсем еще безвестных в ту пору литераторов послали поэту записку. Полная самых пламенных восторгов, она заканчивалась робкими надеждами на встречу <…> ответа на записку не последовало» (Эрлих. С. 187). Ср. также в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам о своем и Осипа Эмильевича знакомстве с К.: «Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший „влипнуть“ и выкрутиться из очень серьезных неприятностей» (Воспоминания. С. 298). Приведем здесь стихотворные экспромты, которыми обменялись К. и Олеша в 1921 г., после временного переезда К. из Харькова в Одессу. Они сохранились в альбоме Г. И. Долинова (ОР РНБ. Ф. 260. Ед. хр. 2. Л. 26).
Экспромт К.:
Покинув надоевший Харьков,
Чтоб поскорей друзей обнять,
Я мчался тыщу верст отхаркав,
И вот – нахаркал здесь в тетрадь.
25/октя<бря> <1>921 Одесса.
Ответ Ю. Олеши:
Прочтя стихи твои с любовью
Скажу я, истину любя, —
От них я скоро харкну кровью,
Иль просто харкну на тебя!
25/окт<ября> <1>921 г.Одесса Ю. О.
271. …мы обычно питались по талонам три раза в день в привилегированной, так называемой вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером опять ту желчную кашу, но только сухую и холодную. – Ср. с описанием обеда главного героя повести К. «Уже написан Вертер» (1979), действие которой разворачивается в Одессе, в начале 1920-х гг.: «Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки спрессованной ячной каши с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое» (Вертер. С. 19).
272. …знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка – забыл ее название. – Харьковская река Лопань.
273. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, раскаленную полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом давно не мытой, пыльной витрины телеграфного агентства выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачовой раме. – Александр Александрович Блок умер 7.08.1921 г.
274. «Во рву некошеном… красивая и молодая… Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе, весна… О доблестях, о подвигах, о славе… Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!.. И Кельна дымные громады… Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Анна видит неземные сны… Дыша духами и туманами… И шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука… Далеко отступило море, и розы оцепили вал. Окна ложные на небе черном и прожектор на древнем дворце; вот проходит она вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице, а вино уж мутит мои взоры, и по жилам оно разлилось; что мне спеть в этот вечер, синьора, что мне спеть, чтоб вам славно спалось… Только странная воцарилась тишина… Отец лежал в Аллее Роз…» Это все написал он, он… – В этот «центон» вошли фрагменты следующих стихотворных произведений Ал. Блока: «На железной дороге» (1910), «Нет имени тебе, мой дальний…» (1906), «О доблестях, о подвигах, о славе…» (1908), «Двенадцать» (1918), «Скифы» (1918), «Шаги Командора» (1910–1912), «Незнакомка» (1906), «Равенна» (1909), «Окна ложные на небе черном…» (1909), «В голубой далекой спаленке…» (1905), «Возмездие» (1910–1921).
275. Нас охватило отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть как конец революции, которая была нашим божеством. Не в духе того времени были слезы. Мы разучились плакать. – Сходное впечатление смерть Ал. Блока произвела едва ли не на всех молодых почитателей русской поэзии начала XX века. Ср., например, в мемуарах Н. Н. Берберовой: «Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. Было воскресенье (и канун дня моего рождения), часа три <…> Я вошла в парадную дверь с улицы <…> И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: „Сегодня, 7 августа, скончался Александр Александрович Блок“. Объявление еще было сырое, его только что наклеили.
Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается… Одни… Это идет конец. Мы пропали… Слезы брызнули из глаз» (Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобиография. М., 2001. С. 154). См. также некрологическую заметку В. Рожицына «Александр Блок», опубликованную в харьковской газете «Коммунист» 11.8.1921 г.
276. Из коридора иногда доносились «…шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор…» – Источник этой цитаты установить не удалось.
277. Но вдруг дверь приоткрылась и в комнату без предварительного стука заглянул высокий красивый молодой человек, одетый в новую, с иголочки красноармейскую форму: гимнастерка с красными суконными «разговорами». – Так на военном жаргоне называли клапаны с прорезанными отверстиями для пуговиц на красноармейской форме.
278. – Разрешите войти? – спросил он, вежливо стукнув каблуками. – Вы, наверное, не туда попали, – тревожно сказал я. – Нет, нет! – воскликнул, вдруг оживившись, ключик. – Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы. Как у Бетховена!
Ключик любил выражаться красиво.
– Вы такой-то? – спросил воин, обращаясь прямо к взъерошенному ключику, и назвал его фамилию. – Ну? – не без тожества заметил ключик. – Что я тебе говорил? Это судьба! – А затем обратился к молодому воину голосом, полным горделивого шляхетского достоинства: – Да. Это я. Чем могу служить? – Я, конечно, очень извиняюсь, – произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату, – но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нила Георгиевича, и я бы очень просил вас… – Виноват, а вы, собственно, кто? Командарм? – прервал его ключик. <…> – одним словом я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны. – Игра на сходстве звучания слов «командарм» и «командор». «Серьезное» оплакивание Ал. Блока неожиданно разрешается бурлескным эпизодом, травестирующим тему блоковских «Шагов Командора» (1910–1912).
279. – Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист, но – антр ну суа дит – в последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. – Между нами говоря (фр.).
280. Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы по глечику жирного молока. – То есть – по кувшинчику.
281. Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски «сидеть на декохте», говорили: – Хоть бы пришел наш дурак. – «Сидеть на декохте» (декокте) – декокт – отвар, медицинское снадобье.
282. Эта забавная история закончилась через много лет, когда ключик сделался уже знаменитым писателем <…> Мы довольно часто ездили (конечно, всегда в международном вагоне!) в свой родной город <…>
Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт. – Речь идет о гостинице «Лондонская», располагающейся в Одессе по адресу: Приморский бульвар, 11.
283. И вот однажды рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака <…>