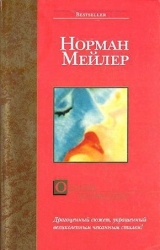
Текст книги "Олений заповедник"
Автор книги: Норман Мейлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Надо держать себя в руках, а не плакать рожденными виски слезами. И все это время, словно ножевая рана, его терзала мысль: «Когда Илена станет вроде Бобби, как к ней будут относиться мужчины?»
Тут он услышал свой голос, крикнувший Бобби ни с того ни с сего – во всяком случае, так казалось:
– Могу я дать тебе денег взаймы?
С того вечера, когда он заключил договор с Колли, он ходил с тысячью долларов в бумажнике. А Бобби, вернувшись в гостиную, недоуменно, чуть ли не настороженно смотрела на него.
– Нет, слушай, – сказал Айтел, погладив ее по щеке, – это я не за что-то плачу, я дам в долг. – И достав бумажник, он вытащил три, потом четыре, потом пять стодолларовых бумажек и вложил ей в руку.
– Да я же никогда не смогу… – взвизгнула она. – Чарли, я никогда не смогу расплатиться с тобой.
– Конечно, сможешь. Не важно, сколько тебе на это понадобится времени. В один прекрасный день тебе повезет, а я обрадуюсь, что на меня свалились деньги в тот момент, когда они мне нужны.
– Но я не понимаю.
Айтел же подумал, бывал ли он когда-либо в жизни столь сентиментален?
– Нет, слушай, – повторил он точно подросток, рассерженный на жизнь, – все это дурно пахнет, понятно? Пусть это будет тебе подарком. Вот как надо поступать. Некоторые люди давали мне куда больше, – невнятно пробормотал он.
Вот теперь он готов был уйти. В эту минуту больше всего на свете ему хотелось оставить позади этот дом, оставить позади настоящее, оставить позади свое скромное чудо.
Но Бобби расчувствовалась. Она не дала ему уйти, а посадила рядом с собой на диван.
Айтел, сияя от своей щедрости, все еще не мог понять, что его на это подвигло. «Какую кучу денег я отвалил, чтобы избежать фиаско», – подумал он, отдаваясь ласкам Бобби. Она действовала лучше, чем прежде, желая потрафить ему, и это неизбежно подвело их к цели вечера. Но гладкого развития событий не получилось, так как она чуть ли не с паническим выражением лица попросила его подождать еще несколько минут, и вид ее тощего мальчишеского тела и неумелые поцелуи благодарности потушили обещание наслаждения, которого он ждал. Затем пришлось выбирать одну из форм наслаждения, которые предлагал Джей-Джей, и при помощи этого, а также соответствующих воспоминаний они добились того, к чему стремились, – он был на высоте и в течение пяти минут, чувствуя пот, проступивший на спине, проступивший на лице, был счастлив и кончил с улыбкой.
Бобби была в исступлении или по крайней мере делала вид, что вне себя от восторга. Похоже, что-то с ней произошло – возможно, пробудились чувства, высвободившиеся из замороженной целины.
– Ох, какой же ты удивительный, – сказала она, – это было просто чудесно. – И продолжала в том же духе, переливая из пустого в порожнее, пытаясь с помощью слов превратить происшедшее пробуждение чувств в буйство страсти.
Не может быть, думал Айтел, чтобы он ошибался. Почти до самого конца она терпела его ласки с натянутой улыбкой, глядя в сторону. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким, как в те минуты, когда занимался с ней любовью, а теперь она пытается поверить в то, что произошел грандиозный успех.
– Душенька Чарли, – твердила она, целуя его ресницы, гладя волосы.
Она липла к нему как сладкое желе, и ему потребовалось добрых полчаса, чтобы с ней расстаться. Под конец, когда они целовались на прощание, Бобби посмотрела на него сияющими глазами и сказала:
– Когда же я снова тебя увижу?
– Не знаю. Скоро, – сказал он и возненавидел себя за ложь.
Вернувшись домой, он растер себя жесткой мочалкой и в постели так крепко прижал Илену к груди, что она замурлыкала – он переломает ей кости, тогда Айтел взял ее, причитая: «Я люблю тебя, я люблю тебя», – тело ее было пещерой, в которой он мог схоронить себя. Потом он проглотил таблетку снотворного и погрузился в дрему, из которой его вывел звонок Фэя.
Настало утро, и вместе с ним появилось все, что последние полтора месяца поочередно мучило Айтела. Он страдал в эти часы бдения, как страдают искалеченные люди, дожидаясь часа, когда прекратятся их мучения. Вот так же и Айтел дожидался той минуты, когда Илена проснется и он больше не будет один. Но дожидаясь, он думал лишь о том, что если Илена солгала ему, как солгал ей он, и была с другим мужчиной, затем вымылась и легла к нему в постель, он задушил бы ее. Это было нелепо. Наслаждение, которое он чувствовал, обладая Бобби, нельзя было сравнить с наслаждением, которое дарила ему Илена. Однако если бы кто-то наблюдал за ним с Бобби, то мог бы подумать, что он действительно получает наслаждение, – он ведь издавал указывавшие на это звуки. Какая-то бессмыслица – он же стонал, а вот мысль, что Илена могла издавать такие звуки с другим мужчиной… это уже было мерзко. И Айтел осознал, что должен безраздельно владеть ею.
«Я больше дам ей жизни, – сказал себе Айтел и, весь покрывшись тошнотворным потом, подумал: – Как же я опустился, ох как опустился».
Глава 17
Муншин рассказал лишь часть правды. Он говорил со мной два-три часа в помещении, где стояла рулетка и где мы с Лулу проводили время, уехав из Дезер-д'Ор. Возможно, мы вернулись в ту ночь, когда Айтел посещал Бобби, – так или иначе, мы пропустили почти все, и я ничего не знал ни о новом сценарии Айтела, ни о том, что Колли так часто бывал у него.
Я был слишком занят. Как-то днем Лулу предложила сесть в ее машину, взять с собой ужин для пикника и, переехав границу штата, отправиться за триста миль в ее излюбленное игорное прибежище. Поскольку Лулу не умела ездить по дорогам пустыни со скоростью меньше девяноста миль в час, а я любил скорость в сотню миль, пикник представлялся вполне возможным. Однако получилось так, что мы съели принесенные ею сандвичи в два часа ночи и нам понадобилось бы пятьдесят галлонов кофе, чтобы продержаться на время стоянки.
Я отправился туда, чтобы играть. Половина от четырнадцати тысяч долларов, с которыми я приехал в Дезер-д'Ор, уже исчезла, и я решил, что пора пополнить карман. Я предполагал выиграть большой кусок или потерять большой кусок, и пока мы играли, было и то и другое. Мы приехали туда всего с несколькими сотнями долларов на двоих, но у Лулу был открытый кредит, и я черпал оттуда, пока не понял, что мы не собираемся уезжать. Тогда я закрыл свой счет в банке Дезер-д'Ор.
Мы играли на протяжении двенадцати дней, и играли бы еще тридцать, если бы не приехал Колли и не помешал нам, а мы занимались тем, что делали ставки весь долгий рабочий день игрока с десяти вечера до девяти утра, и в течение этого времени нахлынь волна жары, произойди землетрясение или даже война, мы бы об этом так и не узнали – мы трудились всю ночь, стараясь спать днем, а во время еды Лулу просчитывала серийные номера на банкнотах, чтобы определить счастливый номер на ближайшую ночь, а я страницу за страницей покрывал астрономическими выкладками, пытаясь вычислить систему игры на рулетке. Я нашел одну систему, как раз когда начал терять интерес к игре, и это была система человека сдавшегося: при капитале в тридцать тысяч долларов я мог быть уверен, что выиграю сотню за ночь, или по крайней мере мог быть более или менее уверен, – соотношение было двести пятьдесят к одному в мою пользу; если же я проиграю, то проиграю всё, все тридцать тысяч. Я объяснил эту систему Лулу, и она скорчила гримасу.
– У тебя не кровь течет в жилах, а ледяная вода, – изрекла она.
Лулу играла, как человек-оркестр в час, отведенный для любителей. Она ставила на счастливое число, или на два счастливых числа, или на десять и играла так, пока не надоедало, а потом выбирала любое число – сколько людей за столом или сколько дуговиц на жилете крупье, а потом ставила на красное и черное или на чет и нечет, какое-то время держалась на двойном зеро и снова переходила на два, три, семь или одиннадцать и, словно пару кубиков, меняла сукно рулетки, прилипала к двойкам и тройкам в свои, как она говорила, «вредные часы», к семеркам и одиннадцати, когда все шло хорошо. Выиграв, она взвизгивала от восторга, а проиграв, тяжело вздыхала и порой настолько переставала соображать – а она никогда ничего не помнила, даже не знала правил игры, – что выигрыш на красном мог прокрутиться несколько раз, прежде чем она его заметит и охнет от удивления, или столь же часто не знала, сколько проиграла, потому что слишком долго не подсчитывала свои чипсы. При всем при этом она давала крупье на чай – и сколько давала! – и, ко всеобщему раздражению, часто сорила деньгами. Наблюдая, как она играет, можно было поверить в басню о льве и овце. Рулетка – ее страсть, говорила Лулу всем, кто хотел ее слушать, но играла она со страстью ребенка к десерту или мороженому.
Она, безусловно, раздражала меня. Я был не большим профессионалом, чем Лулу, но у меня был талант – по крайней мере я так считал – и я относился к игре серьезно. Игра была для меня тяжелой работой, и я всегда садился за стол с двенадцатью выкладками в уме, записывая все номера, какие выпадали в ту ночь, и отмечая их красным или черным, чет или нечет, стараясь понять, какая из пяти наполовину разработанных систем перевешивает – выпадет сейчас красное, или очередь за черным, или же закон средних чисел будет серьезно покалечен?
Время от времени я вижу себя в этом большом зале, где люстры в стиле Людовика XIV нахально висят над флуоресцентными трубками, освещающими игорные столы, а за современным баром вдоль одной из стен почти никого нет, кроме туристов, приехавших, чтобы напиться, просадить свои тридцать долларов и продемонстрировать свое боязливое плотоядие англосакса в тропическом борделе. Затем, окинув взглядом сотни людей в зале, вслушиваясь в тишину и сухой звук подпрыгивающего шарика, следующего своим путем по колесу, я вздрагиваю, словно обнаружив, что я голый, и на миг почувствовав себя призраком, и жизнь покажется призрачной. А вот деньги обычно были для меня чем-то реальным – у меня всегда было их так мало, и даже в Дезер-д'Ор мне, словно разбогатевшему деревенскому парню, трудно было купить себе пиджак за восемь долларов или заказать пятидолларовый ленч. Однажды, должен признать, в Токио я сорвал банк в покер, но в то время я был слабым игроком, ничего в этом не понимал, мне просто повезло, как везло Лулу, а теперь, когда я с холодным расчетом, возникавшим, стоило мне подумать о размере зала, а не о вращающемся колесе, ставил двадцать, сорок, восемьдесят долларов и несколько раз их удваивал, относясь к суммам как к цифрам в моем блокноте, это уже говорило о таланте – во мне сидел хладнокровный игрок.
Кстати насчет моего таланта: под конец я проиграл кучу денег. Не стоит говорить о том, как я себя чувствовал в ночи выигрышей и ночи проигрышей. Общий знаменатель был всегда один и тот же: я хотел вернуться и снова играть, и если я выигрывал, то, конечно, благодаря моей новой системе, а если проигрывал, то, конечно же, учту совершенные ошибки и промашка будет назавтра ликвидирована. Выигрыш или проигрыш – я в уме контролировал ситуацию, я был над ней, я все понимал, в этом радость игры, а потому нет нужды долго это описывать – все настоящие игры одинаковы. К чему рассказывать, как мои семь тысяч долларов превратились в пять, а пять – в восемь и как восемь тысяч упали до трех, и описывать увлекательные часы той ночи, когда три тысячи превратились в десять тысяч, а потом понизились до пяти. Главное, что я вернулся в Дезер-д'Ор с третью той суммы, с которой уехал, и зуд играть пропал вместе с деньгами.
Но пока этот зуд владел мной, он меня не отпускал. Мы с Лулу сняли соседние номера в отеле с кондиционерами, где на окнах висели тяжелые занавески, чтобы превращать день в ночь. Номера эти были приспособлены для сна, вот мы и спали, погружаясь в дрему, как больные с высокой температурой. За все эти дни мы ни разу не занимались любовью: Лулу так же мало волновала меня, как если б это была коза или фургон с сеном, и я тоже мало ее волновал. Мы жили вместе, мы ели вместе, мы играли вместе и спали в соседних комнатах. Никогда еще мы не были так вежливы друг с другом.
Как я уже говорил, так могло бы продолжаться целый месяц, но нас вывел из этого состояния приехавший Колли. Произошло это всего через несколько дней после того, как мы начали играть, и все, что он в то время говорил, не казалось таким уж срочным. С таким же успехом посторонний человек мог бы подойти ко мне сзади и сказать, что я унаследовал миллион. «Отлично, – сказал бы я ему, – но заметили ли вы, что семнадцать трижды выскакивало в последних двенадцати конах? На этом числе можно выиграть кучу денег».
Колли их и выложил на стол: он сказал, что раз я передал ему права, дал право подписи, он и вручает мне десять тысяч. Поскольку я не проявил интереса, сказав ему: «Ой, дружище, да возьми хоть мою жизнь и забудь об этом. Меня интересует другое», у Колли, в свою очередь, появился интерес к игре, пока десять тысяч долларов постепенно не удвоились. Лулу принялась его поддразнивать, а я сказал, что никогда не принимаю решений наспех. Он сдался, даже не дождавшись от меня обещания дать ответ, и как только он ушел, мы на день-другой забыли о нем, но я услышал потом, как он говорил по телефону с Лулу и о чем они говорили – во всяком случае, речь, по-моему, шла о Германе Тепписе, и Колли делился с ней своими впечатлениями. Лулу стала выбираться из долгого периода, когда ею владела лихорадка: она снова стала меня критиковать. Ко времени нашего отъезда мы уже устали от игры – что-то другое заняло ее место.
По пути домой мы поссорились.
– Ты, естественно, не хочешь думать о будущем, – заявила Лулу.
Вот об этом мне меньше всего хотелось думать.
– Ты знаешь, что ты человек безразличный, Серджиус?
– Я не хочу, чтобы мое имя стояло под слюнявой картиной.
– Значит, под слюнявой картиной! Если бы ты действительно любил меня, ты бы хотел жениться на мне, а не вел себя так. С двадцатью тысячами в кармане ты финансово обеспеченный человек.
– Невероятно обеспеченный, – сказал я. – На двадцать тысяч долларов ты себе купишь разве что лак для ногтей.
Она так разозлилась, что съехала на обочину и ей пришлось выворачивать назад машину.
– Ты меня не любишь, – сказала она. – Если б любил, ты бы меня послушался.
Полпути прошли в ссоре. Внезапно Лулу осенило.
– Ты прав, Серджиус, – сказала она, – двадцать тысяч недостаточная сумма.
– Крысенкам на еду, – осторожно вставил я.
– Но я знаю, как ты можешь это увеличить.
– Как?
На лице ее появилось напряженное выражение, словно она решала, какое платье надеть.
– Сладкий мой, я хочу, чтобы ты в точности сказал мне, что говорил тебе Г.Т. в тот день, когда пригласил на прием.
– Ну, послушай!
– Серджиус, я серьезно. Скажи мне слово в слово.
Я стал рассказывать, и она слушала со слегка победоносным видом, время от времени кивая и как бы соглашаясь с отдельными моментами.
– Конечно, так оно и есть, – объявила она, когда я закончил. – Скажу тебе, мой сладкий, я так и вижу, что творится в мозгу Г.Т. Он вот что думает: не можешь ли ты сыграть в твоем фильме. Взять на себя роль звезды. – Я засмеялся, и она положила руку мне на плечо. – Да будь же серьезен! – воскликнула она. – Г.Т. явно стоит за спиной Колли и хочет, чтоб была снята эта картина. Ты нравишься Г.Т. Он считает, что у тебя есть сексуальное обаяние.
– Ты что, дала ему обо мне справку?
– Я просто знаю. Если мы правильно разыграем карты, Г.Т. согласится на все, что хочешь. – Она, как бы в подтверждение своей мысли, кивнула. – Если, сладкий мой, ты станешь звездой, мы оба будем финансово независимы и сможем обвенчаться.
– Я же не умею играть, – сказал я.
– Тут нет никакой премудрости. – И она прочитала мне лекцию. По словам Лулу, ничего нет легче. Хороший режиссер вытащит из меня все, что надо. – Если ты будешь держаться скованно, – сказала Лулу, – он сделает так, что это будет отражать твою сущность. Если будешь застенчив, он сумеет сделать так, чтоб ты выглядел парнем из провинциального городка. А если ты испортишь сцену… ну, видишь ли, они ведь снимают дубли. При том, как они работают, ты всегда сумеешь сыграть свою роль.
– Ставим на этом точку, – сказал я. – Я не хочу быть актером. – Но сердце у меня забилось, словно намекая, что я лгу.
– Подожди, вот Колли возьмется за тебя, – пообещала она.
Лулу не ошиблась. Через два дня после того, как мы вернулись в Дезер-д'Ор, продюсер прилетел к нам и затащил меня на совещание. К моему удивлению, – а я всегда считал, что людям нелегко меня раскусить, – Колли мигом разложил меня по косточкам.
– Вот что, Серджиус, – сказал он в первый же час нашего пребывания вдвоем, – я тебя знаю и буду с тобой откровенен. Ты малый больной. В твоем характере есть много такого, что можно было бы считать существенным: честность, неподкупность, храбрость, страстность, выносливость, душевность… – Он это отбарабанил, точно читал рецепт. – Но они не сливаются в тебе. Ты ими не пользуешься. Все эти качества в тебе спят. – И продолжал в таком же духе, раня меня в самое сердце. – Я старше тебя, Серджиус, – сказал он, – и я могу понять, что лежит в основе твоей позиции. Ты боишься перемен. Ты несчастлив с Лулу и, однако, держишься за нее. По-настоящему пугает тебя то, что в один прекрасный день она отправится в киностолицу сниматься в своей новой картине и подцепит кого-нибудь другого. Знаешь, что я тебе скажу? Я не виню ее. Ты боишься сделать шаг назад, боишься сделать шаг вперед. Ты хочешь сидеть на месте. А это невозможно. Сколько у тебя осталось денег?
– Три тысячи, – неожиданно для себя признался я.
– Три тысячи. Я так и вижу, как ты зажимаешься, стараешься держаться на прежнем уровне с Лулу, надеясь, что сидящий рядом человек заплатит по счету. На три тысячи прожить можно – пожалуй, ты сумеешь продержаться недель десять. А что потом? Полный разор. Ты хоть понимаешь это? Что дальше будешь делать? Превратишься в бродягу, пойдешь работать на автостоянку? Милый, не изображай высокомерия. Я твое высокомерие мигом разобью. Ты хоть знаешь, каково это приехать в незнакомый город без цента в кармане?
– Да, знаю, – сказал я.
– Раньше ты это знал, а теперь попробовал другой жизни. Думаешь, тебе понравится трахаться с официантками, когда ты спал с первоклассными женщинами? Я скажу тебе, братец: если ты лежал в постели с классными бабенками, тебе становится плохо, физически плохо, когда приходится брать далеко не лучшее. Ничего хуже не бывает, – заключил Муншин.
И победил. Проколол броню. Впервые проигрыш четырех тысяч стал для меня реальностью, и я понял, что потеря этих денег является потерей будущего. Муншин правильно все рассчитал: я тратил – сам не знаю на что – по несколько сотен долларов в неделю, и, слушая его, увидел, как пролетают недели – пятнадцать недель, шестнадцать недель; внезапно я понял, что мне осталось совсем мало времени быть на курорте и я не знаю, куда двинуться и как быть с Лулу.
А Муншин тем временем переменил тактику. Подобно сотруднику рекламного агентства он сначала напускал страх, а потом вселял надежду.
– Я знаю, как ты относишься к кинопромышленности, – сказал он. – Ты считаешь, что она производит фальшивки, тебе не нравятся фильмы, которые она выпускает, ложь, которую тебе преподносят. Сказать тебе кое-что? Мне это тоже отвратительно. Почти не проходит и дня, чтобы я не испытывал такого отвращения, что кажется, сейчас лопну. Кинопродукция вызывает отвращение у всех, кто хочет создавать нечто серьезное, важное и прогрессивное. Такие люди имеются, они работают, они создают три четверти, четыре пятых продукции, и ты был бы поражен качеством отдельных вещей. Говорю тебе: работа в кино не означает лишь приобщение к чему-то нелепому и коррумпированному. Она дает шанс вести борьбу, возможность для роста! – И Муншин широко развел руки, словно расширяя творческое пространство мира. – Серджиус, ты считаешь, что продаешь душу за мешок награбленного добра. Ты ребенок! – прорычал он. – Тебе дают возможность получить настоящие деньги, миленький, а также обрести достоинство и вес. Так что для начала стань актером. Я сам не люблю актеров. Но ты сможешь потом стать кем угодно – продюсером, режиссером, даже автором, хотя не советую. Но ты познакомишься с имеющими вес людьми, у тебя появятся разные возможности. Ты получишься и сможешь это использовать. Какого черта, чего ради я так надрываюсь, убеждая тебя? Серджиус, я же тебя знаю. Включайся в работу, и ты сможешь стать полноценным грамотным человеком, приносящим пользу миру и приносящим пользу себе, если не упустишь свой шанс. Что, по-твоему, в другой области чище? Да ты понятия не имеешь, как мы планируем показать этот приют, где тобой помыкали. Возможно, это была единственная ошибка Колли. Я тут неожиданно вскипел.
– Показать этот приют? – рявкнул я. – Муншин, чертов ты враль.
А он явно пришел в восторг от того, что вызвал такой взрыв, и тем самым еще больше разозлил меня.
– Значит, кино – это область прогрессивная? И там работают имеющие вес люди? – захлебываясь слюной, вопил я. – Серьезные?
– Выкладывай, малыш, – добродушно предложил Муншин.
– Все это – вранье! – ревел я. – Война, брак, кино, а возьми религию, – оказал я, сам не понимая, при чем тут это, – предположим, есть Бог, и представим себе, что он думает, видя, как люди собираются в каком-то помещении и падают на четвереньки, а теперь представь себе этот идиотизм – засовывать детишек в сиротский приют. Ты когда-нибудь думал, какой это бред, я хочу сказать, когда мужчина и женщина, например, решают заключить официальное соглашение жить вместе всю жизнь? – В его глазах я, наверно, выглядел сумасшедшим. – Да ты сам, Муншин, тоже полон вранья.
– О-о-о, еще один анархист, – со вздохом произнес Муншин. И развел руками. – Знаешь, что я тебе скажу? – спросил он, снова принимаясь за свое. – Из анархистов выходят талантливые люди. Возможно, в глубине души я думаю, как ты. Я знаю, что Чарли Айтел так думает.
Он произнес это таким непринужденным тоном, что я выглядел полным идиотом.
– Выпей, Серджиус, – с улыбкой сказал он, и я понял, как легко ему устраивать вспышки вроде моей.
После ставки на надежду делается ставка на чувства. Так десять раз был продан мир.
– Единственное, насколько мне известно, к чему можно по-настоящему воззвать, – сказал Муншин, – это к твоим лучшим чувствам. Я считаю, что ты должен играть в этой картине, но тут есть более серьезное соображение. Ты можешь помочь другу.
– Айтелу? – спросил я. И ненавидел себя за то, что продолжаю разговор, точно этому ничто не предшествовало.
– Совершенно верно. Он единственный, кто, как режиссер, может по-настоящему поработать с тобой. Я знаю, что смогу уговорить на это Г.Т. Ты хоть понимаешь, что это будет значить для Айтела?
– Он хочет все делать сам, – сказал я.
– Глупости. Я не один год знаю Чарли Айтела. Ты хоть понимаешь, какой у него талант? Жаль, что ты не видел, как Айтел в лучшие свои годы мог взять человека средних способностей и слабый сценарий и создать красоту. А сейчас его талант ржавеет, потому что он раскрывается, только когда Айтел работает с людьми, когда он чувствует, что его любят и им восхищаются. Ты мог бы вернуть его в родную среду.
– Ты хочешь сказать, что я мог бы вернуть его туда, где ты хотел бы его видеть.
– Знаешь, у тебя мозги зажаты в кулак. Я понимаю Чарли лучше, чем он понимает себя. Для него сейчас все дороги закрыты. Ты не можешь и представить себе, насколько производство картины зависит от финансов. У Г.Т. длинные руки, достаточно длинные, чтобы занести Айтела в черный список на всех студиях мира, и убрать его из этого черного списка может только Герман Теппис. А с твоей помощью я могу убедить Г.Т., что он должен вернуть Айтела.
– Даже если я пойду на сговор с вами, убедить Г.Т. будет не так-то легко.
– Вполне легко, – сказал Муншин. – Когда Г.Т. хочет выпустить какую-то картину, – а я могу сделать так, что он захочет выпустить именно эту, – он готов ради этого даже лишиться руки, если его не остановить. Так что он возьмет даже Айтела.
– Я б хотел увидеть это на бумаге.
– Ты что, вышел из леса? – спросил Колли. – Пятьдесят юристов будут доведены до инсульта. Уж можешь мне поверить. Я больше тебя хочу, чтобы Айтел вернулся.
– А почему? Знаешь, я не могу этого понять, – сказал я ему.
– Сам не знаю почему, братец, – с широкой улыбкой произнес Колли. – Может, мне следует потолковать с моим психиатром.
– Я хотел бы поговорить с Айтелом, – сказал я.
– Валяй. Испорти все. Чарли Айтел – сама гордость. Ты думаешь, можно прийти к нему и спросить, чего он хочет? Да ты должен упрашивать его, чтобы он снял про тебя фильм.
– Право, не знаю, что и сказать, – наконец произнес я. Ну и ответ!
– Скажи «да». Ты бы сразу согласился, если б не был такой упрямый и не боялся переломить себя.
К утру Муншин уже должен был вернуться в киностолицу, так что он наконец распростился со мной, пообещав звонить. Должен сказать, он сдержал слово. А у меня между игрой на чувствах, затеянной Лулу, и разговорами по телефону с Колли не было ни минуты на обдумывание.
Меня не раз так и подмывало подписать бумаги, которые даст мне Муншин, но удерживало не только упрямство. Я то и дело вспоминал японского военнопленного, работавшего на кухне, – у него была обожжена рука, и я так и слышал, как он говорит: «А меня будут снимать в кино? Они покажут мои струпья и гной?» Чем больше я склонялся к тому, чтобы подписать контракт, тем больше это меня беспокоило, а Колли наседал или же наседала Лулу, описывая, какая меня ждет карьера, рассказывая о чудесном мире, реальном мире, в который я вступлю, и обо всех чудесных вещах, которые произойдут со мной, я же думал, что они не правы и что реальный мир находится под землей – это лабиринт пещер, где сироты жгут сирот. Однако чем больше Колли и Лулу говорили, тем больше мне хотелось послушаться их, и я просто не знал, как быть. Я не знал, как правильнее поступить, и не знал, хочется ли мне этим заниматься, и даже не знал, знаю ли я, чего хочу или что происходит во мне.
Несмотря на то, что говорил Колли, я все-таки отправился к Айтелу. Я не мог не пойти к нему, я уже не понимал, что было бы эгоистичнее – отказать Муншину или дорого продать историю моей жизни «Сьюприм пикчерс».
Сначала Айтел отказался об этом говорить.
– Понимаешь, – сказал он, – я обещал в это не вмешиваться.
– Кому, Колли? – в изумлении спросил я.
– Извини, Серджиус. Я не могу этого сказать.
– Вы же мой друг, – возразил я. – Вам не кажется, что для меня это важнее, чем для Колли?
Айтел тяжело вздохнул.
– Я, наверно, понимал, что не смогу держаться в стороне, – сказал он.
– Так что, по-вашему, я должен делать?
Он печально улыбнулся.
– Право, не знаю, что ты должен делать. Тебе никогда не приходило в голову, что чем старше ты становишься, тем труднее давать советы?
– Иногда мне кажется, что бы ни происходило, ты все равно должен как-то поступать, – сказал я ему.
– Да. В мое время это было предметом полемики. – Он кивнул, словно решая, принять это за истину или сразу отбросить.
– Скажите мне, – попросил я, – какого рода фильм может, по-вашему, из этого получиться?
– Серджиус, не будем наивными, – резко произнес он. – Из этого материала получится фильм, где будет много красивых кадров о том, как аэропланы стреляют по аэропланам. Какие еще, по-твоему, картины делает Колли?
– А как насчет планов, которые Колли вынашивает в отношении вас? – спросил я.
Айтел передернул плечами.
– Я знаю об этих планах, – сказал он. – Если картину о тебе решат делать и захотят, чтобы я ее снимал, мне нелегко будет принять решение. – Он приложил палец к носу, как бы останавливая меня, так как хотел что-то еще сказать. – Серджиус, я не думаю, что было бы хорошо использовать меня в качестве предлога. Понимаешь, ты можешь оказать мне этим дурную услугу. – Потом долго смотрел мне в лицо, и вид у него был суровый. – А ты уверен, – наконец произнес он, – что не хочешь сделать карьеру… и заработать денег… и все прочее? Ты в самом деле уверен, что не хочешь стать актером? – И он принялся пересказывать мне свой разговор с Колли.
Я слушал его, и меня начало подташнивать. Это был всего лишь кишечный приступ, и я на миг почувствовал, что бледнею, но в эту минуту я понял, какое рассудочное честолюбивое желание я столько лет в себе подавлял, и сейчас, казалось, глубоко во мне шла борьба, будто сцепились две мощные руки, дергаясь туда-сюда, – и ни для чего другого уже не было места.
– Понимаешь, – тем временем произнес мне в ухо Айтел, – я только сейчас осознал, что очень этого хочу, и именно потому остался в столице.
Я едва ли мог как-либо на это реагировать. Мне было плохо от того, что я обнаружил в себе.
– Вы правы, – сказал я, и голос у меня, кажется, дрожал. – Пожалуй, я пытался переложить это на вас.
– Возможно, – сказал он и наклонился ко мне. – Я немного приоткрою тебе то, о чем думаю. Я думаю, если тебе больше хочется заняться чем-то другим, лучше пройти мимо этого предложения. Но это тебе решать.
Я кивнул.
– Как вы думаете, выйдет из меня писатель? – медленно произнес я.
– Ну, Серджиус, это трудно сказать.
– Я знаю. Я тут принес одну вещицу, которую написал пару недель назад. Это стихотворение. Проба пера. – Я надеялся, что мне не придется его показывать – я написал его под впечатлением от увиденного сна, – тем не менее достал из кармана лист бумаги и протянул ему. – Мне нравится жонглировать словами, – пробормотал я.
– Да заткнись же наконец, Серджиус, дай мне прочесть твой шедевр.
Прочитав стихотворение, он рассмеялся.
– По-моему, это забавно. Я не представлял себе, что ты в такой мере находишься под влиянием Джойса.
Я понимал, что покажусь идиотом, но на сей раз мне было все равно.
– А кто это – Джойс? – спросил я.
– Джеймс Джойс. Ты, конечно, его читал?
– Нет. Но имя, по-моему, слышал.
Айтел снова взял листок со стихотворением и прочел его.
– Как странно! – произнес он.
Мне же хотелось уйти от него, услышав только одно.
– Как вы считаете, у меня есть талант? – спросил я.
– Я начинаю подозревать, что да.
– О'кей. – Я кивнул. – Значит… в общем… – Столько всего рвалось из меня, таким я пылал восторгом. Я чувствовал себя десятилетним мальчишкой, и мог себя так чувствовать, потому что рядом был человек, которому я доверял. – Не возражаете, если я расскажу, почему никогда не думал стать профессиональным летчиком-истребителем? – спросил я его.
– Я всегда считал, что ты не хотел, чтобы твои мозги превратились в яичницу.
– В общем, да, – сказал я, – знаете, вы попали в точку. Я этого боялся. Как вы это поняли?








