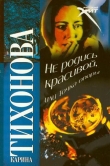Текст книги "Бабушкина внучка"
Автор книги: Нина Анненкова-Бернар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Elle est bien gentille, cette petite mignonne[164], – воскликнула Сусанна. – Поди сюда, поди сюда!.. – звала она девочку.
Та не двигалась. Сусанна сама подошла в ней вынула из своего шелкового, висящего на руке, ридикюля шоколадную, обернутую в свинец, конфекту и протянула ребенку:
– Вот возьми!
Девочка точно испугалась и, помотав головенкой, быстро спряталась в толпу ребятишек.
– Mais tout-à-fait sauvage[165], – проговорила с сожалением Сусанна.
Когда Марья Львовна и Ненси вышли на улицу, чтобы садиться в экипаж, глазам их открылась умилительная картина: по лужайке, прилегавшей к избе, резво бегала Сусанна и ее догонял запыхавшийся Эспер Михайлович.
– Однако, надо усмирить их! – рассердились Марья Львовна. Она послала за дочерью и ее веселым кавалером. Господа уселись в экипажи. В толпе, теснившейся у избы, опять некоторые сняли шапки.
– Прощайте, милые, прощайте!.. – приветливо кивала головой Сусанна.– Ah, que j'aime le peuple, la campagne!.. c'est si joli!..[166]– воскликнула она, когда экипажи двинулись в путь.
XX.
– Ну вот, моя крошка, мы и в нашем родном гнезде! – говорила вечером Марья Львовна, укладывая, как в доброе старое время, Ненси в постель.
Ненси спала неспокойно, поутру отправилась в сад, обошла все дорожки; постояла задумчиво в своем любимом бельведере, белые колонны которого еще более потрескались и облупились; машинально потрогала перекинувшуюся через балюстраду ветку старой чахлой сирени, скупо покрытую цветами; зашла и в рощу, но… в обрыву пойти не решилась.
Юрия ждали в 12-му июня. Ненси целые дни проводила в старом саду, в самых заглохших его закоулках, умышленно стараясь избегать встреч с Сусанной и Эспером Михайловичем, видимо чувствовавшими себя превосходно на лоне русской природы.
– Я возрождаюсь здесь, положительным образом возрождаюсь! – восклицал Эспер Михайлович, моложаво пожимая своими худыми плечами.
Сусанна, напротив, имела томный вид и была мечтательно молчалива.
Бабушка сидела за делами, проверяя счета, а по вечерам играла в карты.
Заглянув в библиотеку, Ненси попыталась было читать, но едва одолела и страницу. Совсем что-то необычное творилось в ее душе. Был ли то страх перед свиданием с мужем, или тоска по отсутствующем Войновском? Нет! что-то не вылившееся в ясную, определенную форму мучило ее; какая-то разорванность мыслей и чувств – всего существа. Точно взяли и разорвали ее на тысячу кусков, и от бессильного стремления соединить их вместе, собрать снова в одно целое – испытывала она неприятное, тягучее чувство…
День приезда наступил. Ненси овладел малодушный страх, и на вокзал она не поехала, ссылаясь на нездоровье.
Встреча была неловкая, странная… И они оба смутились.
Но обаяние лета, родной природы, чудных воспоминаний любви – заставили его скоро позабыть неприятное ощущение первой минуты. А она? Она с каждым днем все становилась нежнее и нежнее… и в ласках его старалась найти для себя забвение, уйти от себя самой. Казалось, снова воскресла весна их любви. Они читали, гуляли вместе по деревне, заходили в избы, где он подолгу засиживался, беседуя со старыми приятелями своего детства.
Они возвращались веселые и радостные, строя планы будущего, оглашая рощу молодыми голосами…
Но чем ближе подходил роковой день, назначенный Войновским, тем тревожнее, порывистее становилась Ненси.
Она объявила мужу о своем отъезде накануне этого дня, улыбаясь натянутой, виноватой улыбкой.
– Как же ты поедешь одна? – воспротивился он. – Я поеду с тобой.
– Нет, нет, нет! Меня это только стеснит… Мне нужно… к портнихе… разные неинтересные дела… я буду торопиться, и… все выйдет нехорошо.
Он удивился, но не настаивал.
Ненси уехала одна.
В городе она вела себя невозможно: отравила Войновскому всю сладость ожидаемого с нею свидания, и видя перед собой ее постоянно испуганное лицо и вечные слезы, он поспешил проводить ее, раньше определенного часа, назад в деревню.
Молчаливая, угрюмая, она заставила не на шутку встревожиться Юрия.
– Да что с тобой?.. На тебе лица нет…
– Лицо есть, да только фальшивое, – ответила она резко.
А на утро сама повела его к обрыву.
– Знаешь ли, зачем я повела тебя сюда? – спросила она вызывающим тоном.
Изумленный Юрий молчал.
– А чтобы сказать тебе, что ты можешь меня сейчас сбросить с обрыва и убить, если хочешь.
– Ты с ума сошла! – остановил ее возмущенный Юрий.
– Нет… слушай меня!.. Я тебе хочу сказать… тебе… тебе – слышишь?.. потому что здесь, на этом самом месте, я была другою возле тебя!.. Ты знаешь, что я делала весь этот год? Знаешь?..
И она рассказала ему все… Глаза ее горели сухим блеском, голос был жесткий. Она была беспощадна к себе, и чем больше раскрывала подробностей, тем чувствовала большее удовлетворение.
При первых же словах ужасного покаяния, Юрий хотеть крикнуть: «Не надо! довольно!» – но она так упорно, с такой злобной настойчивостью и нервной силой продолжала свою исповедь, что остановить ее не было возможности. Как поток, прорвавший плотину, речь ее неслась каскадом, ничего не щадя, все сокрушая на пути.
– Видишь, какая я низкая!.. и я не могу иначе… Он позовет, и я опять… пойду к нему, опять! – шептала она с болезненной злобой, дойдя в своем рассказе до истории с матерью и возобновленного сближения с Войновским.
Возле нее раздалось глухое, сдержанное рыдание. Это плакал Юрий, припав головой на тот самый камень, где между ними был заключен союз их молодой любви.
– А-а-а!.. Боже мой! – простонала Ненси. – Не надо!.. возьми, размозжи мою голову… но не надо!..
Юрий поднял заплаканное лицо. Глаза его стали совершенно темными и точно ушли куда-то дальше в глубь…
Наступило томительное, тяжелое молчание.
– Так что же делать? – беззвучно проговорила Ненси.
Ветер шелестил листвой деревьев, а их ветки, сплетаясь, точно сообщали друг другу о только что слышанной, печальной и страшной исповеди, и точно сожалели и оплакивали… и, покачиваясь, недоумевали… Внизу, на дне обрыва, играя мелким щебнем, любовно журчал ручей.
– Что же делать? – повторила Ненси.
Вихрь в эту минуту порывом налетел на деревья и промчался дальше. И снова все смолкло, только по прежнему колебались ветви да тихо-тихо трепетали листья.
– Что же делать? – раздался в третий раз тот же тоскливо-упорный вопрос.
– Не знаю, – едва слышно прошептал Юрий.
Он встал и пошел медленно, не оглядываясь, сам не понимая, зачем, куда идет.
– Не знаешь… – повторила почти бессознательно Ненси.
Она, шатаясь, подошла к краю обрыва. Страшная внезапная мысль, как молния, осветила ее сознание:
– Минута – и всему конец!
Вдруг сильные руки схватили ее сзади… Юрий, по странному предчувствию, обернулся и сразу бросился в обрыву.
Почти бесчувственную перенес он Ненси на камень.
– Ненси, – сказал он ей, когда она очнулась, – все будет хорошо!.. Ты слышишь?.. Не знаю сам я, как… Мне надо разобраться… все это вдруг… Но… будет… хорошо!..
Его голос звучал решительно, хотя речь обрывалась, а левой рукой он держался за грудь, точно боясь, что сердце действительно разорвет ее.
XXI.
И настали для Юрия черные, трудные дни – дни смятения, тоски, негодования. Он возмущался не только бабушкой, считая ее причиною всех зол, не только потерявшей нравственный облик Сусанною и романтично-развратным Войновским, не только ими всеми, этими забывшими и стыд, и честь людьми – он возмущался самой Ненси, потому что считал ее чистой сердцем и сильной духом. Но всякий раз, когда негодование на нее закипало в груди, на смену являлось чувство мучительной жалости и сострадания и какая-то неясная для него самого решимость пожертвовать собою.
Так же, как в то прошедшее время, перед своим отъездом в консерваторию, он по целым дням уходил в лес и один, совсем один, переживал тяжелую, сложную борьбу мыслей и чувств. Жизнь в этом доме его тяготила, но он знал, что теперь уйти еще нельзя.
Ненси понимала остроту его душевного состояния; под предлогом болезни Муси, у которой резались коренные зубы, она устроила свою спальню возле детской ребенка. Зловещее что-то витало в стенах роскошного барского дома.
Не замечали, или просто не хотели этого знать, лишь Сусанна да Эспер Михайлович, более чем когда-нибудь считавшие жизнь вечным праздником в этом мире, лучшем из миров.
Но Марья Львовна зорко следила за событиями и, хотя не могла знать всего, но предполагала, что Юрий – единственная причина странной неурядицы, и с каждым днем сильнее ненавидела его.
Отъезд Сусанны, а вслед за этим приезд Войновского несколько рассеяли мрачное настроение Марьи Львовны. Она надеялась, что теперь Ненси, может быть, воспрянет духом и все пойдет по иному.
«Все-таки, il est bien beau encore[167]», – думала она о Bойновском.
Наталья Федоровна чуяла, что с сыном творится что-то неладное, но недоумевала, с какой стороны подойти к щекотливому вопросу. Юрий вообще был скрытен, а там, где дело касалось его сердечных движений, – прятался, как улитка, от всякого постороннего вторжения, не делая в таких случаях исключения даже и для матери.
– Вы не находите, что этот grand artiste[168], – злобно проговорила Марья Львовна, беседуя с Войновским, – отравляет всем нам существование… Я, право, очень бы хотела развода.
– О, нет!.. Он очень милый молодой человек, немного странный только, – заступился Войновский.
Однако сам он тоже обращался не так уже свободно с Юрием, как прежде, и даже как бы избегал его, хотя Ненси не обмолвилась ни словом о страшной сцене у обрыва.
По приезде Войновского, Юрий встретился с ним за обедом. Непонятное, дикое желание овладело им в первую минуту: подойти к этому старому красавцу и ударить его по лицу, при всех. Он едва сдержал свой безобразный порыв.
«Не этим же решать такой вопрос», – подумал он, сгорая от внутреннего за себя стыда.
Решительная минута, однако, пришла – он это понял, но как она разрешится – было для него, по-прежнему, неясно. И новое, доселе неизведанное им чувство, острое и злое, змеей обвилось вокруг сердца и жгло его и жалило. То была ревность.
Все чувствовали себя тяжело. Бывает так иногда перед грозой: сгущенный воздух как-то странно давит грудь и что-то беспричинное, но неотступное волнует и тревожит.
– Ты знаешь, я рассказала ему все! – сообщила Ненси Войновскому, гуляя с ним по тенистым дорожкам старинного сада.
Он весь вспыхнул и рассердился.
– Удивительное дело, как люди любят осложнять свою жизнь!.. Все шло прекрасно… хорошо…
– Ах, ты находишь, что хорошо?
– Конечно!.. Так нет – надо запутать, осложнить!.. Удивительная способность! – пожал он сердито плечами. – Ну, что же делать теперь?.. Что?..
А Ненси испытывала злорадное, мстительное чувство при виде его замешательства.
– Поразительная нелепость!.. Из самого обыденнего дела устроить целую историю!..
Весь день он был видимо расстроен и за обедом ничего почти не ел. Ночь тоже провел отвратительно.
– Чорт знает, какое бестолковое положение! – волновался он, ходя по большому кабинету покойного мужа Марьи Львовны, куда его поместили.
Он вспоминал свою жизнь, все мимолетные и более продолжительные связи. Никогда ничего подобного с ним не случалось. Все так бывало просто, естественно.
– Положительно, народились какие-то выродки, психопатические и нелепые! – негодовал он и досадовал, и раскаивался в своем увлечении Ненси.
Он бесповоротно решил завтра же уехать.
– Если она так любит бури и скандалы – пускай распутывает сама эту путаницу.
Поутру он встал рано, но, несмотря на смутную внутреннюю тревогу, как всегда, занялся самым тщательным образом своим туалетом. Освеженный холодным душистым умываньем, с подвитыми, надушенными усами, он собирался уже приняться за укладывание своего чемодана, как был внезапно неприятно поражен появлением Юрия в кабинете.
– Я пришел вам сказать, – начал отрывисто Юрий, глядя в упор на него серыми, скорбными глазами, – сказать… или предложить… Нет! я пришел объявить вам, что я даю жене моей свободу… И если вы порядочный человек… если вы честный – вы женитесь на ней.
Войновский растерянно указал Юрию на стул, по другую сторону письменного стола.
– Благодарю, – сухо уклонился Юрий от любезного приглашения.
И они стояли друг против друга, за большим старинным красного дерева, с бронзой, столом – оба бледные, оба дрожащие…
Из открытого окна, на середину комнаты, задевая стол, искрясь в бронзе массивных подсвечников, падал широкой косой солнечный столб, а в нем, точно в плавном ритмическом танце, кружились мириады пыльных точек. Они играли, перегоняли друг друга, волнообразно качались…
Глаза Юрия смотрели строго. Взгляд Войновского выражал ненависть и нескрываемое презрение.
– Так вот я вам объявляю мое решение!.. – сказал Юрий, и голос его, как металл, зловеще гулко прозвучал в стенах высокой комнаты.
– Позвольте!.. – Войновский постарался насколько возможно овладеть собою. – Я вам, кажется, не дал ни повода, ни права говорить со мною таким образом.
– Повода? Нет… А право?.. Вы понимаете сами мое право… Ведь вы же сделали ее несчастной, сбили с пути, лишили покоя, семьи!.. Отдайте же ей свою жизнь!.. Или жизнь эта дороже совести и чести?..
– Вы, молодой человек, слишком злоупотребляете этим словом, – произнес, с натянутой улыбкой, бледный как полотно Войновский. – Но вы слишком взволнованы, и я не принимаю ваших слов серьезно.
– Напрасно не принимаете! – вспылил Юрий.
– Позвольте, дайте мне докончить. Во-первых, я ничего не отнимал у особы, о которой вы говорите… лучшим доказательством чему служит эта сцена: вы объясняетесь со мною как оскорбленный муж…
– Не муж, а человек, защищающий другого.
– Ну человек!.. во всяком случае – близкий… А вы говорите, что я что-то отнимаю, разрушаю…
– Покой вы отняли!.. – гневно воскликнул Юрий. – Вы понимаете?.. спокойную совесть!.. А что вы дали? Что, – кроме обиды и позора!.. Так искупите же свою вину – я вам даю возможность.
– Такого злодея надо бежать, а не предлагать ему жениться.
Высокий лоб Войновского покрылся красными пятнами.
– Честь – понятие условное, – произнес он как-то неестественно громко, и в его бархатном голосе появились необычайные визгливые ноты. – Да и в делах любви… при чем тут честь?
Юрий замер и впился жадными глазами в это красивое, но ставшее плоским и жалким, в своем испуге, лицо.
Его рука, с тонкими пальцами, опираясь на спинку стула, вздрагивала при каждом слове Войновского, точно от прикосновения электрического тока. Его неожиданное молчание раздражало и злило еще больше Войновского.
– Мы только идем женщинам на встречу. И в данном случае, – проговорил он с особенной злобой, – я только отвечал… я…
Косой солнечный столб дрогнул и весь всколыхнулся. Мириады пыльных точек потеряли плавность ритма и, прерванные в своем волнообразном кружении, смешались, завертелись в хаосе дикой, необузданной пляски.
Войновский лежал на полу, и тут же, в нескольких вершках от его бледного лица, валялся тяжелый бронзовый подсвечник.
«Что это?.. Что это?!. Действительность или мучительный бред»?
Ужас леденил сознание Юрия.
Кровь текла из раны на виске и медленно скатывалась на пол по мертвому лицу.
Кровавая тонкая змейка предательски подползла к самым ногам Юрия.
Он выбежал в смежную комнату и закричал диким, не своим голосом.
– Я – убийца!!!..
И снова он перестал помнить, понимать…
XXII.
Ненси, несмотря на все доводы Марьи Львовны, за границу не поехала. Они поселились в небольшой, наскоро нанятой квартире в городе, вывезя из старой только необходимое.
И часто, часто, по вечерам, ездила она одна в шарабане на окраину города, к белой, высокой тюрьме, где содержался Юрий. Дальше темной лентой вилась дорога и тонула в туманной дали; еще дальше, узкой каймой вдоль синего неба чернела опушка леса.
Ненси нервно поворачивала лошадь, спасаясь от страшных воспоминаний.
В новой маленькой квартире никого не принимали, за исключением неизменного Эспера Михайловича. Но ни он, ни Марья Львовна не смели заикнуться Ненси ни о «деле», ни о ее внутреннем состоянии.
Совсем не религиозная, Марья Львовна теперь целыми часами простаивала перед старинным фамильным киотом. Она не молилась, а просто недоумевала перед бессилием своего нравственного банкротства и, движимая чувством самосохранения, искала, без веры, в молитве опоры.
– Бабушка! – как-то сказала Ненси, – я не могу… т.-е. не умею… или не смею, что ли, просить… Ему, может быть, худо там… Так нельзя ли, чтобы облегчить… ты съезди…
Марья Львовна, скрепя сердце, поборов свою гордость и злобу против ненавистного ей Юрия, отправилась просить за него Пигмалионова.
Прокурор встретил Марью Львовну официально, как простую просительницу. Он не забыл всех своих неудач в ухаживаньи за Ненси и питал самые злобные чувства к ней. Однако он сухо и сдержанно, но все же обещал старухе, «в пределах законного положения вещей», исполнить ее просьбу.
Последствием этого разговора было то, что совершенно неожиданно для Юрия его перевели в лазарет.
Там каждый день стал навещать его фельдшер – маленький, бритый брюнет, косой на один глаз – и раз в неделю доктор, беспристрастно и неизменно задававший ленивым голосом все одни и те же вопросы.
Фельдшер любил, обойдя больных, отвести душу с «интеллигентом».
Свиданий с Ненси у Юрия не было, а с матерью они были так тяжелы, что он невольно радовался, когда истекала законная четверть часа и наставало прощание. Наружно бодрая, Наталья Федоровна старалась всегда подбодрить и сына, но именно эта-то напускная бодрость раздражала и угнетала его еще больше: хотя благородная, но все-таки фальшь! И хотелось ему не раз резко и прямо высказать это, но другая благородная фальшь, вытекающая из боязни обидеть, сдерживала его порывы.
Таким образом отбывались, как обязанность, эти свидания и обоюдно не приносили ничего, кроме тяжелого, неудовлетворенного чувства.
Не подозревая всей истины, Наталья Федоровна искала причину этого печального явления только во внешней грустной обстановке и мирилась с этим как с неизбежным.
Временами Юрию так хотелось уйти – не от четырех желтых стен его камеры, – как ни странно, но они ему даже нравились, – а от своего прошлого, от своих воспоминаний, от всего, что было связано с его внутренним «я». Желание это бывало до того острым, что хотелось удариться головой об одну из этих четырех стен, чтобы уничтожить все старое и найти другое, может быть еще худшее, но другое.
Тогда особенно благотворны были посещения косого фельдшера.
Смущенный и встревоженный стоял иногда Юрий, по уходе фельдшера, посреди камеры. Всколыхнулись какие-то, точно заснувшие мысли, и жгучее желание пойти искать – но не потерявшейся правды, а чего-то нового, чему нет еще имени на человеческом языке – охватило сердце Юрия. Ему стало вдруг как-то ясно, что правды искать нечего, что правда и без того живет во всем живом, но что другое должно явиться людям – и это не правда и не любовь, – а что-то огромное, вмещающее в себе и любовь, и правду. Он подыскивал слово, чтобы определить, но не мог. Какая-то жалость, мучительная и необъяснимая в своей причине, шевелилась в груди и рвалась оттуда на волю. И захотелось ему идти из края в край, идти долго и кликнуть клич, чтобы все пришли и объяснили ему или сами прониклись этой жалостью.
Всегда и раньше еще ему часто казалось, что оболочка, внешнее, слова, а иногда и поступки совсем идут врознь с внутренней жизнью души… Бывало так, что он глядел и не видел этого внешнего, точно слетала оболочка – кожа и мускулы, – оставалось перед ним одно только чужое сердце, прозрачное как стекло; он слышал тогда одни слова, а за ними явственно, из глубины чужого прозрачного сердца доносились до его слуха совсем, совсем другие. Он страдал, мучился этим разногласием; он не знал, как разбить, как уничтожить ненужную, возмутительную фальшь. И теперь, в настоящую минуту, здесь, среди стен, где томились длинные, скучные дни жертвы этой роковой фальши, он чувствовал ее еще больше, каждым своим первом.
– Душа ребенка… – произнес он громко, движимый охватившим его желанием говорить, – душа ребенка… всегда одна… и у всех… Пусть это вот… обидчик… ненавистник… убийца!..
Он вдруг остановился. Лицо его исказилось испугом, и он зарыдал судорожным, сдавленным рыданием – одними звуками, без слез. Да! Он – убийца, он – артист, с тонкой организацией души, он – способный к проникновению, он – умеющий видеть невидимое, он – простой, обыденный убийца!..
– Убийца!.. убийца!.. – повторял он, злобно стиснув зубы.
С этого дня он особенно жадно стал ожидать суда.
Со страхом и тайной надеждой ждала этого дня и Ненси.
– Как мне жить?.. Как мне жить… если приговорят?.. – спрашивала она себя с ужасом, стараясь, впрочем, не верить в мрачный исход.
– Бабушка, ты понимаешь… если… приговор… – решилась она, было, только раз как-то начать, и не могла продолжать дальше.
Уже наступал конец апреля, когда назначено было заседание суда. В воздухе чувствовалась весна, но погода стояла пасмурная, все время дожди, – однако это не помешало отборной и неотборной публике наполнить битком большой, поместительный зал местного окружного суда.
– Я всегда ждала подобного конца!.. всегда, всегда!.. – захлебывалась от восторга Ласточкина, упиваясь своим предвидением.
Серафима Ивановна, сидевшая возле нее, в первом ряду, только презрительно пожала узкими плечами, и, отвернувшись, стала рассматривать публику в свой длинный черепаховый лорнет. Беленький Крач чувствовал себя почему-то неловко и сконфуженно то моргал, то опускал глаза.
Раздалось, наконец, обычное: «Суд идет»!
Пигмалионов был оживлен, ожидая сражения с приехавшей защищать, по приглашению Натальи Федоровны, столичною знаменитостью.
Ввели подсудимого.
– А, знаете, он недурен! Даже красив!.. – трещала Ласточкина, обмахиваясь своим веером.
– Он больше чем красив, – сухо подтвердила Серафима Ивановна.
Однако разговор пришлось превратить – началось чтение обвинительного акта.
Приезжая знаменитость – столичный адвокат, несколько рисуясь, с равнодушным видом оглядывал зал.
Наталья Федоровна сидела в самом последнем ряду. На Юрия смотреть она не смела, боясь за свои нервы.
Ненси и Марья Львовна отсутствовали.
Пигмалионов произнес громовую речь, желчно доказывая испорченность подсудимого, причем не без яда задел и Ненси. Тут было все: и боязнь за колебание основ христианского учения, и страх за нравственный упадок в обществе, и просьба охранять свято закон, и воззвание к совести присяжных, и строгое им предписание не расплываться в слащавой чувствительности…
– Вы пришли судить, – вы помните: судить, – торжественно заключил он обвинение, – судить, а не благотворить.
Встал столичный лев. Он начал говорить тихо, отрывисто, будто взволнованно, поминутно отирая лоб платком и отпивая маленькими глотками воду из стоящего возле стакана. По мере нарастания речи повышался тон и голос; оратор видимо себя взвинчивал, и последние фразы почти прокричал повелительно и властно. Он дышал тяжело, лоб его действительно покрылся потом.
Когда председатель обратился к Юрию, глаза публики впились в красивое, измученное лицо подсудимого.
Суд утомил его; лицо осунулось и пожелтело, а по углам губ пробегали нервные судороги, но он ответил ровным, спокойным голосом:
– Я виновен. Прошу законной кары.
Весь зал, как одна грудь, точно вздохнул печальным, разочарованным вздохом.
Присяжные ушли. Зал замер в напряженном ожидании: отрывистое чье-то слово… восклицание… чей-то шепот… кто-то заспорил и – снова молчание.
Присяжные вынесли оправдательный вердикт. И опять, как из одной груди, вырвался радостный, громкий вздох облегчения.
Смеясь и плача, в одно и то же время, бросилась Наталья Федоровна в сыну:
– Мой! мой! мой! мой! – твердила она одно только слово, смачивая слезами и осыпая поцелуями его волосы, лицо, руки…
XXIII.
На другой день, в гостинице, где остановилась Наталья Федоровна, состоялось свидание между Юрием и Ненси. Мать оставила их вдвоем.
Они долго сидели молча, с опущенными вниз глазами, боясь поднять их. Им было страшно. Ему казалось, что вот, за этим немного похудевшим, но прекрасным лицом, стоит знакомый призрак высокого, бледного человека, с темными глазами… Вдали, как бы в тумане, большая комната, залитая светом, красного дерева стол, косой сноп солнечных лучей, играющие в нем пыльные точки…
Юрий едва сдержал готовый вырваться из груди стон и крепко стиснул руки, так что хрустнули пальцы.
– Так вот, – минуту спустя, сказал он глухо, – нам надо начинать жизнь снова…
Он остановился, не зная, что говорить дальше. Она его не прерывала, продолжая сидеть с опущенными глазами. Стало тихо. Среди упорной жуткой тишины громко бился маятник о стенки металлического будильника. Они прислушивались к этому назойливому, трепетному звуку, и им казалось, что это их собственные сердца так безнадежно, так тревожно бьются о крепкий металл.
– Так вот, – начал он снова, – у нас есть дочь… так вот я… я предлагаю… если конечно… поселиться в деревне… так можно хорошо… и если… я готов всю жизнь… т.-е. если вы можете простить… забыть…
Это «вы», сказанное им, вызвало краску на его лице, и он добавил уже почти шепотом:
– Конечно, все зависит от вас.
Но он тут же, сейчас же понял, что сам ни забыть, ни простить – не может. Неприязненное чувство против нее и отчасти против себя заставило его злобно сдвинуть густые брови.
Она решилась поднять глаза. Испуганная его недружелюбным взглядом, она тоже вспыхнула. Она почувствовала, что иначе смотреть он не может; ей стало больно невыносимо, почти физически. Не зная, как и почему – точно это были не ее, а чужие слова, – вся внутренно дрожа от волнения, она произнесла тихо и печально:
– Нет. Я очень благодарна… но нельзя…
Он вздрогнул от звука ее голоса, прозвеневшего погребальным звоном среди тяжелой тишины; хотел возразить, убедить, просить – и не мог.
Все, о чем думалось ему в длинные одинокие дни, в темные, тоскливые ночи заключения, – все, что он собирался сказать ей при свидании, мечты о будущей совместной жизни и мягкое любовное, всепрощающее отношение, и надежды вернуть прежнее счастье – все это куда-то исчезло, потонуло в душевной боли, в корне которой лежало злое, мстительное чувство, и он не мог его ни уничтожить, ни победить. Если бы он в силах был разобраться в себе в эту минуту, он понял бы, что в нем говорят: ревность оскорбленного мужчины к прошлому, – и потеря веры в будущем, и страшное, безотчетное сознание своей неправоты. Ему тяжело было присутствие Ненси, тяжело и неприятно. Он знал, что ей тоже больно невыносимо, он знал, что боль эта в нем и в – ней неиссякаемая, неизлечимая, вечная.
«Да что же это? Довольно!» – хотел он крикнуть; а ей хотелось плакать громко, громко, так, чтобы не слышать ничего, кроме собственного плача.
– Относительно ребенка, – едва проговорила она, глотая слезы… – Так относительно ребенка надо решить… Я… после…
– Как угодно: я не насилую, не тороплю…
И оба они сразу почувствовали холод смерти вокруг себя и в себе.
В груди у обоих вдруг образовалась какая-то мучительная пустота, и между ними все выше и выше росла, поднималась невидимая, но ясно ощутимая стена. Она хоронила прошедшее, заслоняла будущее, сокрушала настоящее.
Злое чувство еще больше охватило Юрия. Куда девалась безмерная нежность, что жила в нем до злополучного свидания? И вот она, эта женщина, здесь, перед ним, бледная, ожидающая. Он пытался улыбнуться, взглянуть ласково, и чувствовал, как нехорошая, недобрая улыбка кривит его губы, глаза против воли не могут остановиться на милом когда-то и теперь все еще милом лице, а смотрят в сторону сердито и угрюмо. Но почему? Он сам этого не знал, а побороть себя не мог. Пусть всякое ей счастье, радость, успех в жизни, но только дальше, дальше от нее!.. Ее глаза, лицо, волосы, голос, движения – все раздражало его.
Она смотрела как подстреленная птица. Испуг, надежда, отчаяние горели в ее лучистых глазах. Ей хотелось уловить его взгляд, задержать его хоть на минуту. Ей казалось, что раз это случится – рухнет страшная стена, и какое-то высшее откровение осветит их разум и сделает ясным что-то для них теперь недосягаемое, неизвестное.
Но он упорно продолжал смотреть куда-то мимо, точно в комнате не было еще другого живого лица. Красивые серые глаза его стали почти черными и своим мрачным огнем напоминали глаза безумца. Стена становилась все несокрушимее, пустота – все безнадежнее. Они сидели друг против друга, как два непримиримых врага. Их мертвая любовь была бессильна.
Ненси встала и быстро, бесшумно вышла из комнаты.
Он продолжал сидеть неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на лице, только глаза стали будто еще темнее и по бледным, исхудалым щекам тихо скатились две крупные слезы. С болезненным напряжением слушал он упорный тик-так маятника в будильнике. Минуты летели, а с ними все дальше и дальше уносились воспоминания, тревоги, муки, радости, мечты…
Ступив на тротуар освещенной электричеством улицы, Ненси очнулась и опустила вуаль на заплаканное лицо. Она стала подвигаться в дому, выбирая самые безлюдные улицы. Ветер дул ей на встречу, освежая пылающие щеки, и холодил грудь. На душе у нее было так, как бывает, когда возвращаешься с похорон милого, близкого человека, но только еще безотраднее. Ни заколоченного гроба, ни земляной насыпи, ни надгробного пения, ни рыданий! Лишь в глубине души зияла черная, глубокая могила, ни для кого не видимая, но тем еще более страшная.
Ненси потерялась в хаосе чего-то бесформенного и бесконечного: уныние, беспомощность, полная прострация чувств и мыслей и в то же время сознание неизбежного, непреоборимого в этом бесформенном и бесконечном.
– Должно бы так быть, но нет – так не будет! Но почему же так не будет, когда должно? – тоскливо спрашивала Ненси.
– Должно, но не будет! – отвечал неумолимый внутренний голос.
Вернувшись домой, Ненси крикнула под дверьми бабушкиной комнаты:
– Не беспокойся, все устроилось отлично. Я ложусь спать – у меня голова болит. Завтра расскажу все.
Пройдя прямо в себе, она заперлась на ключ. Выдвинув ящик письменного стола, она вынула оттуда пачку перевязанных лентой писем. Медленно и задумчиво перебирала она листы, исписанные широким, размашистым почерком. Медленно скатывались слезы, упадали на бумагу и, смешанные с чернилами, расплывались на бумаге причудливыми узорами. Окончив чтение, Ненси подошла в небольшому камину, бросила письма и подожгла их. Она бросила их с таким ощущением, как бросают землю на крышку поставленного в могилу гроба, чтобы звенящий звук ударившейся земли как бы подтвердил, что кончено все. Когда, судорожно вспыхнув, погас последний язычок синеватого пламени, и от дорогих воспоминаний осталась только маленькая кучка черно-серого пепла, Ненси вернулась к столу и написала: